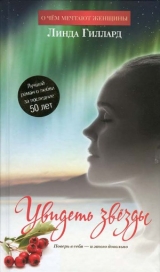
Текст книги "Увидеть звезды"
Автор книги: Линда Гиллард
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Линда Гиллард
Увидеть звёзды
Моему отцу Чарльзу Фредерику Гилларду (1925–2005)
Всяк видит то, что ближе его сути.
Уильям Блейк
Зима 2006
Глава первая
Марианна
Этот рассказ не о привидениях. Совсем нет. Но было Рождество, и мне показалось, я его увидела. Вернее, услышала. Вообще-то призрак может привидеться,а не прислышаться. Разумеется, они иногда звякают цепями и душераздирающе стонут, однако же, насколько мне известно, обычно их все-таки видят. Только мне этого не дано.
Но мне действительно кое-кто прислышался.
Женщина осторожно выбралась из такси, наклонившись, извлекла увесистую сумку и пакет. Аккуратно опустила их на край тротуара и стала нашаривать в просторной дамской сумочке кошелек.
Наконец такси тронулось, а женщина повернулась лицом к серой террасе в неброском изящном георгианском стиле, типичном для Эдинбурга. На женщине было элегантное шерстяное пальто и кокетливая бархатная шапочка, сапожки. Вытянув ногу, она осторожно нащупала носком кромку тротуара, встала. Слегка нагнувшись, подняла сумки, потом, не оглядываясь по сторонам, направилась к крыльцу. Человек с острым слухом мог бы разобрать, как она шепотом отсчитывает шаги.
Сделав три шага, она услышала шорох велосипедных шин и тут же – их шипение из-за нажатого тормоза.
Затем раздался негодующий юношеский вскрик:
– Черт! Не видите, что я еду? Слепая, что ли?!
Женщина, вздрогнув, обернулась на голос. Неуверенными жестами стала поправлять сбившуюся набок шапку, но голос ее был твердым и решительным:
– Да. Представьте себе.
Марианна
Так оно и есть, я слепая.
Секунды две я выжидаю, когда вы оправитесь от изумления.
Потом вы обычно спрашиваете, нет ли у меня собаки-поводыря, золотистого лабрадора? Или белой трости? Или уж хотя бы надела большие темные очки, как у Роя Орбисона [1]1
Рой Орбисон (1936–1988) – популярный американский музыкант, всемирную известность принесла ему песня «Хорошенькая женщина», которая звучит в фильме «Красотка».
[Закрыть]и Рэя Чарльза [2]2
Этот легендарный американский певец разрушил барьеры между джазовой и духовной музыкой, в семь лет потерял зрение.
[Закрыть].Разумеется, я сама виновата, брожу тут с таким видом, будто я нормальная.(Многие так говорили. Но мне-то откуда знать, какой у меня вид?)
– Я действительно слепая, а вы не имеете права гонять тут по тротуару. И к тому же у вас есть звонок и не мешало бы хоть иногда им пользоваться.
Но парень уже укатил. Она наклоняется за оброненным пакетом, чувствует под пальцами осколки разбитого стекла, слышит, как что-то капает и капает на тротуар. С бьющимся сердцем она поднимается по ступенькам крыльца и начинает лихорадочно искать в сумочке ключ. Ну и что теперь? Как они без бургундского будут готовить boeuf bourguignonne? [3]3
Мясо по-бургундски (фр.).
[Закрыть]Вот ужас-то! И безе в коробочке тоже наверняка вдребезги, совсем как ее нервы. Почувствовав металлический холодок мобильника, она думает, не позвонить ли сестре, пусть докупит то, что загублено.
Вот и ключ, но он выскальзывает из ее озябших пальцев. Затаив дыхание, она прислушивается, чтобы по слабому позвякиванию определить, куда он упадет. И снова наклоняется, обшаривая руками каменные плиты, проклиная парня на велосипеде, Рождество и особенно неистово свою слепоту. На руки ей падает что-то невесомое и влажное.
Снег…
В глазах покалывало от подступивших слез, она торопливо их сморгнула и снова начала шарить у порога, сунула ладонь в горшок с кустиком, стоявший сбоку у двери, легонько его потрясла, надеясь услышать, как падает застрявший в плотных вечнозеленых листочках ключ.
Тишина.
Она уже собралась сесть на ступеньку и всласть пореветь, но услышала, как кто-то подходит к крыльцу. Остановился. На миг накатил привычный страх. Шаги были мужскими.
– Вам помочь? – Да, голос мужской, незнакомый, видимо, человек этот не из местных. – Или…
– Я уронила ключ и не могу найти. Я слепая.
Он взбегает по ступенькам, слышно, как у него в кармане позвякивает мелочь.
Проходит несколько секунд, и…
– Вот, свалился на первую ступеньку, – сказал он. – Держите.
Взяв ее озябшую руку, незнакомец положил ключ на ладонь и тихонько произнес:
– Che gelida manina… [4]4
Какая холодная ручка (ит.).
[Закрыть]
– Перчатки я тоже посеяла. Наверно, где-то выронила.
– Нет-нет, торчат из кармана.
– Правда? – Она нащупывает их. – Спасибо. И за ключ тоже.
– Не за что. Вынужден вас огорчить, ваши покупки залиты кровью.
– Это красное вино. Уронила пакет. Такой уж выдался сегодня день. – Она открыла сумочку и запихнула туда перчатки. – Любите оперу? Или вот так запросто со всеми по-итальянски?
– У меня слабость к Пуччини.
– Музыка действительно чудесная, ну а само содержание опер меня всегда раздражало. Эти его страдалицы, вечные жертвы неотразимых мужчин. В нашем двадцать первом веке они кажутся довольно нелепыми.
– Я почему-то никогда об этом не задумывался.
– Еще бы. Вы ведь мужчина.
– Такая уж мне досталась хромосома. Простите.
– Нет, это вы меня простите. – Она рассмеялась. – За грубость. Не сердитесь. Жутко перенервничала, когда выпал ключ. Разозлилась на себя, вот на вас и накинулась. Это нечестно. Ключ у меня на цепочке, я обматываю ее вокруг запястья, так наверняка не уронишь… а тут очень торопилась и забыла… Вы со Ская?
Он на миг задумался.
– Да-а… Вернее, там я вырос. А родился на Харрисе. Но родителей моих манили огни большого города. Поэтому они переехали в Портри [5]5
Столица шотландского острова Скай.
[Закрыть].
Она снова рассмеялась.
– Так, значит, вы хорошо знаете Портри?
– Хорошо наслышана о нем. Я знала одного жителя Ская. Sgiathanach [6]6
Гэльское название острова Скай. Наиболее распространенное толкование этого слова – «крылатый остров».
[Закрыть].
– Это люди верные. Нас всегда тянет туда вернуться.
– Правда?
– Еду туда при всякой возможности. Там великолепно. Для тех, кто равнодушен к развлекансам.
– Но вашим родителям там не понравилось?
– Ну почему же? Им посчастливилось умереть в собственных постелях. – Она почувствовала, что он улыбается. – Не вынесли культурного шока.
– Не всем выпадает такая легкая смерть.
– Это точно. Многим везет гораздо меньше.
– Спасибо вам. Выручили.
– Да не за что. Справитесь с осколками?
– Конечно. Справится моя сестра, только сначала отчитает меня за самонадеянность. Я просто оставлю пакет тут, у двери. Все равно продукты придется выбрасывать.
– Ясно. Вы уверены, что я больше ничем не смогу помочь?
– Спасибо. Теперь все будет хорошо.
Она слушает, как он спускается по лестнице: его шаги удаляются. И уже с некоторого расстояния донеслось:
– Может, встретимся в опере? Смею надеяться, что «Турандот» соответствует вашим строгим феминистским требованиям?
– Вполне. Эта девушка в моем вкусе. Заглатывает мужчин, разрывает клыками, а потом выплевывает. Не отгадал загадку – голову долой!
– Позвольте уточнить: принц все отгадал и даже ее проучил. Посредством своего имени, скажи, говорит, как меня зовут…
– Верно. Ненависть Пуччини к женщинам обязательно в конечном итоге торжествует.
– Вы замерзнете. Идите в дом. И хорошенько вытрите ноги – вы же стоите в луже красного вина.
– Еще немного, и стояла бы в луже слез.
– Может, как-нибудь увидимся.
– Вы-то, возможно, меня увидите, а я вас точно не смогу увидеть. Всего доброго.
Марианна
Вы когда-нибудь задумывались о том, что наш язык откровенно подыгрывает зрячим? (Наверняка нет, вы ведь можете видеть.) Ну а я… Мало того что не вижу, но еще вынуждена осторожно выбирать при общении с кем-то слова, чтобы не возникало неловкости. Вы только вслушайтесь во все эти фразы: О, я вижу, к чему вы клоните… а теперь рассмотрим вот что… я вижу примерно так… вглядись в то, что таится между строк… не вижу, какая тут связь… все зависит от вашей точки зрения…
Ну что, видите, какая складывается картина?
Я-то, естественно, не вижу.
Многие спрашивают, зачем я хожу в оперный театр? Я не вижу певцов, я не вижу декораций и костюмов, я не вижу игру света на сцене. Могла бы, сидя дома, просто поставить диск, – впечатление будет то же. В ответ я сама спрашиваю у этих людей: разве смотреть на репродукцию «Звездной ночи» Ван Гога или на саму картину – это одно и то же? (Конечно, где уж мнезнать, но я знаю тех, кто плакал, стоя в музее перед этим полотном.)
Тем, кого удивляют мои походы в музыкальный театр, скажу лишь, что именно опера, как никакое другое искусство, помогает с предельной (для меня) полнотой воспринимать мир. Все эти скульптуры, драпировки, обивки, когда удается их потрогать, волнуют меня бесконечно. Прочие театральные постановки, романы, стихи познавательны, интересны, трогательны, ну да, да… только они не захватывают меня целиком и не дают возможности все-таки увидеть. Ямогу узнать у Толстого, почему французы покинули Москву, благодаря азбуке Брайля или аудиозаписи, но я никогда не смогу представить этот город. Или снег. Или человека, тем более огромную армию. Язык у Толстого необычайно емкий, образный, я могу читать его прозу, иногда. Но это не родной мне язык, в том смысле, что он визуальный.
А вот музыку мне «читать» гораздо проще. Впрочем, ее и читать не нужно. Она проникает прямо в сердце, бередит душу, будит какие-то необъяснимые чувства, вызывает лавину мыслей и слуховых образов. Сидя в зале, я гораздо больше сосредоточена на своих эмоциях, чем на самой опере. Иногда меня настолько будоражат все эти звуки и ощущения, что мне кажется, будто впечатление от увиденногобыло бы гораздо менее ярким.
Тому человеку я соврала, что не люблю жертвенных героинь Пуччини. Вернее, соврала отчасти. Я не их не люблю, а их переживания, эти никчемные, бессмысленные страдания, что у Тоски, что у Мими, что у мадам Баттерфляй. Если вдуматься, они вызывают у меня – подспудно – злость. А я не хочу пускать в душу злость, тем более когда оказываюсь в оперном театре.
У меня есть гораздо больше поводов для злости.
Злость не мое пристанище и не мой цвет – я такой не ношу.
В моей огромной спальне стоят два шкафа. В одном – черные вещи, в другом – белые и цвета слоновой кости. Так повелела Луиза, моя старшая сестра. Что ж, при моих нулевых познаниях относительно расцветок сестрица могла бы одевать меня даже в «небесно-голубой розовый», так шутила наша мама. Мне что небесно, что голубой, что черный, что слоновой кости – все едино.
Носить одежду разных цветов незрячему слишком сложно. Ведь нужно прилично выглядеть и на работе и в обществе, я хоть редко, но выбираюсь в люди, и очень важно чувствовать, что ты ни от кого не зависишь. Поэтому все вещи должны нормально сочетаться, в любых комбинациях. Мы с Луизой тщательнейшим образом все продумали. Темно-синий она отвергла, поскольку у синего очень много оттенков. (Еще она сказала, что ей тошно будет на меня смотреть, это же цвет ненавистной школьной формы, которую мы таскали столько лет.) А черное с белым всегда смотрится неплохо, если я вдруг перепутаю шкафы и схвачу что-нибудь не из того.
Светлая одежда, к сожалению, непрактична. Быстро пачкается, и сразу заметно любое пятнышко. Когда не видишь тарелку, аккуратно есть довольно сложно, поэтому я кучу денег извожу на химчистку. Лу всегда говорит, какие вещи уже пора освежить. Зато мне не приходится торчать перед зеркалом, терзаться, что же надеть. А так: сегодня черное, завтра белое. Без вариантов. Иногда Лу уговаривает меня повязать яркий шарфик или накинуть кашемировую шаль – слегка оживить мое строгое одеяние. Она говорит, что у меня красивые глаза, как голубой переливчатый опал, и некоторые цвета очень к ним идут.
Надеюсь, цвет у этого переливчатого приятней, чем название. «Опал», ну и словечко, даже не подберешь рифму, как к словам «пинта» или «апельсин». Впрочем, возможно, не такие уж эти слова несуразные, просто необычные и поэтому выбиваются из привычного лада. Когда не видишь самого предмета, невольно больше внимания обращаешь на его название. Слова – тоже в некотором роде музыка, и, наверное, я воспринимаю их не так, как зрячие. Луиза с таким благоговением превозносит мои опаловые глаза, это звучит как невероятный комплимент, наверное, потому что опал – драгоценный камень, который, уверяет моя сестрица, сказочно хорош. Я же могу отметить только одно: очень несуразное слово и немного смешное.
Я ношу только черное и белое.
Я никому не делаю зла.
Но и любви, признаться, ни к кому не испытываю. Больше ни к кому.
Монохромное существование – так мог бы сказать про меня зрячий человек, но даже это «моно» предполагает наличие цвета, хотя и одного. Есть еще слово «бесцветный», но все равно тут тоже будет присутствовать какой-то цвет. «Бесцветными» обычно называют скучные и унылые вещи, вероятно, серые или бурые.
Когда мы были еще девчонками, я однажды спросила у Луизы, существует что-нибудь действительнобесцветное. Немного подумав, она назвала стекло. Потом дождь. Значит, вода бесцветная, решила я, нет, возразила она, не всегда. Та, что в отдалении, море или озеро, цветная, поскольку в ней отражается небо. Бесцветны отдельные капельки; капли дождя, пока они еще в воздухе, бесцветны.
Удивительно. В тех вещах, которые всем кажутся бесцветными, для меня – целая палитра. Помимо прикосновений, только дождь помогает мне ощутить трехмерность предметов. Вода, падающая с неба, ударяется о землю, и по этим звукам я могу определить форму, размер и плотность струй или капель.
Вода бесцветна? Я так не считаю.
Харви. Как давно его нет! Я почти уже не думаю о нем, дажене думаю, наверное, потому, что никогда не могла увидеть что-либо о нем напоминающее, – у меня нет фотографий, видеозаписей нашей свадьбы, у меня нет детей, всего того, что освежает и подпитывает память о человеке. Я помню только его тело и голос. Такой слабый, ведь он очень тихо говорил, возможно, наперекор тем, кто почему-то думает, что слепота поражает не только глаза, но и уши, и при разговоре со мной эти люди почти кричат. Харви никогда не повышал голоса. Он знал, насколько у меня тонкий слух, что он отчасти заменяет мне зрение.
Но Харви умер.
И как этопроисходило, я тоже не видела.
И снова я мысленно с ним. Не с Харви, а с тем человеком. Тот день в театре. В оперном. На «Валькирии». В антракте Луиза купила нам по коктейлю и, усадив меня за столик, отправилась в туалет, где была очередь. Я очутилась (бедные мои уши!) в густом вареве из звуков: кудахтанье старушек; звяканье чайных ложек, постукивание громоздких чашек; рокот мужских голосов, настырно бубнящих в мобильники; болтовня англичанок, будто лошадиное ржание, шотландцы, издававшие нечто похожее на скрежет железных мочалок о раковину, брр. К тому же меня уже здорово утомила громыхающая музыка (Вагнер!), и я готова была, выдув оба джина с тоником, сбежать в очередь к Луизе. Но тут мужской голос поинтересовался, есть ли за столиком свободное место. Я сразу поняла, кто это. Собралась ответить, и тут он меня тоже узнал и, усаживаясь рядом, спросил, как мне сегодняшний состав исполнителей.
Голос у него как ириска. Именно. Гладкий и шелковистый. Негромкий. Без малейшей примеси ванили, но при этом в его манере говорить ни намека на легкую тягучесть, которую Харви перенял у своей матери, она родом из Канады. Нет, не то: этот голос больше напоминал хороший темный шоколад, насыщенный почти терпкой сладостью, но с отчетливой горчинкой. Четкие согласные, как у всех шотландских горцев, радовали слух, как звук разламываемой плитки шоколада, дорогого шоколада. Незрячие с пристрастием изучают голос, как все остальные – внешность. Так что позвольте сравнить голос моего собеседника с шоколадом. С настоящим. Не батончик «Кэдбери», а «Грин-энд-блэк».
Когда он заговорил со мной в первый раз, на крыльце, я сразу определила, что голос у него не такой, как у Харви. Естественно, не такой, ведь Харви нет, он умер. (Я хоть и слепая, но все же не чокнутая.) Услышав этот голос снова, я сразу поняла, кто это, но опять вспомнила про… Короче, я уже думала про Харви, когда незнакомец назвал себя.
– Харви.
– Простите?
– Моя фамилия Харви. Кейр Харви.
– Харди?
– Хар-ви. Кейр Харди был основателем Шотландской рабочей партии.
– Это я знаю. И он умер.
– Да, но его дух продолжает жить.
– В вас?
– Чего не знаю, того не знаю. Он, конечно, мог избрать мое тело своим жилищем, но явно не счел нужным меня об этом уведомить.
– Ну и как? Ощущаете тягу к социализму?
– Практически сногсшибательную.
– Этого следовало ожидать. Конечно, если в вас действительно обосновался дух Харди.
– Вас поражает моя одержимость?
– Нет-нет… скорее уж выдержка.
– Я же совсем не об этом. Чей еще дух мог бы произвести на вас столь яркое впечатление?
– Думаю, вашими молитвами, как раз Кейра Харди. Может, вам стоит сменить фамилию?
– Я Харви.Как кролик.
– Кролик?
– Из фильма. В котором играет Джеймс Стюарт.
– В каком именно?
– «Харви».
– Я его не видела.
– А какие-нибудь видели?
– Нет. Я не вижу с самого рождения.
– Ясно. Вообще-то фильм стоящий. Харви – это здоровущий кролик, футов шести. Его видит только Джеймс Стюарт, который постоянно в подпитии, правда, борется с этой своей слабостью. Кролик оказался отличным другом, хоть и невидимка.
– А вы не стали извиняться.
– За что?
– Когда я сказала, что не вижу с самого рождения, вы не произнесли трагическим тоном «ах, простите». Обычно все извиняются.
– Я же в этом не виноват, за что извиняться? Или так полагается?
– Думаю, это скорее свидетельство сочувствия. Дружеского участия.
– Или смущения, что более вероятно.
– Да, очень может быть. А вас это не смутило.
– Что меня действительно смутило, так это то, что вы приняли меня за покойного социалиста.
– Это не беда. Я ведь могла принять вас и за здоровущего, шести футов, кролика.
– А вдруг я и впрямь кролик?
Маленькая, но очень решительная женщина средних лет протискивается сквозь толпу зрителей, набившихся в бар. Укутав расшитой стеклярусом накидкой пухлые плечи, она ловко расчищает локтем путь, преодолевая затор из вечерних костюмов и платьев – ей нужно подойти к низенькому столику, за которым, глядя непонятно куда, сидит женщина, в руках у нее стакан с джином. Женщины очень похожи друг на друга. Обе светловолосые, с правильными чертами, голубоглазые. Эффектная золотистость блондинки, лавировавшей в толпе, безусловно обретена в парикмахерской. У Марианны волосы пепельного оттенка, слегка тронутые сединой, зачесаны назад и собраны в узел, без всяких затей, как у балерины. Несмотря на седые прядки, она выглядела моложе спешившей к ней сестры, чье круглое лицо лоснилось от испарины, хотя она совсем недавно попудрилась.
– Солнышко, прости, что так долго. – Наклонившись, она схватила стакан и отпила большой глоток. – Боже, лед почти растаял. – Она поставила стакан на столик. – Невозможная очередь. А потом меня отловила почитательница. Выясняла, когда выйдет «Ночь древняя и Хаос». В общем, надписала ей книгу – у меня в сумке завалялась парочка экземпляров. Она была неимоверно тронута.
Марианна, не поворачивая головы, вздохнула:
– Да уж, Лу, ты всегда находишь изумительно нелепые названия.
– Между прочим, это Мильтон.
– Вот именно. Но ты-то не Мильтон, моя милая. И помолчи минутку, позволь тебе представить мистера Харви. – Она повела рукой в сторону соседнего кресла. – Тот самый человек, который великодушно отыскал мой ключ – в день Рождества, помнишь? Мистер Харви, это моя сестра, Луиза Поттер, она, между прочим, знаменитость. Пишет на редкость дурацкие книжки.
Луиза напряженно хохотнула:
– Марианна, солнышко мое, тут никого нет!
Кресло пустое.
– Пустое? – В больших опаловых глазах не отразилось никаких эмоций, Марианна лишь слегка повернула голову направо, прислушиваясь. – Но он только что был здесь. Мы разговаривали. Странно, очень странно!
Луиза плюхнулась в свободное кресло слева от сестры и собралась скинуть туфли на высоких каблуках. Но, представив, как мучительно будет снова втискивать в них ноги, не решилась.
– И хорошо поболтали? С твоим загадочным другом?
– Да, спасибо.
– Что же он сбежал, ничего не объяснив? Это неприлично, крайне неприлично. – Луиза покрутила бокал, встряхивая остатки льда. – Может, увидел знакомого. Или он тут с кем-то. Или его срочно вызвали. Вероятно, он хирург.
– Ради бога, Лу, почему ты вечно что-то сочиняешь?
– Ты же сама сказала, что это странно, вдруг взял и исчез. Хотелось бы понять почему.
– Он точно не хирург.
– Да? А чем он занимается?
– Понятия не имею, но наверняка не хирург. Мы пожали друг другу руки. У него шершавая ладонь, натруженная. По-моему, он человек не кабинетный, ему приходится работать вне помещения.
– Ну-ну, и кто из нас сейчас сочиняет?
– Я не сочиняю, а делаю выводы.На основании собственных ощущений.
– Черт, звонок на второй акт. – Луиза набрала полный рот водянистого джина и с трудом встала: ноги болели, намятые туфлями. – Ты хорошенько прислушайся. Может, он сидит неподалеку от нас.
– Ему не с кем разговаривать. Он тут один.
– Это уже любопытно. Некабинетный мужчина с натруженными руками, посещает оперу, причем один… и вроде бы не старый.
– Да, рукопожатие было крепким.
– Значит, молодой?
– Нет, не молодой. Судя по манере говорить и по голосу. Но ведь я могла и ошибиться, мало ли какой у кого голос.
– Он с тобой заигрывал?
– Еще чего! Ты действительно невозможный человек, Лу!
– Ерунда! Просто я по натуре неисправимая оптимистка с неистребимым романтизмом.
– Тошнотворное сочетание, ты уж прости.
– Спасибо, лапонька. Я тебя тоже очень люблю.
Пока Марианна вставала и нащупывала стоящую рядом трость, Луиза пролистнула программку:
– И сколько еще актов этого кошмара?
– Два. В длинный перечень своих недостатков можешь смело включить и «мещанский вкус».
– Я твердо усвоила, что Вагнер гениальный оркестровщик. Ты же мне все уши прожужжала, но мне искренне жаль несчастных певцов, им приходится скакать из одной тональности в другую. То ли дело Пуччини, его я могу слушать сколько угодно.
– Вот и мистер Харви тоже. – Марианна протянула руку в ту сторону, где слышался голос сестры. Луиза взглянула на непроницаемое лицо, в порыве нежности стиснула ее ладонь, и они побрели вместе с гомонящей толпой, медленно продвигавшейся к залу.
– Действительно очень хотелось бы с ним познакомиться. Одинокий меломан с натруженными руками, обожает Пуччини. Если я введу в какой-нибудь роман подобный персонаж, скажут, что таких людей не бывает.
– В современных книжках персонажи вообще не особо достоверны. Тем более в твоих.
– Ну, я пишу фантастику, солнышко, – ничуть не обидевшись, отозвалась Луиза и похлопала сестру по руке. – Полный простор для творчества. Читателю не к чему гадать, достоверно или нет. Роман как легкий десерт. Вроде шоколадки.








