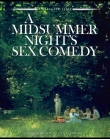Текст книги "Прежде чем ты уснёшь"
Автор книги: Лин Ульман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
– А я, я настоящий солдат?
– Думаю, да, Карин. А вот Жюли – нет. Из нее солдат не получится, никогда она им не станет. А из тебя, Карин, солдат выйдет отменный, ты будешь лучше, чем Анни. Спорю на сто крон.
А вот и самая желчная пожилая дама в мире – тетя Сельма, бабушкина младшая сестра восьмидесяти двух лет; на ней длинное платье с красными цветами и красные туфли на высоких каблуках; белесые, как у младенца, жидкие волосы сегодня уложены в прическу. Обычно короткие светлые космы торчком стоят у нее на голове, делая ее похожей на идиотку, каковой она и является на самом деле. Ледяные глаза водянистого цвета, нос крючком, руки, как у ведьмы, сама кривобокая, с толстыми щиколотками. Была, однако, в ее внешности одна примечательная деталь – мягкая, нежная кожа вокруг рта, губы, как у девушки, полные, яркие, готовые к поцелую.
Когда бабушка умерла, тетя Сельма откупорила бутылку коньяка, чтобы отпраздновать это событие, и не упустила случая рассказать всем, пришедшим на похороны, что коньяк превосходный и стоил, между прочим, девятьсот пятьдесят крон. Бабушка и Сельма терпеть не могли друг друга – что-то произошло между ними в Бруклине, очень давно, еще до войны, когда обе они были молодыми и жили в Америке.
Надо сказать, Сельма вообще терпеть не может людей. Она считает их презренными, слабыми, глупыми, смехотворными и ничтожными существами – но назвать ее несчастным мизантропом никак нельзя. Напротив. Желчность придает ей сил. Никто в нашей семье не смеется так громко, долго и злобно, как Сельма. Она выкуривает по сорок сигарет в день и может перепить за столом кого угодно. Напившись, Сельма начинает орать во всю глотку, что восьмидесятидвухлетним старушкам совсем не свойственно, и заводит длинные речи о чужеземных странах, в которых ей довелось побывать. При всяком удобном случае Сельма ругает Анни, которую она по-настоящему терпеть не может.
– Здравствуйте, тетя Сельма, – говорю я и, не в силах удержаться, тихонько хихикаю: сейчас начнется.
– Здравствуйте, тетя Сельма, – говорит Анни.
– Избавь меня от своего общества, Анни, – отвечает тетя Сельма.
Она прикуривает сигарету и, вцепившись своей ослепительно белой костлявой рукой в руку Анни, шипит ей в ухо:
– Анни, когда ты последний раз смотрелась в зеркало? С возрастом ты становишься все более отвратительной. Ты не из тех, кому старость придает особый шик, Анни. Пойми, у тебя уже все позади, моя девочка. Все позади!
Сельма купается в своей ненависти, она упивается своим презрением и ехидством. Получает от этого удовольствие. Ей нравится роль ведьмы в пряничном домике, зубастого волка, переодетого бабушкой, горного тролля: «У-у, – завывает тетя Сельма. – Страшно?»
Остановившись на пороге церкви, Сельма таращится в темноту.
– Кого я вижу, это же Фриц и Эдель! – внезапно кричит она и, потушив сигарету, ковыляет внутрь.
Фриц и Эдель сидят в третьем ряду, бок о бок, почти прижавшись друг к другу, как два яйца в картонке. Сельма ковыляет к ним. Эдель медленно оборачивается, видит тень от тщедушной кособокой фигуры, узкий профиль, широкую злорадную ухмылку. Вид Сельмы не предвещает ничего хорошего, и Эдель берет сына за руку. Фриц затих, уставившись в пол и втянув голову в плечи. Сельма торжествует, ей нравится, когда ее боятся, с довольной миной она ковыляет прямо к третьему ряду, где сидят Эдель и Фриц, хлопает Фрица по плечу и говорит: «Если ты на меня сегодня блеванешь, я тебе отвечу тем же».
Гости прибывают один за другим. Нарядные и веселые, они пришли отпраздновать свадьбу Жюли и Александра. Вот идет Элсе, сестра Анни, с ней муж и четверо взрослых детей. Лицо у Элсе птичье, голос высокий, она много улыбается. Элсе приехала со своей семьей из Висконсина. «Beautiful, beautiful, what a beautiful day for a wedding!» [4]4
Прекрасно, чудесно, какой великолепный день для свадьбы! (англ.)
[Закрыть], – восклицают они и входят в церковь, щедро рассыпая вокруг мокрые поцелуи, смех и сильный запах духов.
Минутой позднее появляется свидетельница Жюли Валь Брюн. На каждой свадьбе, в каждой истории и в любой семье есть девушка, больше похожая на сирену, чем на человека. Валь Брюн как раз такая. Длинноволосая красавица – настолько нежная, что хочется съесть ее со сливками.
А уж про голос и говорить нечего.
Она может сказать «добрый день», «привет», «прекрасная погода!», «как дела?», а голос ее говорит совсем иное. Этот голос был низким и глубоким, в нем слышались глубокий звон, прекрасная музыка и смешливое обещание чего-то приятного.
Казалось, на самом деле она говорит: «Я выбрала тебя. Оставайся со мной, и в твоей жизни произойдет нечто необычное и интересное».
Валь сначала здоровается с Анни, потом со мной.
Она по очереди целует нас в щеки.
– Нет, – шепчет Анни, когда Валь исчезает в проеме церковных дверей, – эта девушка мне доверия не внушает.
Вот идут родители Александра. Они поднимаются по лестнице. Мать пришла в национальной одежде, на отце – темный костюм.
– Здравствуйте-здравствуйте, – говорит Анни.
– Здравствуйте, – говорю я.
Позвольте представить вам Осе и Оге: родителей нашего необыкновенного Александра. Они одного возраста, оба маленькие, худые, с одинаковым румянцем на щеках, одинаковым мягким взглядом голубых глаз и блестящими белыми волосами. Анни улыбается, улыбаюсь и я. Осе говорит, что для свадьбы выдался чудесный денек – и вряд ли кто-нибудь с этим поспорит.
– Да, чудесный сегодня день, – отвечает Анни, щурясь на солнце.
Остальные тоже, прищурившись, смотрят на солнце.
– Еще бы, – задумчиво произносит Оге. – Вот и солнце вышло.
– Да, – говорит Анни.
Все смотрят на Анни.
– А по-моему, для свадьбы выдался чудесный денек, – повторяет Осе.
– Денек что надо, черт побери, для свадьбы в самый раз! – кричит брат Александра Арвид, который пыхтя поднимается по лестнице. За ним следует его жена Торильд, где-то в хвосте плетутся трое бледных детей.
Позвольте представить вам Арвида и Торильд: несчастные раздраженные люди, они никак не возьмут в толк, зачем поженились двадцать лет назад, сразу после гимназии, и почему не расстались, когда шестнадцать лет назад Арвид влюбился в девушку по имени Каролине, и почему продолжают жить вместе, когда все чувства достигли абсолютного предела: абсолютная ненависть, абсолютный страх, абсолютное презрение, абсолютное отчаяние.
Вернемся немного назад, к предсвадебному обеду. «Это будет обед для ближайших родственников Жюли и Александра, – сказала Торильд, – чтобы мы могли узнать друг друга ближе». Торильд пригласила Жюли, меня, Александра, родителей Александра, Анни и папу, но папа не пришел. Еда была съедена, вино – выпито. «Давно я не ела такого славного жаркого из баранины», – довольно вздохнула Анни. Затем все перешли в гостиную и принялись за кофе, запеканку, «наполеон», торт со сливками, портвейн и коньяк.
Раздвижные двери отделяли столовую от гостиной, они были почти закрыты, но в середине все-таки оставалась небольшая щель. Со своего места я видела в эту щель Арвида и Торильд: Арвид в одиночестве сидел возле стола, уставленного грязной посудой, и водил пальцами по стакану с виски. Торильд в ожидании, пока сварится кофе, убирала тарелки. Арвид одной рукой поглаживал свой живот, а другой пытался схватить Торильд. «Мне сейчас так хорошо, – печально говорил он. – Мне так хорошо. – Арвид опрокинул в себя остатки виски. – Торильд, давай трахнемся?»
«Тс-с», – бормотала Торильд, кивая в сторону раздвижных дверей.
«Хватит на меня шикать», – заныл Арвид, потянувшись к Торильд. Стул покачнулся.
«Тс-с», – прошептала Торильд, на этот раз чуть громче.
Ее свекровь Осе, сидевшая в гостиной, бросила испуганный взгляд в сторону щели. Все ее маленькое тельце напряглось, мочки покраснели. Она напоминала белку.
«Прошу тебя, только не сегодня, – сквозь зубы процедила Торильд, – у нас же гости, ну что на тебя нашло».
«А что на меня нашло, золотко мое?» – пробормотал в ответ Арвид, сложив губы для поцелуя.
«А вот то и нашло», – прошипела Торильд и ушла, прихватив с собой кофейник и блюдо с тортом.
Она раздвинула гремящие дверцы и закрыла их за собой.
«А вот и еще один торт!» – объявила она, улыбнувшись гостям.
Гости восторженно зааплодировали.
А за закрытыми дверями Арвид шептал: «Ничего на меня не нашло, черт побери. Ничего на меня не нашло! А вот ты просто сука», – проговорил он и упал со стула.
Я зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, вижу, как в конце улицы из-за угла появляется мужчина и направляется в сторону церкви. Это он. Это должен быть он. Он станет моим. Я нашла его. Я соблазню его. Я смотрю на стоящую рядом со мной Анни.
– Это он, – говорю я. В мои планы не входило так громко об этом сообщать, но Анни меня услышала.
– Кто он? – спрашивает она.
– Не знаю, это я просто так, – замявшись, отвечаю я и смотрю на мужчину, который идет в нашу сторону.
– Кто это, Карин? – снова спрашивает Анни, такая зеленая и прекрасная в своем платье.
– Никто, – говорю я.
Анни стоит на солнце, я – в тени. Вот так всегда, думаю я и перебираюсь к ней поближе.
Я вспоминаю, как однажды Анни, Жюли и я ехали в поезде из Тронхейма в Осло. С нами был шведский приятель Анни Бертиль Свенсон. Бертиль Свенсон был уже вторым любовником Анни после того, как ушел папа. Анни не была бы Анни, если бы за время пути не взглянула на своего любимого и не спросила:
– Ты влюблен в меня?
– Конечно, влюблен, – искренне ответил он.
– А ты знаешь, что стоит мне только посмотреть на какого-нибудь мужчину, и он сразу в меня влюбляется? – спросила Анни, широко раскрыв глаза.
Бертиль Свенсон посмотрел на Анни.
– Еще бы, у тебя такие красивые глаза, – сказал он.
Жюли вздохнула, я посмотрела на Анни, поезд катился дальше.
– Сейчас, сейчас вы сами все увидите, – сказала Анни. – Как только какой-нибудь мужчина войдет к нам в купе, кем бы он ни был, – он сразу в меня влюбится. Это я вам обещаю.
– Договорились, – сказал Бертиль, закрыв глаза.
Поезд катился дальше.
Дверь отворилась, и в купе протиснулся толстый потный тип с прилизанными волосами; сконфуженно осмотревшись вокруг, он сел прямо напротив меня. Он запыхался, покраснел, словно бы извиняясь за сам факт своего существования.
На нас он не смотрел – наверно, не осмеливался – и отчаянно сопел, уткнувшись в развернутую газету «Афтенпостен». А может быть, он уже тогда понял, что стал жертвой, которую мимоходом собирается сцапать Анни?
Анни встала и, поменявшись со мной местами, села напротив мужчины, кашлянула, мужчина поднял глаза – и тут Анни улыбнулась ему.
У нас на улице Якоба Аалса можно было составить словарь разновидностей плача Анни. Иначе обстояло дело с ее улыбкой. Улыбка у Анни была одна, и мужчины от этой улыбки падали замертво. Анни унаследовала ее от своего отца, Рикарда Блума.
Анни улыбнулась мужчине, тот слабо улыбнулся в ответ и вновь спрятался за газетой.
Анни кашлянула еще раз. Мужчина попытался целиком укрыться за газетой.
Анни кашлянула в третий раз и тихонько потрогала его ногу своей. Встрепенувшись, он посмотрел на Анни. Она улыбнулась ему. Мужчина покраснел, глаза его забегали по купе. Жюли, я и Бертиль Свенсон делали вид, что ничего не замечаем. Поезд катился дальше.
Мужчина взглянул на Анни – она улыбнулась ему. Он посмотрел в потолок и опять на Анни – Анни улыбалась. Он уставился в газету, затем на Анни – она улыбалась. Он посмотрел на дверь, потом на Анни – она улыбалась. Мужчина посмотрел в окно, опять на Анни – но она на него не смотрела. Он просто-таки рухнул за своей «Афтенпостен», да-да, взял и рухнул. (Что ты себе вообразил? Неужели решил, что эта необыкновенная женщина все бросит и сойдет с тобой на первой же остановке? Ты что, серьезно?)
Анни дала ему время на размышления. Поезд катился дальше. Она долго испытывала его терпение. Но в конце концов смилостивилась. Она повернулась. Солнечный луч переместился следом за ней. Анни повернулась, и луч преломился в том же направлении. Мужчина недоверчиво выглянул из-за газеты, посмотрел на Анни и увидел, что она улыбается. Анни улыбалась. Она смотрела на него и улыбалась. Больше того. Она не просто смотрела на него и улыбалась, она видела его насквозь, видела все его существо, она смотрела на него так, как не смотрел прежде никто, и он не покраснел. Не попытался спрятаться. Он отложил в сторону газету. И улыбнулся в ответ. Он раскрыл рот, чтобы что-то сказать. В эту минуту он хотел рассказать ей все. Хотел рассказать ей о себе все. Все на свете он хотел разделить с этой женщиной, с этой королевой, с этим ангелом, повстречавшимся ему в поезде. Он раскрыл рот, чтобы что-то сказать.
Жюли все видела. Я все видела. Бертиль Свенсон все видел. Сомнений не оставалось: перед нами, в поезде «Тронхейм – Осло», сидел влюбленный слегка полноватый мужчина с раскрытым ртом. Анни кивнула, словно говоря: «Вы сами все видели, для меня это сущий пустяк – один лишь взгляд, мимолетная улыбка, и дело сделано». Мужчина раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но для Анни это было уже неважно. Она перестала ему улыбаться. Она его не замечала. Он перестал для нее существовать. Тебя больше нет. Все очень просто: тебя больше нет.
Достав из сумки щетку для волос, Анни стала расчесывать свои золотистые волосы; взмах рукой, потом еще один – щетка плавно и спокойно скользила по золотистым волосам, а поезд катился все дальше и дальше.
Кто он, я не знаю, он подходит ближе; может, друг Александра или родственник? По лицу не определишь. На руках он держит маленького ребенка, девочку, рядом идет светловолосая женщина. Все это совершенно не важно. Я хочу, чтобы этот мужчина стал моим. Кем бы он ни был – мужчиной из кафе, соседом, лицом, мелькнувшим в окне, человеком за стеклом проезжающего мимо автомобиля. Тридцать. Сорок лет. Может, тридцать пять… По лицу не определишь. Но если присмотреться внимательнее – а именно этим я сейчас и занимаюсь, – кое-что начинает проясняться: тонкая кожа на скулах, подбородок и большие зеленые глаза с голубым оттенком говорят о том, как он выглядел в детстве и каким будет в старости. Он подходит ближе. Светловолосая женщина берет его за руку и, улыбаясь, что-то говорит. Затем переводит взгляд на девочку, сидящую у него на руках, достает из сумки лимонно-желтый носовой платок, вытирает ребенку нос и рот. Она улыбается девочке, легонько треплет ее по щеке, и ребенок заливается смехом. Во рту у девочки белеют два верхних молочных зуба. Мужчина целует женщину в лоб. Он целует пальчики ребенку. Подходит ближе. Поднимается по лестнице. Теперь он и его спутница собираются поздороваться с Анни.
– Добрый день, – говорит Анни.
– Добрый день, – отвечает мужчина, протягивает руку и говорит, что его зовут Аароном. Он друг детства Александра. Затем он представляет Анни женщину и ребенка.
Анни улыбается девочке и хочет погладить ее по голове, но та уворачивается. Взрослые смеются, как обычно смеются взрослые над детьми, когда те уклоняются от знакомства с чужими людьми. Я протягиваю руку, чтобы поздороваться. Мужчина меня не замечает. Светловолосая женщина пожимает мне руку и тоже здоровается, на лице у нее дружелюбная улыбка, но сама она уже смотрит куда-то в сторону. Я ей не интересна. Через мгновение она обо мне забывает. Я говорю ей, что я сестра невесты. Светловолосая отвечает:
– Вот как? Очень приятно. Какой прекрасный выдался день для свадьбы! С августом никогда не угадаешь, бывает и прохладно, и дождливо. – Она мило улыбается.
– Совершенно с вами согласна, – говорю я тихо, чтобы заставить ее снова взглянуть на меня. – С августом не угадаешь: то вдруг дождь начнется и льет, льет, льет, ну что тут поделаешь, что? Свадьбу что ли отменять? На тебе, дождь пошел, и катись все к чертовой матери?
Светловолосая, удивленно глядя на меня, отвечает:
– Нет, что вы, я ничего такого в виду не имела, просто хотела познакомиться. Я здесь почти никого не знаю.
Мужчина смотрит на нас, мельком улыбается, но меня не замечает. Он по-прежнему меня не замечает. Я ему покажу! Как – пока еще не придумала. Теперь я поняла, что это будет гораздо труднее, чем я полагала. Я – не Анни: неотразимой меня не назовешь. И такого взгляда, как у Анни, у меня нет, я знаю. Я смотрю на мужчину в упор, смотрю так, как это делает Анни, но ничего не происходит. Ничего. Ноль. Пустота. В его глазах я самая обыкновенная двадцатилетняя девушка, которая стоит на лестнице возле церкви со своей матерью. И все. Но с этим надо что-то делать. Выбора у него нет. Решено: этот мужчина должен стать моим, и произойдет это сегодня, прежде чем праздник подойдет к концу.
Однажды мы с папой смотрели фильм французского режиссера Эрика Ромера «Любовь после полудня». Мы с папой часто ходим в кино. Кино нам нравится больше всего на свете. Каждую неделю он ждет меня возле «Саги», «Клингенберга», «Гимле», «Фрогнера», «Эльдорадо» или «Синематеки» [5]5
Названия кинотеатров Осло.
[Закрыть]. Он покупает билеты и две молочные шоколадки – одну для меня, другую для себя. Помню, как однажды зимним вечером я бежала к нему навстречу вниз по аллее Бюгдё к кинотеатру «Фрогнер»; было уже темно, зажглись фонари, я опаздывала. Папа стоял у входа в своем не по размеру большом потрепанном пальто и курил последнюю сигарету. Когда он повернулся и увидел, как я бегу к нему, он распахнул руки и прокричал: «Добро пожаловать в храм страшащихся жизни!»
В фильме «Любовь после полудня» рассказывается о женатом мужчине, который любит свою жену. Однако начинает встречаться с женщиной, которую немного знал прежде. Эта женщина влюбляется в него и пытается соблазнить, но безуспешно. Они всегда встречаются после полудня. Мужчина работает адвокатом в Париже, но в конторе работы у него не много. Две секретарши, две милые пташки, в курсе всех дел – они отвечают на телефонные звонки и ведут переговоры.
У адвоката прекрасные отношения с женой, она чудесная женщина и любит его. Другая женщина тоже красива, хотя совсем на другой лад. Ей уделяется больше места в картине, она более яркая, порывистая, эмоциональная, более непосредственная и в горе, и в радости.
Что станет делать мужчина? Ответит на любовь этой женщины и будет изменять жене или, поборов искушение, станет упиваться своей верностью и лелеять чистую совесть?
Когда мы выходили из кинотеатра, отец запахнул плотнее пальто и сказал, что на месте того мужчины он бы не отказывал другой женщине. Не потому, что она красивая, а потому, что она не сдается.
– Женщине, которая не сдается, отказать невозможно, – сказал папа.
– А ты изменял Анни? – спросила я.
– Карин, если уж мы заговорили об изменах, я дам тебе один очень хороший совет, – ответил папа. – Когда станешь взрослой, ты оценишь его по достоинству. Не забывай, что этот совет тебе дал я, твой папа, который любит тебя и хочет внести свой вклад в твое воспитание.
– Что за совет?
– Совет такой: никогда не признавайся в измене! Сколько бы тебя ни обвиняли, ни упрекали, ни подозревали и ни предъявляли бесспорных доказательств, – ни за что не признавайся! Ври, как будто речь идет о спасении твоей жизни – ведь ты и вправду спасаешь свою жизнь.
– Так ведь в том-то все и дело, что в этом фильме мужчина не хотел врать, – сказала я.
– Это всего лишь фильм, – ответил папа. – А Ромер – католик-моралист. Спроси у Анни. Если за время нашего знакомства она не изменилась, она ответит тебе так же.
Мы пошли дальше, мимо стоянки такси на площади Тумаса Хефти, к автобусной остановке на углу аллеи Бюгдё и улицы Хафрсфьорд. Изо рта шел пар.
– Хотя вряд ли, – сказал он. – Она никогда не скажет своим детям, что врать – хорошо. По-моему, Анни даже не подозревает о том, сколько раз она успевает соврать за день. Она сама верит в то, что говорит. Таких искренних притворщиц я никогда не встречал.
– Ты ее все еще любишь? – спросила я.
– Что кончено – то кончено, – ответил папа. – Прошлого не вернешь. Так же и в любви. Я люблю тебя и Жюли, этого достаточно. Сердце у человека не больше кулака, – сказал отец, вынув руку из кармана и сжав ее в кулак. Суставы побелели. – Не стоит желать слишком многого, – сказал папа.
Скоро начнется венчание, а мужчина, которого я выбрала, которого я собиралась соблазнить, прежде чем закончится день, по-прежнему меня не замечает. Он даже ни разу не посмотрел на меня. Тем хуже для него. И для меня.
Я вспоминаю сцену из фильма «Любовь после полудня», в которой главный герой едет в метро и думает о красивых женщинах. Он думает о том, что почти все женщины красивы. В каждой из них есть что-то особенное. (Камера выхватывает из толпы женские лица. Перед камерой проходит череда женских лиц, которые видит мужчина в метро.) В каждой из этих женщин есть что-то загадочное, думает он, – то, что свойственно только ей одной и никому другому, то, чего у остальных женщин просто не может быть.
В тот же день, чуть позднее, сидя в кафе в центре Парижа, мужчина продолжает размышлять о красивых женщинах. Было бы хорошо, думает он, иногда иметь на шее небольшой медальон, который делал бы меня неотразимым в глазах любой женщины. Вот, например, подходит он на улице к абсолютно незнакомой женщине и спрашивает: «Пойдешь со мной?» А она тут же беспомощно кивает в ответ, роняя все, что держит в руках, даже если этим чем-то был ее законный супруг.
Такой медальон мне бы сейчас очень не помешал. Тогда мужчине, которого я собираюсь соблазнить, не осталось бы ничего другого, кроме как бросить все и пойти за мной.
Я оборачиваюсь, провожая его взглядом: он поднимается ко входу в церковь, с ним его светловолосая женщина и маленькая девочка, которую он держит на руках; ситуация безнадежна, думаю я. Мне напекло голову, слезы льются из глаз, жарко. Красное платье раздражает кожу, все тело чешется. Анни берет меня за руку и говорит, что пора занимать места. Скоро придут Жюли и папа. Время – без десяти двенадцать, а венчание начнется ровно в полдень.
* * *
В детстве мы с Жюли были похожи. Не столько внешне: она была высокой, худенькой, неуклюжей, со светлыми волосами и широкими, покатыми плечами. Я была маленькой, худенькой и темноволосой. И держалась прямо. Всегда! Похожи мы с Жюли были в другом. Мы любили посмеяться и часто хохотали без удержу, играли в одни и те же тайные игры, читали одни и те же книги. Жюли не замечала, что я на три года младше, она охотнее общалась со мной, чем со своими сверстницами. Но когда ей исполнилось семнадцать, все изменилось, больше ей ничего этого не хотелось.
Самая большая разница между мной и Жюли заключалась в том, что я больше врала. К примеру, если я чувствовала, что вот-вот упаду, я говорила себе: «Я не падаю». И действительно не падала.
Я начала врать, когда была еще маленькой, задолго до того, как папа сказал, что в некоторых ситуациях соврать просто необходимо – как будто речь идет о спасении жизни. Я всегда врала так, как будто моя жизнь висит на волоске. Так было легче. И веселее. Я не делала из этого проблемы. И вполне отдавала себе отчет в том, что я вру. Мне нравилось – и по-прежнему нравится – врать, и хотя все, кроме папы, говорят, что врать нельзя, ни один не смог объяснить мне – почему. Просто нельзя – и все. А для меня главное то, что я всегда вру сознательно, и до тех пор, пока это было так, мое вранье не приносило окружающим никакого вреда.
Врать можно по-разному. Впервые я задумалась о природе своего вранья, когда мне было одиннадцать лет, через год после того, как папа сел в машину и переехал с улицы Якоба Аалса на улицу Тэйен.
У Анни была маленькая короткошерстная светло-коричневая такса, которую она обожала. Между Анни и таксой была такая любовь, что многие кавалеры Анни, глядя на них, диву давались. По-моему, такса напоминала ей о папе. То есть о том времени, когда они жили вместе с папой. О том времени, когда Анни, как она это называет, была по-настоящему счастлива. Папа купил эту таксу в питомнике где-то в пригороде Осло и подарил ее Анни.
«Вот тебе такса, – сказал он. – Я люблю тебя, Анни. Пусть такса будет доказательством моей вечной любви».
Я ненавидела эту таксу, она все время лаяла, она валялась в кровати у Анни, она лизала Анни лицо; звали ее Пете – в честь норвежского боксера Пете Санстёла, которого боготворил дедушка.
Однажды Жюли пошла с ней гулять. С Пете надо было гулять три раза в день, это входило в наши обязанности. Каждый раз, когда мы возвращались домой после прогулок с таксой, Анни кричала из кухни, гостиной или спальни: «Ка-а-арин! Жюли-и! Пете по-большому сходила? А по-маленькому?» Если мы отвечали по-честному – нет, не сходила, может быть, захочет потом, но сейчас не хочет, – тогда нас любезно выпроваживали гулять еще раз. Пусть на улице дождь, снег, град, гроза – Пете надо вывести. С Пете надо погулять. Пете должна сходить по-большому и по-маленькому.
Не думаю, что Пете хоть раз в жизни оценила все, что мы для нее сделали. Она была слишком толстой, живот ее свисал до земли, так что ее сосисочная спина болела, прогибаясь под непосильной тяжестью. Пете не выносила, когда ее тельце или лапки намокали, и если на улице шел дождь, отказывалась выходить или упрямо плюхалась на тротуар: она упиралась своими непропорционально короткими ножками в асфальт, закидывала уши назад и прикусывала поводок, глядя на нас своими большими овальными шоколадно-коричневыми глазами, про которые Анни говорила: «Ну совсем как человеческие».
Мне было не больше одиннадцати, когда я поняла, что ситуация критическая. Я осознала это в тот ледяной январский вечер, когда гуляла по улицам Майорштюа со скулящей и изо всех сил упиравшейся Пете, которая не желала делать то, что ей положено, – она не сходила ни по-большому, ни по-маленькому. Я замерзла, а вот уж чего я совершенно не могу переносить – так это холода. И тогда я решила соврать. Вместо того чтобы подняться на четвертый этаж, зайти в нашу квартиру на улице Якоба Аалса и сказать, что нет, сегодня ничего не вышло, Пете не хочет, – я поднялась на четвертый этаж, зашла в квартиру и сказала: «Пете сделала свои дела, мама, причем не один раз!»
В одиннадцать лет испытываешь удивительное чувство, когда открываешь для себя, что ложь приносит дивиденды. Вместо того чтобы послать меня обратно – вниз по лестнице и снова на улицу, – Анни пустила меня в теплую и светлую квартиру, сказав: «Карин, ты моя умница!»
Я рассказала об этом Жюли. Я объяснила, что надо просто говорить Анни то, что она хочет услышать, а правда это или ложь – не так уж и важно. Я сказала: «Попробуй сама», но Жюли только уставилась на меня и ответила, что у нее так не получится.
На следующий день была очередь Жюли гулять с Пете. Я смотрела, как они выходят со двора, поднимаются по улице Якоба Аалса и сворачивают на улицу Сюмс – Жюли в своих чересчур тесных ботинках и Пете на своих слишком коротких лапах – зрелище было печальное. Настолько печальное – ведь на улице стоял такой холод, такая мерзость, – что я разозлилась на Анни, каждый день подвергавшую нас этим мучениям, побежала к ней в комнату и сказала, что убила Пете. Я сказала, что размозжила ей череп камнем и выбросила ее в Осло-фьорд. Раскрыв рот, Анни неподвижно стояла передо мной, совершенно неподвижно, – первый раз в жизни я видела Анни с отвисшей челюстью – и вдруг она набросилась на меня. «Ты, проклятый вонючий выродок, ты что говоришь!» – заорала она. Она набросилась на меня и стала так сильно трясти, что у меня закружилась голова. Но Анни продолжала трясти меня, и в конце концов я заплакала и сказала: «На самом деле я не убивала Пете, понимаешь?»
Анни отпустила меня. Анни замерла.
А потом снова принялась трясти меня.
«Дело даже не в этом! – орала она. – Дело в том, что ты злая, лживая девчонка!» Голос ее эхом отдавался от стен комнаты. Но постепенно она успокоилась и сказала уже шепотом: «Карин, я люблю тебя, потому что я твоя мать, но ты мне не нравишься».
В тот день я поняла разницу между ложью, которая окупается (Пете сходила и по-большому, и по-маленькому), и той, которая не окупается (я убила Пете и выбросила в Осло-фьорд). Та ложь, которую приходилось раскрывать, заменяя на правду, была совершенно не пригодной к употреблению и себя не окупала. Зато другая ложь, которая оставалась нераскрытой и со временем заменялась на новую ложь, и никогда – никогда! – на правду, – эта ложь приносила хорошие дивиденды.
С тех пор как я уяснила разницу между ложью, которая окупается, и ложью, которая не окупается, я решила, что буду врать всегда, при каждом удобном случае, всю свою последующую жизнь. Чем и продолжаю заниматься.
* * *
Церковный служка открывает и закрывает двери, органист вскидывает руки, люди встают, пастор складывает руки, и все устремляют взгляды на вход в церковь. Сейчас никто не смотрит на жениха, никто не смотрит на Александра, который стоит у алтаря и смахивает невидимую капельку пота под очкастым глазом. На свидетелей – Терье Недтюна и Валь Брюн – сейчас тоже никто не смотрит. Все взгляды устремлены на вход в церковь, потому что там появилась она – Жюли, моя Жюли. Под руку с папой она плавно скользит – да-да, именно скользит! – к алтарю. Она высоко держит голову, единственная из всех она смотрит прямо перед собой, она смотрит на своего жениха, на Александра, который ждет ее у алтаря.
Мне никак не удается увидеть Жюли целиком. Глаз выхватывает крупным планом отдельные детали: крошечные белые цветы у нее в волосах, длинное, вышитое жемчугом кремовое платье из шелка, похожее на одеяние принцесс, бесконечно длинный шлейф.
Жюли идет справа от отца, она крепко держит его за руку, она хочет, чтобы папа шел медленнее, а папе только бы поскорее добраться до алтаря и покончить с этим делом. Во всяком случае, так мне кажется со стороны. Ему не по себе в черном смокинге с красным цветком в петлице и с бабочкой. Я знаю. Ему не хватает пальто, стакана виски и пачки сигарет, но он терпит это ради Жюли – сегодня он отец невесты и должен держать марку. Вышагивая по церкви, он выглядит почти что важно. Вот они приближаются к алтарю, Жюли кладет голову ему на плечо и закрывает глаза. Длится это недолго, всего лишь мгновение, но я вижу, как папа смотрит на Жюли, – если бы не цветы на прическе, он наверняка погладил бы Жюли по голове, как когда она была маленькой. Жюли открывает глаза и высоко поднимает голову. Выпрямившись, словно по команде, они проходят последний отрезок пути до алтаря. Папа смотрит на Александра, ловит его взгляд и долго, не отрываясь, смотрит ему в глаза, и Александру становится не по себе: он знает, что от него чего-то ждут, но совершенно не понимает, чего именно. Он улыбается в ответ, и, судя по выражению папиного лица, папа находит эту улыбку дружеской, а ему хотелось бы, чтобы в ней было больше… настроения, но эта улыбка дружеская, и мы не вправе желать слишком многого – так, мне кажется, думает папа.