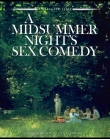Текст книги "Прежде чем ты уснёшь"
Автор книги: Лин Ульман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
В последний раз взглянув на Александра, папа отпускает Жюли и даже делает элегантное движение рукой, словно говоря: «Теперь я передаю ее тебе».
Жюли и Александр садятся на высокие позолоченные стулья друг против друга, рядом с ними сидят свидетели. Все садятся. Гости поют псалом «Благословенна земля», пастор поворачивается к людям и говорит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Валь Брюн осторожно встает и поправляет шлейф Жюли. Свет, льющийся через витражи, падает на церковную кафедру; какой-то ребенок, сидящий в задних рядах, кричит: «Ой-ой-ой!», кто-то тихонько смеется, пастор протягивает вперед руки и говорит: «Дорогие жених и невеста!» Жюли поднимает взгляд на Александра. Он что-то вертит в руках – какой-то прутик или веточку, которую подобрал на улице. Пастор говорит: «Бог создал нас, чтобы мы жили в согласии с Ним и со своими ближними. Бог устроил так, что мужчина и женщина становятся единым целым, Он благословил их союз. Брак – это Божий дар. В нем проверяется наше умение делить радость и горе, брать и отдавать, понимать и прощать. В браке женщина и мужчина срастаются друг с другом и вместе тянутся к Богу, со смирением и надеждой принимая посланные им испытания».
В церкви стоит тишина.
Свидетель Терье Недтюн подносит руку ко рту и тихонько кашляет. Женщина, которую я вижу впервые, роется у себя в сумочке, улыбаясь мужчине, сидящему рядом, – он протягивает ей таблетку от кашля. Тетя Сельма смотрит в потолок, похоже, она думает о чем-то смешном. Я поворачиваюсь, чтобы увидеть мужчину, которого собираюсь соблазнить. Он сидит через несколько рядов от меня, держа за руку светловолосую женщину; взгляд его неподвижно устремлен на пастора. Я пытаюсь поймать его взгляд, но безуспешно.
Пастор говорит:
– Бог сказал, что брак свят и нерушим. В Первой книге Моисея написано: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею».
Валь Брюн смотрит на Терье Недтюна и улыбается ему. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть, видит ли это его жена. Взгляд у Валь Брюн недвусмысленный. Совсем как у Анни. Темноволосая жена Терье Недтюна сидит далеко в задних рядах и что-то шепчет на ухо маленькой девочке. Маленькая девочка шепчет что-то ей в ответ, обе улыбаются. Это похоже на игру.
Пастор говорит:
– Господь наш Иисус Христос сказал: «Разве не знаете вы, что Создатель вначале сотворил мужчину и женщину и сказал: "Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Поэтому больше они не двое, и заживут они одной жизнью". То, что Бог соединил, человек да не разлучит».
Пастор делает шаг назад и опускает глаза. Он подает знак следующему, кто будет говорить. Торильд встает со своего места, проходит между рядами и садится за пианино справа от алтаря. Чуть прокашлявшись, она говорит, что, может быть, эта песня совсем не подходит для свадьбы, но она думает, что это хорошая песня, песня о том, что нельзя смеяться над любовью, это губит ее. Торильд краснеет и смотрит на клавиши. Затем поднимает руки, пробует звук и начинает петь. Торильд в голубом платье. Торильд со своим грустным, тихим, писклявым голосом. Кажется, что кто-то вставил ей в горло вантуз и выкачал добрую половину голоса. Но немного все же осталось, совсем чуть-чуть, и Торильд поет «This will make you laugh» Ната Кинга Коула.
Жюли, прикусив губу, смотрит в пол. Александр улыбается шире, чем подобает случаю, а Торильд поет:
Как-то Анни, Жюли и я ужинали у Арвида и Торильд, и Арвид рассказал нам одну историю. Это случилось в конце шестидесятых, Торильд и Арвид учились тогда в гимназии Ниссен, и Торильд была самой красивой, веселой и изысканной девушкой во всем городе. Так Арвид и сказал – самой изысканной. Но он понял, что любит ее, именно тогда, когда она встала и спела ему. Это было теплой летней ночью, после вечеринки в Аскере; остальные гости уже вышли в сад. «Это была первая по-настоящему теплая ночь, – рассказывал Арвид. – Нам было восемнадцать лет, мы только закончили гимназию. Вдруг Торильд встала и сказала мне: "Сиди, Арвид. Сейчас я буду петь для тебя”. Торильд встала, Торильд улыбнулась, Торильд запела».
Арвид тихонько рассмеялся и глотнул виски.
От слов Арвида Торильд покраснела, и, собственно, на этом история могла бы закончиться. Но Анни такого бы не допустила. Анни ни в чем не знает меры. Она посмотрела на Арвида и Торильд и растроганно улыбнулась. Анни обняла Арвида за плечи и притянула к себе. Она, можно сказать, даже слезинку проронила. Анни подняла свой бокал и произнесла: «Давайте выпьем за Арвида и Торильд. Давайте выпьем за молодоженов. Давайте, – тут Анни, тепло улыбнувшись, по очереди посмотрела в глаза каждому из нас, – давайте выпьем за Любовь».
Гости чокнулись, хотя и безо всякого воодушевления.
После этого повисло молчание.
Арвид молчал. Он смотрел на Анни. Потом он посмотрел на свою жену, снова – на Анни. И вдруг захохотал. Он хохотал и говорил о том, что совсем забыл: в ту ночь он был чертовски пьян и мог влюбиться в кого угодно. «В кого угодно, понимаешь? – спросил он. – С каждой следующей кружкой пива твой голос казался мне все красивее», – прибавил Арвид по-английски и, кивнув Торильд, поднял бокал.
Кажется, она уже закончила, но никто не хлопает, хотя ничего удивительного в этом нет, думаю я, – мы ведь в церкви. Пастор снова поднимается на кафедру и делает небольшое движение рукой, показывая, что надо встать.
Все встают. Пастор снова делает движение рукой: жених и невеста должны выйти на середину. Жюли с Александром встают и идут к алтарю.
Жюли поворачивается к Александру и улыбается. Александр смотрит на пастора, словно ожидая дальнейших инструкций.
Пастор смотрит на обоих, он улыбается, он из тех пасторов, которые не могут остаться равнодушными, когда два человека обещают друг другу вечную любовь.
Пастор спрашивает:
– Перед лицом Бога, Создателя нашего, и свидетелей спрашиваю тебя, Александр Ланге Бакке: согласен ли ты взять в жены стоящую перед тобой Жюли Блум?
Александр смотрит на пастора.
– Да, – отвечает он. Не слишком громко, но и не то чтобы тихо. В этом весь Александр, думаю я.
Пастор спрашивает:
– Будешь ли ты любить, почитать и хранить верность ей, пока смерть не разлучит вас?
– Да, – отвечает Александр.
Пастор говорит:
– Так и тебя, Жюли Блум, спрашиваю: согласна ли ты взять в мужья стоящего перед тобой Александра Ланге Бакке?
Жюли поворачивается к Александру, Александр смотрит на пастора, и Жюли говорит:
– Да.
Пастор спрашивает:
– Будешь ли ты любить, почитать и хранить верность ему в горе и в радости, пока смерть не разлучит вас?
– Да.
В церкви стоит тишина.
Пастор говорит:
– В знак сего возьмитесь за руки.
Александр и Жюли поворачиваются друг к другу и берутся за руки.
Что за человек этот пастор?
Равнодушным его не назовешь. Он хороший пастор, но ему никак не удается подавить в себе актера, скомороха, театрального артиста и сказочника. Вот и сейчас он не может удержаться и, прежде чем произнести решающие слова, искусно выдерживает небольшую паузу. Такая искусственная пауза – тайный залог успеха каждого выступления, пастор об этом знает. Такая пауза подчеркивает драматизм ситуации – это тоже ему прекрасно известно. Он смотрит на сидящих в церкви и впитывает в себя тишину и всеобщее напряжение – люди ждут его слов. Какое приятное чувство, думает пастор.
Все молчат. Молчат жених и невеста. Молчат гости. Даже дети молчат. Свет окружает Жюли и Александра и падает на пол перед полукругом у алтаря.
Пастор делает небольшую паузу и смотрит на сидящих в церкви. Он не произносит ни слова.
Что происходит? Чего он ждет?
Я жду, когда вы поймете, для чего я на самом деле здесь стою и что я делаю. Я хочу, чтобы вы поняли.
Поняли что?
Может быть, серьезность происходящего. Да, именно – серьезность происходящего.
«Но, дорогой пастор, – говорю я, вставая с церковной скамьи. – Вы умный пожилой человек, вы ведь многое повидали на своем веку, вы прожили гораздо более долгую жизнь, чем я. Как вы по-прежнему можете воспринимать это всерьез, как вы можете ожидать, что мы будем относиться к этому серьезно? Ведь все, кто собрались здесь сегодня, знают, как выглядит семейная жизнь. Супруги рвут друг друга на части или ведут холодную войну. Чего стоят все эти красивые слова?»
«О чем ты говоришь? – спрашивает пастор. – О том, что слова ничего не стоят? Ты еще так молода и уже так цинична».
«Я не циничная, а просто хитрая, – отвечаю я. – Я не похожа на мою сестру, которая может слепо влюбиться в какого-нибудь замечательного человека, который ее совершенно не понимает. Я не похожа на мою мать, которой надо постоянно чувствовать, что на нее смотрят, ее любят и боготворят. Я совсем другая. Я лучше разыграю свои карты».
Пастор едва заметно улыбается: «Не похоже, что у тебя все идет как по маслу с мужчиной, которого ты задумала сегодня соблазнить. Он тебя не замечает. Разве не видишь?»
«Неважно, – говорю я. – Просто у меня еще мало опыта. Надо только подождать, и у меня все получится. Возможно, я не так неотразима, как Анни, и не так очаровательна, как Жюли, но я превосходный тактик. К тому же я умею петь. Он станет моим, прежде чем закончится этот вечер».
«Иначе говоря, в вопросах любви ты прямо маленький Макиавелли», – усмехается пастор.
«Вы не ответили на мой вопрос, – говорю я. – Как вы можете венчать людей, и к тому же требовать от них серьезности, если знаете, сколько горя, несчастийи разочарований ждет их впереди?»
«Слушаю тебя, – отвечает пастор и делает секундную паузу. – Слушаю тебя и думаю, что ты говоришь, рассуждаешь и мечтаешь совсем как ребенок, но в один прекрасный день у тебя внутри что-то сломается, – и ты перестанешь быть ребенком».
«Вы не ответили на мой вопрос», – говорю я.
«У тебя есть внутренний голос, Карин, он не умеет лгать и осторожничать. – Пастор говорит совсем тихо. – Посмотри на Жюли, – шепчет он. – Посмотри на нее. Не на меня – на нее. То, что ты видишь – это надежда. Ты знаешь, что такое надежда, Карин? А может быть, эти тонкие линии вокруг твоих губ – откуда они у двадцатилетней девушки? – это знак безразличия, знак того, что ты всегда играешь и ничего не принимаешь всерьез? В таком случае, мне тебя жаль. И последнее, – говорит пастор. – Если когда-нибудь Жюли и Александр перестанут любить друг друга – ты ведь знаешь, человеческая любовь слаба, – мне хотелось бы сказать им, что любовь – это не просто способность любить, которая есть у каждого отдельного человека, потому что любовь происходит от Бога, а любовь Бога бесконечна».
Я смотрю на пастора, он продолжает выдерживать паузу. Он всегда в этом месте делает паузу, думаю я, ему нравится стоять перед прихожанами и прислушиваться к тишине в церкви, глядя на лица, зная, что люди ждут его слов.
Пора?
Да, пожалуй, уже можно. Уже пора.
Пастор улыбается Жюли, затем – Александру.
Пастор произносит:
– Перед лицом Бога и присутствующих здесь свидетелей вы произнесли брачный обет и дали друг другу руки. Объявляю вас мужем и женой.
– А теперь обменяйтесь кольцами, которые вы будете носить в знак взаимной верности, – говорит пастор.
Жюли и Александр надевают друг другу кольца.
Жюли берет лицо Александра в свои ладони. Александр наклоняется к ней и целует.
И как раз в этот момент мелькает вспышка чьей-то фотокамеры.
* * *
Впереди довольно времени, прежде чем прозвучит гонг и Анни пригласит всех к столу, а пока кто-то из гостей стоит в прихожей под большой хрустальной люстрой, позванивающей подвесками, кто-то направляется в сад, кто-то пытается отыскать свое место, внимательно осматривая длинный стол с угощениями, накрытый в столовой. Анни и Жюли сами решали, кто где будет сидеть, – маленькие красные карточки с именами гостей выстроились в ряд у тарелок. Несколько человек стоят в очереди у туалета, другие уже разговаривают, усевшись в пурпурно-красные кресла в прихожей, а кто-то, улыбаясь, ходит от одной группы гостей к другой со словами: «Здравствуйте! Добрый день! Позвольте представиться…». Ингеборг разрешила Анни устроить праздник в ее доме, и свадьбу будут справлять здесь, в большой белой деревянной вилле, построенной в девятнадцатом веке. Красные бархатные портьеры обрамляют высокие окна; на стенах в гостиной тускло-красные обои; пол выстлан старинными толстыми коврами – красными, лиловыми и желтыми. Ингеборг – это папина подружка, но вместе они не живут. Папа не хочет жить в большом доме Ингеборг. Он хочет жить на Тэйен.
Анни стоит на кухне и плачет, потому что повар, которого она наняла на свадьбу, забыл купить сладкого горошка. «А я не могу подавать телячье жаркое без горошка», – всхлипывает Анни.
Жюли стоит в гостиной в углу и беседует с Валь Брюн. Жюли подзывает меня, она вся теплая и раскрасневшаяся, свадебное платье уже слегка помялось. Папа сидит на стуле в том же углу и, прикрыв глаза, пьет виски; он спрашивает: «Карин, а может, нам с тобой сбежать отсюда и пойти в кино?» «Секунду, – отвечаю я. – Сейчас вернусь, тогда и поговорим». Где-то вдалеке я слышу рычащий смех Арвида. В гостиной стоит Терье Недтюн, он поднял свою дочку высоко-высоко и кружит ее под самой люстрой. Дядя Фриц уселся на стул и смотрит перед собой, рот его открыт, глаза чуть прикрыты.
– Привет, дядя Фриц! – говорю я.
– Ой-ой, – отвечает дядя Фриц.
– Здравствуйте, тетя Эдель! – говорю я.
– Карин, Карин, – шепчет она, подзывая меня к себе. – У меня выпал зуб.
– Что вы сказали, тетя Эдель?
– У меня зуб выпал, – повторяет она, обеими руками вцепившись в красную салфетку.
– Какой зуб? – спрашиваю я.
– Передний, – отвечает тетя Эдель, осторожно раскрывая рот, чтобы я посмотрела.
Я заглядываю в рот. На месте зуба зияет черная дыра.
– Может быть, я могу вам чем-то помочь, тетя Эдель?
Эдель сжимает губы и качает головой.
– Вы хотите домой?
Эдель трясет головой.
– Как ты думаешь, они вставят его обратно, или мне придется делать новый зуб? – спрашивает она.
– Не знаю, – отвечаю я.
– Сохраню его на всякий случай, – говорит тетя Эдель, показывая мне измятую салфетку.
– Конечно, сохраните, – отвечаю я и иду дальше.
На кухне по-прежнему плачет Анни. Повар грозится уйти, а Ингеборг пытается успокоить обоих. Анни с Ингеборг друг друга не любят, но терпят, и даже иногда вместе ходят в кондитерскую. Ингеборг – это единственная ниточка, которая связывает Анни с папой. Зачем это знакомство нужно Ингеборг, я не знаю.
– На самом деле, брюссельская капуста лучше, чем зеленый горошек, – говорит Ингеборг таким тоном, каким умеет говорить только она. После этого все сомнения и возражения отпадают сами собой.
– Не знаю, – поколебавшись, говорит Анни. – Не знаю.
– Зато я знаю, – отвечает Ингеборг. Она ободряюще улыбается повару, уводя из кухни Анни.
Я иду дальше. Я кое-кого ищу. Ищу его. Аарона.
Сначала я замечаю светловолосую женщину – она разговаривает с Александром, а Аарон направляется к ним с бокалами шампанского. Я подхожу к ним.
– Привет! – говорю я.
– Привет! – здоровается Александр. – Ты знакома с моим другом Аароном?
– Знакома, – отвечаю я.
– Ах да, конечно, ты же сестра невесты, – говорит Аарон.
– Здравствуй еще раз, – неуверенно говорит светловолосая.
Все смотрят на меня. Вернее, сквозь меня. Пока я здесь, разговор не получится. Я тут лишняя. Карин, будь добра, иди, куда шла, мы вовсе не в восторге от твоего появления. Нам хотелось бы немного побыть одним. Может, найдешь себе других собеседников?
– Пойду налью себе шампанского, – говорю я.
– А тебе уже есть восемнадцать? – спрашивает Аарон.
Я улыбаюсь ему.
Наверно, сейчас мне надо ответить так, чтобы он по-настоящему меня заметил. Сейчас я ему скажу… ну да, и что же я ему скажу? – так или иначе, пора уже хоть что-то ответить, прежде чем я повернусь и уйду восвояси. Но меня хватает только на глупую улыбку.
Я беру свое шампанское. Выпиваю весь бокал. Наливаю еще один. Кто-то в гостиной включает музыку, кто-то приглушает свет, и внезапно весь наш свадебный праздник превращается в Эллу Фицджеральд.
За моей спиной вырастает чья-то фигура.
– Привет, Карин.
Я узнаю голос.
Поворачиваюсь.
Это Валь Брюн.
Валь Брюн старше Жюли, по-моему, ей тридцать один или тридцать два, а может, и больше. Она спрашивает, не хочу ли я пройтись с ней в сад. «Почему бы и нет», – говорю я. «Тогда пойдем», – отвечает она. Только что прошел дождь, недолгий, но сильный. В саду пахнет травой, летом и спелыми яблоками. Валь Брюн берет меня за руку, мы садимся на скамейку под яблоней.
– Не люблю свадьбы, – говорит она.
– Почему? – спрашиваю я.
– Однажды на свадьбе я познакомилась с мужчиной…
– С каким?
– Его звали Франк Андерсен.
– М-м-м, не знаю такого, – говорю я.
– Франк был слабый и сентиментальный, – начинает Валь Брюн, а если она что-то рассказывает, то ты просто сидишь и слушаешь, и чувствуешь себя польщенным. О чем бы Валь ни рассказывала, она оказывает тебе честь.
– Он мне ужасно нравился, – говорит Валь. – Когда мы познакомились, у него была маленькая красивая женушка, которую все обожали, о ней всегда говорили только хорошее, особенно всем нравилось, что она такая порядочная… Ее звали Лине.
Я встречала его с женой несколько раз на других праздниках, но мы никогда толком не разговаривали. Не понимаю, как получилось, что я влюбилась именно во Франка, – может быть, из-за Лине, из-за восхитительной, милой, красивой, порядочной Лине. У меня появилось непреодолимое желание уничтожить это милое существо, которое все считали таким красивым и одаренным и в то же время таким слабым – понимаешь? Даже имя ее я не могла слышать спокойно – в глазах у меня темнело, ноги подкашивались. Мне хотелось подойти к ней, к этой Лине, и со всей силы ударить ее по лицу, – говорит Валь Брюн.
– Сначала мне казалось, что Франк мне вовсе не нужен, что я просто хочу проверить, получится или нет. Я хотела проверить, можно ли разрушить… хотела узнать, есть ли на свете что-нибудь святое. Да. Святое! – продолжала она. – И только потом он начал мне нравиться, но было уже слишком поздно.
– Ну и как, есть на свете что-нибудь святое? – спрашиваю я.
– Не знаю, что тебе сказать, – отвечает Валь Брюн. – Но так или иначе, восемь месяцев мы с ним тайно встречались, а потом он от нее ушел.
– Поздравляю!
(Я мысленно представила себе Франка Андерсена, который стоит посреди спальни с чемоданами в обеих руках и объясняет Лине, что все кончено: «Я ухожу от тебя, спасибо за все, но я ничего не могу поделать, я встретил другую женщину и не могу без нее жить».
«Не-ет, нет! – причитает Лине. – Ты не можешь так просто уйти от меня! – Она бежит за ним по лестнице, мимо кухни, в коридор, выбегает на улицу в ночной рубашке, халате и тапочках. – Я буду любить за двоих! – завывает она. – Давай попробуем начать все с начала? Дай мне шанс. Любимый, не уходи, не бросай меня, не бросай!»
Франку приходится засунуть руки в карманы пиджака, иначе он не выдержит, обернется и врежет ей со всей силы. Еле сдерживаясь, он доходит до машины. Лине хочет ехать с ним. Он не может просто так взять и уехать.
Он выпихивает ее из машины, но она все равно не понимает, в чем дело. Она бежит за ним в тапочках и халате, бежит за машиной, которая уже поворачивает за угол.
Лине остается позади. I'm a free man, oh yeah! I'm a free, thank God in Heaven I'm a free man [7]7
Ура, я свободен! Свободен, свободен! Благодарю тебя, Господи, я свободный человек! (англ.)
[Закрыть]. Франк жмет на газ, включает музыку и барабанит по рулю, разогнавшись по Сэркедальсвэйен.)
– Вся эта история удачно совпадала по времени с деловой поездкой Франка в Японию, – продолжает Валь Брюн. – Мы просто-напросто сели на первый же самолет в Токио и сняли номер в отеле «Окура» в центре города. – Валь Брюн тушит сигарету в траве и закуривает новую. – Хочешь знать, что произошло, прежде чем мы приземлились в Токио?
– Конечно.
– Представь: летим мы в самолете, – говорит Валь, – Франк смотрит в окно, грызет орехи и ждет, когда принесут еду и красное вино. Я сплю в кресле возле него, точнее, делаю вид, что сплю. На самом деле я притворяюсь, будто заснула, потому что вдруг выяснилось, что нам совершенно не о чем разговаривать, а если ты влюблен и тебе не о чем разговаривать, это как-то обескураживает. Франк смотрел в окно, на проплывавшие мимо облака, на массивное крыло самолета, на воздух – такой белый и истонченный, будто его можно пить. И тогда он подумал – ведь теперь он со всем порвал, он ушел своим путем, он принял решение, которое повлияет на всю его жизнь, – он подумал: «Вот оно, небо! Я лечу по небу!» И тогда Бог показал ему свое лицо.
– Что-что? – переспрашиваю я.
– Я сказала, что Бог показал ему свое лицо, – отвечает Валь Брюн. – То есть не все лицо, ведь оно настолько огромно, что целиком его не увидишь. Нет, Бог показал ему маленький кусочек лба, краешек правого глаза и часть переносицы – но этого было более чем достаточно, чтобы напугать Франка до смерти, хотя он был не особенно религиозным человеком, собственно говоря, он вообще был неверующим, во всяком случае, раньше, до того, как он понял, что летит по небу. Бог заглянул в иллюминатор краешком правого глаза, посмотрел на Франка сквозь стекло, и Франк с криком выронил из рук пакетик с орехами. Он закричал. И в этот момент самолет стало трясти – думаю, дело было в вихревых потоках, – я подпрыгнула на своем сиденье, глядя на Франка, и тоже стала кричать, а за мной – другие пассажиры, началась паника.
Стюардессы бегали туда-сюда по проходу и говорили: «Тише! Тише! Это просто небольшая турбуленция, все в порядке, бояться нечего. Уважаемые пассажиры, соблюдайте спокойствие, пожалуйста!» Поднялась ужасная суматоха. Позвали командира экипажа, он вышел из кабины и приказал всем замолчать.
Но одна женщина продолжала кричать, даже когда все остальные успокоились; чтобы она замолчала, пилоту пришлось ударить ее по лицу, – говорит Валь Брюн. – Но и это не помогло. Женщина плакала всю дорогу до Токио.
* * *
В углу прихожей стоит ее величество тетя Сельма, предоставленная самой себе. Приподняв брови и посасывая сигарету, она разговаривает с маленькой девочкой, которая осмелилась к ней обратиться.
– Ты похожа на ведьму, – говорит ребенок.
– А я и есть ведьма, – отвечает Сельма.
– Но ты ведь не злая, – утешает ее ребенок.
– Очень даже злая, – говорит Сельма.
– Как это? – спрашивает ребенок.
– Больше всего на свете я люблю маленькие вареные ручки и жареные девчоночьи ушки, – ласково отвечает Сельма, хватая ребенка за шею. – А на десерт обожаю вкусненький мусс из глазок маленьких девочек.
– Неправда! – кричит ребенок и убегает.
Сельма закатывает глаза к потолку.
– Здравствуйте, тетя Сельма! – говорю я.
– А, это ты, – кисло отвечает она.
– У вас не будет сигареты?
Тетя Сельма протягивает мне пачку и говорит:
– Я смотрю, ты все вертишься вокруг того мужчины, что пришел с блондинкой.
– А вы заметили? – спрашиваю я.
– Мать у тебя глупая, и сестра у тебя глупая, и бабка твоя была полная дура, она вообще ничего не понимала, но я совсем не глупа. Естественно, я все вижу.
– Я хочу его соблазнить, – говорю я.
– Да что ты говоришь? – отвечает Сельма. – Я смотрю, пока ты не очень-то преуспела.
– Пока нет. Может, что-нибудь посоветуете?
Она делает затяжку.
– Попробуй очаровать его.
– Уже пробовала.
– Надо заглянуть ему в глаза.
– Я смотрела. Он меня не замечает.
– Ты с ним разговаривала?
– Разговаривала, совсем недавно. Тоже не помогло.
– А ты не пробовала подойти к нему и сказать, что хочешь переспать с ним и уверена, что через пятнадцать минут он будет сгорать от желания?
– Нет. Но, по-моему, из этого уж точно ничего не получится. По-моему, он не из тех, на кого это действует.
– Да? – пожимает плечами Сельма. – В молодости у меня этот прием действовал безотказно. Правда, мне было легче, я была симпатичнее тебя.
– Больше ничего не посоветуете?
– А польстить ему не пробовала?
– Польстить?
– Да, польстить. Это дело беспроигрышное, тут никогда не промахнешься, – говорит Сельма.
– Польстить? – снова переспрашиваю я.
– Польстить, польстить, – отвечает Сельма.
– Но как? Как я могу ему льстить, если я его совсем не знаю?
– В этом-то и фокус, – говорит она. – Чем меньше ты его знаешь, тем легче польстить.
– Но как?
Сельма снова делает затяжку. Дым встает у нее поперек горла, лицо краснеет, язык высовывается, а потом и вовсе вываливается изо рта, она вся съеживается. Она съеживается, начинает прихлюпывать, похрипывать и так надсадно кашлять, что все поблизости оборачиваются и думают: «Она умирает, умирает, уж теперь-то точно конец, прощайте, спасибо вам, тетя Сельма, за все, что было, мы никогда вас не забудем, счастливого пути, передавайте там от нас привет!» Наверно, этот кашель, такой прогнивший и застарелый, бурлил в недрах тети Сельмы с тех пор, когда она еще была юной и бесподобной; возможно, этот кашель зародился в октябре 1929 года, когда она прикурила сигарету в нью-йоркском кафе, соревнуясь с тремя самыми удачливыми биржевыми спекулянтами, кто кого перепьет, и всех троих она уложила под стол, если уж говорить начистоту, а потом заставила их плясать с ней – сначала по очереди, а потом всех вместе, несмотря на то что они еле держались на ногах; все это, безусловно, немало способствовало тому, что на следующий день у спекулянтов была дикая головная боль, и они не могли как следует выполнять свою работу, а тут еще на рынке ценных бумаг случился кризис, который длился еще десять лет и стал причиной экономического кризиса во всей Америке и в большей части Европы. В тот же вечер двое из этих троих спекулянтов покончили с собой, а их жены обвинили во всем случившемся Сельму.
Она никогда никому не приносила счастья, думаю я, – и тетя Сельма перестает кашлять. Она уже не кашляет. Она расправляет спину, запрокидывает голову, поднимает взгляд и косоглазо улыбается всем стоящим поблизости, делает новую затяжку, выпуская дым через ноздри. Вы подумали, что я загибаюсь, вы решили, что мне осталось недолго, что все кончено. А вот и нет! Я вовсе не загибаюсь, я в полном порядке, у меня все прекрасно! Сельма улыбается:
– Карин, делай, что я тебе говорю, и тогда у мальчишки не будет шансов. Этот парень, – говорит Сельма, показывая на Аарона длинным пожелтевшим указательным пальцем, – этот парень против лести не устоит. Ты разбудишь в нем не желание, а тщеславие, за остальным дело не станет.
– Но как?
– Разыграй спектакль, Карин! Будь актрисой!
Сельма еще раз прокашливается, берет меня за плечо и шепчет:
– Посмотри на него и дай ему понять, что ты знаешь великую тайну его сердца.
– Какую великую тайну?
– Неважно, – отвечает Сельма. – Судя по всему, никакой великой тайны у него нет, скорее всего, скрывать ему нечего. Но ему хочется верить, что тайна существует и что другие думают, будто она у него есть. Все хотят быть чем-то большим, чем они есть на самом деле, Карин, и если ты дашь этому мальчишке почувствовать, что видишь в нем нечто большее, чем он есть, если ты дашь ему понять, что знаешь, какую великую тайну он носит в своем сердце, как он выделяется среди всех остальных, какой он неповторимый, избранный Богом, – тогда дело сделано, считай, что он твой.
Я пробираюсь в гостиную, нахожу на столе карточку с именем Аарона и кладу ее рядом со своей. Затем беру лишнюю карточку – какой-то Даниель К., наверно, друг Александра, не знаю, – и кладу ее туда, где должен был сидеть Аарон.
Ну вот! Дело сделано. Теперь ему придется со мной заговорить. Теперь ему никуда не уйти. Теперь мы будем сидеть рядом весь долгий свадебный ужин, и с его стороны будет невежливо не заговорить со мной. У него просто нет выбора. Выбора – нет.
Кто-то кладет руку мне на плечо.
– Что это ты делаешь, Карин?
Я оборачиваюсь и вижу папу.
– Меняю карточки. Тут есть один человек, рядом с которым я хочу сидеть, – отвечаю я.
– Понятно, – говорит папа. И прибавляет: – Можно мне уйти? Не хочу здесь дольше оставаться.
– Нет, – отвечаю я.
– Виски у Анни никудышное. Анни никогда не умела выбирать виски.
– Да?
– Я люблю «Джонни Уокер», а она – «Аппер Тен».
– А-а-а.
– У Анни напрочь отсутствует вкус.
– Не уверена.
Я поправляю бабочку у него на смокинге, красную розу в петлице.
Аарон с бокалом в руке в одиночестве сидит на пурпурно-красном диване и пьет джин с тоником и кусочком лимона. Перед ним круглый каменный стол, на котором стоит блюдо с соленой соломкой. Рядом с Аароном сидит дядя Фриц, он тоже держит в руке бокал. Дядя Фриц пьет что-то красное.
Я сажусь на диване между ними.
– Сегодня вечером вам придется побыть моими кавалерами! – радостно сообщаю я.
– Ой-ой, – отвечает дядя Фриц.
– Очень приятно, – говорит Аарон, но взгляд его блуждает по комнате.
Его взгляд похож на птицу, случайно залетевшую в помещение.
Я поворачиваюсь к дяде Фрицу.
– Что это вы пьете, дядя Фриц?
– Что ты сказала, Карин? – бормочет он.
– Я говорю, что это вы пьете, такое красное?
– «Секси Санрайз», – бормочет Фриц.
– Что-что?
– «Секси Санрайз».
– Ах вот оно что.
– Карин, – говорит дядя Фриц, глядя в свой бокал.
– Что? – отвечаю я.
– У мамы выпал зуб.
– Я знаю.
– Сначала она потеряет зуб, потом – уши, потом у нее отвалится нос, а затем и глаза выпадут. Смотри! – кричит дядя Фриц. – Смотри! – кричит он, показывая на две зеленые оливки, плавающие у него в бокале. – Мама! – говорит он. – А в один прекрасный день мама вдруг возьмет и умрет.
– Ну, это еще не скоро.
– Карин, – говорит дядя Фриц.
– Что?
– Мне что-то нехорошо. Меня подташнивает.
– Тогда не пейте больше, – говорю я.
– Ой-ой.
Дядя Фриц съеживается, съезжает куда-то вперед, рот его чуть приоткрыт, бокал так и остался в руке.
– С ним все в порядке? – тихо спрашивает Аарон.
– Он у нас всегда такой. Все в порядке, – отвечаю я.
Я смотрю на Аарона. Мы встречаемся взглядами.
Я кладу голову ему на плечо.
– Я знаю, о чем ты думаешь, – говорю я.
Аарон уворачивается от меня.
– Что? – переспрашивает он.
– Я знаю, о чем ты думаешь.
– Вот как?
Я поворачиваюсь к нему, смотрю ему прямо в лицо, чувствую его дыхание на своей щеке.
– Я соврала, – говорю я. – Я не знаю, о чем ты думаешь. Я просто хотела, чтобы ты обратил на меня внимание.
Аарон смотрит на меня чуть дольше, чем того требуют правила приличия. Он тихонько смеется. Я опускаю глаза. Руки у него бледные, тонкие, маленькие, довольно волосатые и в то же время женственные, а под ногтем большого пальца на правой руке застряла красная краска, которую он не смог отмыть.