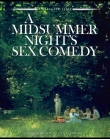Текст книги "Прежде чем ты уснёшь"
Автор книги: Лин Ульман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Именно тогда пожилая женщина рядом со мной вдруг преобразилась. Что-то изменилось в ее осанке – она сидела, вытянув ноги перед собой и выпрямив спину, прямо на полу. Каким-то чужим, нетерпеливым жестом она провела рукой по волосам и сказала: «Чепуха». В лице появилось какое-то мягкое и в то же время своенравное выражение.
Я помню это как сейчас.
В тот момент во мне что-то перевернулось.
И когда бабушка нетерпеливой рукой провела по волосам (которые давно уже не были длинными, светлыми и блестящими), я словно увидела сквозь годы, каким было ее лицо прежде. Я вдруг увидела ее такой, какой она была в молодости, много лет назад.
Я села на пол, поближе к бабушке, и попросила: «Бабушка, пожалуйста, расскажи. Расскажи, как вы с Рикардом жили в Америке».
Мне тогда исполнилось восемнадцать, это было за два года до свадьбы Жюли и за год до того, как бабушка умерла.
Я как сейчас это помню.
Как сейчас помню тот день, когда бабушка рассказала мне свою историю.
– Был 1938 год, – начала она. – Стоял октябрьский вечер, за несколько лет до дедушкиной смерти. По-моему, это случилось на Хеллоуин, потому что в гостиной лежала тыква. Мы с детьми, каждый своим ножичком, вырезали в тыкве глаза, нос и зубастый рот, чтобы получилось лицо. Внутри мы зажгли свечку.
Я слушала Эдгара Бергена и Чарли Маккартни – они вели совершенно безумную программу: чревовещатель и его марионетка – представляешь, какая глупость – слушать чревовещателя по радио? Я любила эту программу и обычно слушала ее с удовольствием, но в тот вечер у них в студии был какой-то гость, который мне не нравился, и я переключила на другую радиостанцию, там играла музыка.
Я села и задумалась.
Помнится, я думала о том, как скучаю по дому, как мне хочется обратно, но Рикарду я сказать этого не могу, ведь это Рикард создал миф о нашей фантастически прекрасной жизни в Америке, а для меня в этой жизни места не было.
Да, я была ему нужна, об этом я знала, но я всегда оставалась для него лишь частью этого мифа. Я – Юне, его жена; у нас есть дети, его дети. Как-то раз к нам даже приезжали корреспонденты из газеты «Нурдиск Тиденде», они сфотографировали нас рядом с магазином на Бродвее, а журналистка взяла у нас интервью. Я ведь тоже время от времени работала в магазине – портнихой. В статье описывались невероятные приключения норвежского парня, которого не сломили ни тоска по дому, ни иммиграционная полиция на Эллис-Айленде, ни великая депрессия, ни гангстеры, которым он не побоялся указать на дверь, ни сплетни. «Кстати, сплетни о том, что Рикард Блум начал свою карьеру в Нью-Йорке с продажи контрабандного самогона, давно уже опровергнуты, – писала журналистка. – И позор тому, кто из зависти распространяет злые сплетни о своих ближних!»
Дальше приводились слова самого Рикарда: «Спиртное меня никогда не интересовало. Ни во времена сухого закона, ни сегодня. В жизни и без того есть много интересных вещей».
Любовь, например. Весной 1932 года Рикард повстречал в Бруклине свою будущую жену Юне.
Журналистка спросила Рикарда о том, как ему удалось в наши сложные времена всего этого достичь – создать любящую семью, обустроить счастливый дом, сделать процветающим предприятие?
«Все благодаря Радости, – ответил Рикард Блум. – Я хотел создать вокруг себя Радость».
– Газетную вырезку со статьей и фотографией повесили на всеобщее обозрение в магазине и у нас дома в Бруклине, – продолжала бабушка. – Но для меня это было еще одним напоминанием о том, что для меня в этой жизни места нет.
Я думала: «Кто я на самом деле? Почему для меня здесь нет места?» Я закрывала глаза, и мне представлялось растущее на самом юру невысокое деревце с торчащими в разные стороны ветвями. Я видела такие деревья; им нужен воздух, одиночество, тишина и пустынный пейзаж вокруг.
Потом я стала думать, что история нашей великой любви– именно так Рикард любил называть нашу совместную жизнь, – что история эта стала для нас обоих обузой, что оба мы, во всяком случае я, не соответствуем требованиям этой великой любви.
Но что бы сказал мне Рикард, если бы в один прекрасный день я пришла к нему со словами: «Послушай, Рикард, моя любовь к тебе несовершенна, не спугни ее, не желай от нее слишком многого, не заставляй меня быть твоим счастьем, твоей мечтой, твоим домом, потому что ни тем, ни другим, ни третьим я не являюсь».
Кто знает, что бы он на это сказал?
Ясно, что он бы обиделся. Сказал бы, что я драматизирую.
А потом стал бы объяснять мне, как обстоит дело в действительности. Рикард любил запутанные метафоры, и случалось, что кроме него никто не понимал, о чем он говорит. К тому же он был убежден, что самые глобальные жизненные вопросы можно решить, если хотя бы чуть-чуть разбираешься в боксе.
«Знаешь, Юне, – говорил Рикард, – история нашей любви напоминает мне бой за чемпионский титул на Мэдисон-Сквер-гарден или в Монреале.
Титул чемпиона мира, понимаешь?
Выше уже не бывает… Эдгар Кристенсен до этой вершины не добрался… Отто фон Порат подошел совсем близко, и все же ее не достиг… хотя боксеры они первоклассные, спору нет… Но мы с тобой, Юне, you and me baby, мы сделаем ради нашей любви то, что сделал Пете Санстёл для норвежского бокса: мы будем биться за звание чемпиона, понимаешь?.. И даже если в последнем раунде, Юне, мы проиграем, мы все равно будем стоять на ринге прямо, нас никто не побьет».
– Что я могла сказать в ответ на подобную речь? – продолжала бабушка. – У меня не было слов. Тогда мне было под тридцать, и мне совершенно нечего было сказать. Слова нашлись потом, но было уже слишком поздно, а теперь, спустя почти пятьдесят лет, говорить об этом действительно слишком поздно. – Она смеется. – Если честно, я даже не знаю, что я в тот раз поняла, а чего понять так и не смогла.
Помню, я сидела на стуле, слушала радио и думала о том, что хочу уехать.
Из нашей жизни в Нью-Йорке это чувство запомнилось мне больше всего. Мне хотелось поскорее уехать, прочь и навсегда.
Сейчас я безумно жалею об этом, ведь Бог словно услышал мои мысли и сказал: «Пусть она получит то, что хотела, – а потом пеняет на себя».
Я помню, как музыка, игравшая по радио, внезапно прервалась.
Я прислушалась.
В репродукторе зазвучал низкий бархатный голос, который очень серьезно произнес: «Citizens of the nation, I shall not try to conceal the gravity of the situation that confronts the people» [23]23
«Граждане Америки! Не стану скрывать от вас всю серьезность ситуации, которая сложилось в стране» (англ.).
[Закрыть]. Затем голос сообщил, что Америку захватили марсиане.
– Это ведь была та самая программа Орсона Уэллеса, – перебила я бабушку, – когда он обманул всех радиослушателей. Ты ее слышала? Ты что, правда ее слышала? Но ведь ты ему не поверила?
– Я не знала, чему верить, а чему – нет, – ответила бабушка. – Тогда все говорили о том, что творилось в Европе, все мы чувствовали, что над нами нависла какая-то угроза. Казалось, что в ту промозглую зиму тридцать третьего года потеряли работу все, независимо от того, чем они занимались, и только немногим счастливчикам иногда удавалось подработать разносчиками товаров и уборщиками снега – да, та зима оставила след в каждом доме. Следующая была такой же тяжелой, а потом еще одна. Только Рикард продолжал работать как ни в чем не бывало. Год за годом дела в магазине шли хорошо, мы ни в чем не испытывали нужды.
Рикард всегда что-то напевал. Что-то мурлыкал себе под нос. Он вообще очень редко молчал. Может, потому что рядом всегда были женщины. «Wrap your troubles in dreams, and dream your troubles away» [24]24
«Укутай свои горести в мечты, а мечты пошли прочь» (англ.).
[Закрыть], – напевал он, сидя за прилавком и дожидаясь, пока очередная посетительница выйдет из примерочной: изо дня в день то одна женщина, то другая – и все в новых костюмах.
Но дело в том, – продолжала бабушка, – что Рикарду иногда тоже бывало не по себе. Хотя он в этом никогда не признавался. Все мы, каждый по-своему, все это время жили в ожидании великой катастрофы.
– Вот тогда-то марсиане и захватили Америку? – перебила я.
– Гм-м, – вздохнула бабушка. – Голос по радио объявил, что, несмотря на энергичное сопротивление полиции, Нью-Джерси уже капитулировал; теперь марсиане находятся на пути в Нью-Йорк, и мы должны проявить все свое мужество, полагаясь на Бога.
И сразу после этого во дворе погас свет.
Кто-то сбежал по лестнице.
Фрекен Иверсен – наша соседка – закричала. «На помощь, – кричала она. – Помираем!»
Рикард ушел куда-то с детьми. Может, они встречались с Сельмой, которая в тот момент как раз была в Нью-Йорке. И я подумала, что никогда больше не увижу ни Рикарда, ни детей, надо что-то делать, нельзя сидеть сложа руки, когда весь наш народ, моя семья, сама я и все на свете летит в тартарары. Но я не могла даже подняться, у меня просто не было сил. Я так и сидела в полумраке, глядя на осклабившуюся на подоконнике тыкву, которая светилась оранжевым светом.
Голос по радио объявил о том, что марсиане захватили Нью-Йорк и принялись за массовое уничтожение людей с помощью ядовитого газа и что последний диктор – по фамилии Коллинз – погиб смертью храбрых на крыше здания Си-Би-Эс.
После этих слов я поняла, что все это выдумка. Конечно, я чувствовала это с самого начала. И все равно, когда Орсон Веллес заверил слушателей в том, что на самом деле никакие марсиане нам не угрожают, я испытала чувство, похожее на разочарование. В стране была паника, и Орсону Веллесу пришлось выступить с объяснениями. Понимаешь? Это был всего-навсего спектакль, но народ поверил в него, народ тут же потерял самообладание, народ…
«Если сейчас в твою дверь раздастся звонок и за дверью будет пусто, я уверяю тебя: это не марсиане! Это просто Хеллоуин», – примерно так он и сказал, этот Орсон Уэллес.
Но разочарование? Откуда взялось это разочарование? Я ведь действительно была разочарована. Конечно, облегчение тоже. Но с этим все понятно. А разочарование-то откуда? Выходит, какая-то часть меня надеялась, что это конец, что чему-то пришел конец.
Позднее, – сказала бабушка, – я часто ловила себя на том, что мечтаю о какой-нибудь всеобъемлющей, неизбежной и непоправимой катастрофе, о том, чтобы по всей земле прошелся вихрь, сметающий на своем пути все, чтобы не осталось ничего, никаких воспоминаний, никакой тоски. Только одна тишина. И больше ничего.
* * *
При каких обстоятельствах умер дедушка на самом деле, никто в семье точно не знает. Кто говорит одно, кто – другое, а я думаю, все было примерно так.
Съев, как обычно, порцию «спагетти карбонара» в кафе «У Тони», Рикард раскрыл рот, чтобы сказать что-то владельцу заведения, – возможно, про японскую бомбардировку Пёрл-Харбор (приближалось Рождество 1941 года, и Рикард, по своему обыкновению, шил костюмы для рождественских гномов).
Но когда он раскрыл рот, то не смог вымолвить ни слова. Язык вывалился наружу, Рикард упал со стула и умер.
«Плохи дела, крошка», – сказал Тони.
Тони был одним из тех, кто пытался утешить бабушку, когда та ворвалась в кафе и, рыдая, упала рядом с телом своего мертвого мужа.
* * *
Дедушкины похороны состоялись в Ист-сайде, в часовне, расположенной неподалеку от Центрального парка. Анни и Элсе были в белых платьях, черных пальто, черных ботинках, с черными бантами в волосах и черными шелковыми лентами на поясе.
Об этом мне рассказала Анни:
– Никогда нас с Элсе не одевали так нарядно. Мне тогда было шесть лет, и мама старалась оберегать нас от всех ужасных подробностей; детям незачем знать о смерти, – говорила она.
Тетя Сельма, разумеется, была с этим не согласна. Она специально приехала из Миннесоты на похороны. И считала, что жизнь причиняет детям больше страданий, чем смерть.
«Это мои дети, а не твои», – сказала ей мама.
«Да уж, Бог миловал», – ответила тетя Сельма.
(Тетя Сельма переехала в Миннесоту сразу после того, как Юне с Рикардом обручились. В 1934 она вышла замуж за американца норвежского происхождения, который, к несчастью, умер в 1935 году. Он говорил Сельме, что сказочно богат, но, прочитав его завещание, она поняла, что это ложь. После смерти мужа Сельма продолжала жить в Миннесоте, но часто приезжала в Нью-Йорк погостить. С Рикардом они всегда оставались хорошими друзьями, но между сестрами отношения были напряженными.)
– В конце концов мама и тетя Сельма пришли к своего рода компромиссу насчет того, как будут проходить похороны, – рассказывала Анни. – Мы с Элсе сопровождали процессию до самой часовни, но внутрь нас не пустили. Мы остались у входа под присмотром владельца кафе, Тони. Помнится, ему не понравились трое полицейских, которые пришли проститься с Рикардом. Почему – Тони нам не объяснил. А мы и не спрашивали. Главное, что у самого папы никогда не было проблем с полицией. Он был их другом – с тех самых пор, как в 1936 году он сшил костюмы для ежегодного бала полицейских.
– Так или иначе, мы остались стоять на улице, – рассказывала Анни. – Не знаю почему, но мы не купили перекусить, даже не пошли за орешками. Тони стоял, прислонившись к кирпичной стене, и курил одну сигарету за другой. Мимо спешили люди. Была середина дня – зимнее солнце светило в витрины магазинов, улицы были украшены к Рождеству, отовсюду раздавались рождественские песни, в воздухе кружился чудесный легкий снежок.
Все кругом куда-то торопились. Наверняка бегают по магазинам в поисках рождественских подарков для детей, подумала я тогда. И стала считать пап, проходивших мимо. Папами в моем понимании были мужчины среднего возраста с добрыми глазами и рождественскими подарками под мышкой.
– Это была такая игра, – говорила Анни. – Все равно как считать проезжающие мимо автомобили, ничего особенно грустного в этом не было.
Многие люди останавливались и смотрели на нас. «Ой, какие хорошие девочки, какие у вас красивые платьица, beautiful little girls», – говорили они.
Тони качал головой, приговаривая: «Да, но они только что потеряли папочку, и им очень грустно, – говорил он, кивая на часовню, и прибавлял: – Их папочка сейчас там, за дверями, и это ужасно досадно, и потом его будут кремировать, бедолагу». И люди садились рядом на корточки, смотрели на нас со слезами в глазах, гладили нас по головам, угощали всякими сладостями, а кто-то даже дал денег.
– Для меня этот день был каким-то странным, – говорила Анни. – Столько добрых людей, нарядные белые платья, черные пальто, черные банты – и мертвый папа. Хотя последнее я не очень-то понимала.
Потребовалось время, чтобы осознать: наша жизнь изменилась окончательно и бесповоротно.
После смерти отца торговля в магазине стала идти из рук вон плохо. Мама одна не справлялась. Шила она превосходно, дело не в этом, – просто вместе с отцом из магазина ушла радость, и покупатели это заметили. Мамины попытки воссоздать костюм, который два года назад при Рикарде пользовался огромным успехом, – костюм, в котором Вивьен Ли играла Скарлетт О'Хара, – не удались: платья, которые она шила, сидели в обтяжку там, где не надо, или болтались в самых неподходящих местах. Выходя из примерочной, женщины больше не преображались в красоток, они видели в зеркале те же уставшие и помятые лица, что и всегда; нового костюма Кларка Гейбла мама выдумать тоже не смогла.
Она тяжело переживала свое горе, и покупатели замечали на ее щеках слезы, а за слезами в магазин «Золушкино ателье» никто приходить не хотел. Весной 1942 года магазин обанкротился, нам надо было подыскивать другую квартиру.
От родных из Тронхейма пришло письмо, они писали, что тете Сельме неплохо было бы вернуться в Нью-Йорк и помочь сестре с детьми. Обычно все получалось так, как хотели родные. Этот раз тоже не стал исключением.
И вот Юне, Сельма, Элсе и Анни переехали в маленькую темную квартирку на углу 79-й улицы и Лексингтон-авеню.
Хотя Сельма была младшей из сестер, уже в первые недели она негласно назначила себя новым главой семьи. Каждый день она ругала Юне, говорила, что нельзя раскисать, траур давно закончился, прошлого не вернешь – «и если уж тебе так хочется поплакать, то лучше плачь по норвежским парням, которые каждый день гибнут в борьбе с немецкими захватчиками, чтобы мы с тобой и твои дети смогли вернуться домой, в свободную Норвегию!»
Еще Анни рассказывала, что каждое воскресенье, вечером, перед тем как пойти спать, тетя Сельма расставляла по квартире мышеловки, и утром каждого понедельника, пока все еще спали, она осматривала обе комнаты и кухню и подсчитывала ночной улов. Она любовно раскладывала мышиные трупики в ряд на подоконнике, там, в гостиной, они и лежали до конца дня – это была своеобразная церемония прощания.
Рядом жила соседка. Звали ее миссис Пэли. Пожилая дама, высокая и худощавая, с длинными седыми распущенными волосами. Она жила одна, ее муж, мистер Пэли, выбросился из окна в 1930 году, детей у них не было.
Каждый раз, когда кто-то проходил мимо ее квартиры, миссис Пэли выглядывала из-за приоткрытой двери, в ее больших черных глазах светилась мольба: поговори со мной, побудь здесь, не уходи.
– Однажды мы с Элсе возвращались из школы – мы тогда только начали ходить в школу, Элсе – в третий класс, а я – во второй, – и вот миссис Пэли, услышав наши шаги, приоткрыла дверь на цепочку и помахала нам. «Тс-с, – прошипела она. – Шоколада хотите? У меня тут кое-что есть. Здесь у меня полный шкаф шоколада».
Сладости в те времена в наш ежедневный рацион не входили. Я даже помню, что мама, желая хоть как-то компенсировать лишения, которые мы терпели, рассказывала нам о том, что нас ждет после возвращения в Норвегию. «В Норвегии, – шептала мама, – дети едят пирожные "наполеон" и пьют красный лимонад».
«А что такое пирожное "наполеон"?» – спрашивала Элсе.
«Это пирожное, которое пекут из слоеного теста, смазывают ванильным кремом и поливают глазурью с ромовой эссенцией», – отвечала мама, делая ударение на каждом слове.
О чем идет речь, мы не понимали, но слова «слоеное тесто», «ванильный крем» и «глазурь с ромовой эссенцией» мама произносила так, что мы думали, будто все это как-то связано с Богом.
Как бы то ни было, в один прекрасный день мы с Элсе возвращались из школы, миссис Пэли появилась из-за своей двери и спросила, не хотим ли мы зайти к ней и отведать шоколада.
Мы ответили, что, конечно же, хотим, и последовали за ней в темную и сырую квартиру.
И тут же поняли, что совершили ошибку.
Мама с тетей Сельмой запрещали нам общаться с миссис Пэли, они говорили, что у миссис Пэли не все в порядке с головой, что-то стряслось с ней после того, как мистер Пэли… «ну, вы и сами знаете… вылетел в окно».
Далее события развивались следующим образом: миссис Пэли усадила нас на диван – я отчетливо помню, как подо мной что-то зашевелилось, и это что-то того и гляди залезет под платье. Мне вспомнились мышиные трупы, которые тетя Сельма раскладывала на подоконнике, я вскочила с дивана, отряхнула платье и посмотрела на то место, где сидела, – но нет, там ничего не было, кроме старой подушки, заляпанной пятнами.
«Сиди тихо, – шепнула Элсе. – А то шоколад не дадут».
Я уселась на диван, но тревожное чувство, что подо мной кто-то шевелится, не покидало меня.
Миссис Пэли на минуту исчезла и вернулась с фарфоровым блюдом, полным конфет в розовых фантиках. Тут дверь в спальню распахнулась – из щелей в стенах потянуло холодным сквозняком, точь-в-точь, как у нас, – и в дверном проеме я мельком увидела большую неприбранную кровать из темного дерева и зажженную керосиновую лампу. Закрыв дверь, миссис Пэли поставила на стол поднос с розовыми конфетами и уселась на коричневый стул прямо напротив нас. «Угощайтесь!» – сказала она.
Мы с Элсе взяли по конфете. Я смотрела на миссис Пэли, на ее длинные распущенные, совершенно седые волосы и думала о том, что мама с тетей Сельмой говорили, будто бы в голове у миссис Пэли что-то лопнуло, когда ее муж выпрыгнул из окна. Я представила себе лоскуты кожи, клочья волос и растекшиеся мозги – все это вихрем кружилось по квартире, так же, как сейчас кружится снег за окном.
На миссис Пэли было просторное желтое платье с декольте. Я посмотрела на ее тяжелые груди, на глубокую темную ложбинку между ними. Я наклонилась вперед. В ложбинке что-то зашевелилось. Там определенно происходило какое-то шевеление.
И вдруг между грудей у миссис Пэли появился клоп.
Клоп был длинным и желтым, размером примерно с дождевого червя. Я пихнула в бок Элсе и прошептала по-норвежски: «Смотри! У нее по груди кто-то ползет!»
«Ну что же вы не едите? – повторила миссис Пэли, на этот раз уже менее дружелюбно. – Это вам не какой-нибудь обычный шоколад, – сказала она. – Что за избалованные девчонки! – процедила она сквозь зубы, обращаясь к самой себе. – Этот шоколад подарил мне самый богатый в Америке человек, – продолжала она. – Мистер Джеймс Гетц, и было это на Лонг-Айленде в 1928 году, в те времена люди еще умели по-настоящему веселиться».
Мы с Элсе склонились над своими конфетами, пытаясь развернуть фантики. Не тут-то было. Бумага прилипла намертво.
Я растерянно посмотрела на миссис Пэли: можно, мы пойдем домой?
Клоп продолжал свой путь вверх по шее, затем он переполз на лицо и в конце концов остановился на щеке, под правым глазом.
Казалось, миссис Пэли он не доставлял ни малейшего неудобства.
Рикард Блум умер, но хоронить его не стали. Юне не хотела с ним расставаться и взяла его с собой на Лексингтон-авеню, в урне.
Юне не могла его забыть. Она поставила урну в сервант среди самого прекрасного фарфора. Иногда она вынимала ее, протирала на ней пыль. Представляю, о чем говорили сестры, когда дети спали.
«Когда мы уедем в Норвегию, я возьму его с собой», – говорила Юне.
«Рикард не хотел возвращаться в Норвегию», – отвечала тетя Сельма.
«Много ты о нем знаешь!» – фыркала Юне.
«Представь себе, – шипела тетя Сельма. – Уж я-то его знаю получше, чем ты! По крайней мере, мне известно, что он никогда не хотел возвращаться в Норвегию!»
Постепенно они переходят на крик. Урна с прахом Рикарда стоит на журнальном столике посреди гостиной. Сестры стоят по обе стороны стола друг напротив друга.
«Беру его с собой в Тронхейм, и точка», – твердит Юне.
«Вопреки его воле», – возражает тетя Сельма.
Обе смотрят на урну, словно ожидая, что она каким-то образом разрешит спор и признает за одной из них право решать. На мгновение в гостиной воцаряется тишина.
«Не хотел он ни в какой Тронхейм», – безнадежно повторяет тетя Сельма.
Юне проводит рукой по волосам. «Хочет он того или нет, но он поедет в Норвегию», – отвечает она.
Юне прикуривает сигарету и кивает в сторону урны: «Хочет он или не хочет – мы об этом уже не узнаем».
* * *
Сестры Юне и Сельма вместе с маленькими Элсе и Анни еще три года прожили в темной квартирке на Лексингтон-авеню. Все вокруг было довольно мрачным – и сама их квартира, и оставшиеся от этого времени воспоминания. Элсе рассказывала, что все три года лил дождь. Но это неправда, фотография с Кони-Айленда была солнечной. Анни вспоминала, как она упала с желтого велосипеда, на котором ей разрешили покататься, и несколько месяцев лежала в больнице. Это тоже неправда. Бабушка сказала, что в больнице Анни пролежала неделю. Элсе говорила – десять дней. А Сельма утверждала, что несколько часов.
(Тетя Сельма: «Подумаешь, пара ссадин да небольшая ранка на голове, не из-за чего шум поднимать. Все дети падают с велосипедов, и ничего. Упал, встал, снова поехал. Вставай давай! И нечего тут рыдать! Лично я так считаю».)
Все ждали окончания войны, чтобы уехать домой. В Норвегию. В Тронхейм. К пирожным «наполеон». Туда, где спокойно и тихо.
Весной 1942 года все поехали на Таймс-Сквер. Был темный холодный вечер, ледяной ветер насквозь продувал плащи и пальто. Толпы народа собрались в день рождения Гитлера, чтобы выразить свой протест. Смысл происходящего ускользал от Анни и Элсе, людская ярость была им непонятна. В тот вечер устроили нечто вроде публичной казни и под всеобщие аплодисменты зрителей повесили большую, в человеческий рост, куклу, изображавшую Гитлера.
Анни запомнилась страшная давка – она боялась, что не удержит Юне за руку, упадет на землю и толпа затопчет ее.
В начале июня 1945 года Сельма получила извещение о том, что их семье выделено место на пароходе, плывущем в Норвегию. В считанные часы они упаковали в чемоданы все, что было в квартире на Лексингтон-авеню, и вскоре все уже были готовы подняться на борт.
Анни рассказывала: в те последние дни, проведенные в Нью-Йорке, на девочек без конца шикали:
«А долго туда ехать, мам?»
«Тс-с!»
«А что мы будем делать, когда приедем в Норвегию?»
«Тихо!»
«А в Америку мы больше не вернемся?»
«Тс-с! Нет! Думаю, нет».
«Никогда?»
«Радуйся, что мы наконец-то едем домой!»
«Какой же это дом, если я там никогда не была?»
«Тс-с!»
Когда пароход приближался к Ньюфаундленду, Анни спросила: «Это Норвегия?»
«Нет, что ты. До Норвегии далеко. Нам еще ехать и ехать».
Пароход причалил в Бергене, но еще целые сутки их продержали на борту. Анни рассказывала, как они с Элсе стояли на палубе и бросали апельсины маленьким мальчикам, подплывавшим на лодке посмотреть на американский пароход.
Потом они поехали на поезде в Осло. Юне пообещала девочкам, что они вместе сходят в кондитерскую, в настоящую норвежскую кондитерскую, выпьют лимонада и попробуют пирожные «наполеон».
«Давайте отпразднуем наш приезд!» – сказала Юне.
Слоеное тесто. Ванильный крем. Глазурь с ромовой эссенцией.
– Да-а. Это были, конечно, не совсем «наполеоны», – улыбалась Анни, – а военные пирожные, замешанные на маргарине и безалкогольном пиве.
Наконец они сели в ночной поезд до Тронхейма. Никто не спал. Сельма читала книгу. Элсе с Анни смотрели в окно. Юне сидела, держа в руках урну с прахом, и плакала. Всю дорогу домой – пока они плыли на пароходе, ехали в Осло, заходили в кондитерскую и даже сейчас, в поезде, – она молча сидела с урной в руках.
Анни рассказывала, что один раз Сельма так разозлилась на Юне за ее жалкий вид и вечную урну в руках, что попыталась отобрать урну.
Это произошло еще на борту парохода.
Сельма подкралась к Юне сзади, выхватила у нее урну и побежала по палубе. Юне бросилась за ней и догнала – можно сказать, в последний момент.
Сельма как раз собиралась выкинуть урну в океан. Но тут Юне настигла ее и ударила по лицу так, что Сельма плашмя упала на палубу. Урна, которая, к счастью, была закрыта, покатилась в сторону и остановилась возле Анни, которая ее сразу подняла.
(Анни: «Не волнуйся, папа, я тебя посторожу. А то опять упадешь и расшибешься!»)
Потасовка двух сестер переросла в грандиозную драку прямо на палубе. Никто никогда не видел ничего подобного. Их смогли разнять лишь несколько взрослых мужчин.
Больше сестры друг с другом не разговаривали.
После приезда в Тронхейм они вообще перестали общаться. Ни слова. Ни взгляда. Когда же они встречались в Нурдре, – например, воскресным вечером в мае 1957 года, – то даже не здоровались.
Бабушка и тетя Сельма оставались лютыми врагами в течение сорока четырех лет, вплоть до 1989 года, когда бабушка умерла, за год до того, как мне исполнилось двадцать, Жюли вышла замуж за Александра, а Анни вернулась в Америку.
* * *
«И все это, – думает Анни, – все это было так давно». Она снова оглядывается и видит, что мужчина, назвавшийся доктором Престоном, стоит на прежнем месте и улыбается своей обаятельной улыбкой. До сих пор стоит на том же самом месте. Я же говорила тебе, Анни: не останавливайся! Иди дальше. Пусть он останется просто незнакомым мужчиной, а воспоминания – воспоминаниями, что прошло, то прошло.
Но теперь уже слишком поздно.
Мужчина заметил, что она на него смотрит. И решил снова попытаться заговорить с ней. Он подходит к Анни. Останавливается прямо перед ней и протягивает руку. Анни не уходит. Она хочет с ним поговорить. Она совсем не знает его, но «у него такая приятная улыбка», думает она, ей давно никто так не улыбался.
Что же мне делать?
Я не могу им помешать. Я ведь нахожусь в Осло и думаю, что Анни, как нормальная порядочная мать, просто отдыхает в Нью-Йорке. Может, осматривает Гуггенхайм, а может, гуляет по Бродвею или едет на лифте на крышу Эмпайр-Стейт-билдинг, чтобы посмотреть на город с высоты. Я совсем забыла, что Анни у нас не обычная мама. Что Анни – это Анни, а она у нас с большим приветом. Вы только послушайте! Теперь он спрашивает, можно ли пригласить ее на ланч в маленькое французское бистро на Мэдисон-авеню, совсем неподалеку от того места, где они находятся.
Она ведь ничего о нем не знает. Но если я ей расскажу о нем, это ничего не изменит. Даже если я все расскажу ей о докторе Престоне. Это ничего не изменит. Она ведь меня не слышит. Скоро будет слишком поздно.