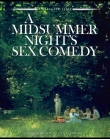Текст книги "Прежде чем ты уснёшь"
Автор книги: Лин Ульман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Через несколько дней я навещаю Билли в больнице. Я принесла цветы. Желтые орхидеи. Дела у него идут неважно. Билли здесь совсем не нравится. Он никогда не лежал в больнице, только навещал отца, когда тот был смертельно болен.
– Обычно папа лежал в кровати, а я сидел рядом на металлическом стуле, – рассказывает Билли. – Отец задыхался, но иногда, когда ему становилось лучше, он брал меня за руку и мы разговаривали.
– О чем?
– Я уже не помню. – Билли смотрит в потолок. – За минуту до смерти отец схватил меня за руку и не отпускал, даже когда умер. Но больше всего мне запомнилось другое. Его костлявая рука, вцепившаяся в мою. Нет, другое. Больше всего мне запомнилось то, как у него воняло изо рта, когда он задыхался.
– Чем воняло?
– Дерьмом, – отвечает Билли. – Этот запах пропитал все стены, постельное белье, еду, он все время стоял у меня в ноздрях. – Билли худо-бедно ухитряется привстать на кровати и кричит: – Выпустите меня отсюда, выпустите меня, к чертовой матери!
Я навещаю Билли еще раз. Он пошел на поправку, и скоро его выпишут. Мы занимаемся любовью за ширмой. Из-за сломанных ребер и ноги это не так уж и просто; но Билли говорит, что с больницей у него связаны неприятные воспоминания, так что для полноты картины нам надо попробовать сделать это в больнице.
* * *
Что точно произошло между Жюли и Александром, прежде чем у них все пошло наперекосяк, я, разумеется, не знаю. Я не настолько глупа, чтобы думать, будто я разбираюсь в чужих семейных проблемах. Но внешние обстоятельства мне известны. Вот о них-то я и буду здесь говорить. А что там было на самом деле, почему муж ни с того ни с сего начинал ненавидеть свою жену и почему женщина сражается за мужа, которого в душе презирает, – это для меня загадка.
Я не знаю, презирала ли Жюли Александра. Думаю, да. Я, во всяком случае, его презирала. Вся его хваленая безупречность – чушь да и только! Не знаю, может быть, Жюли видела в нем что-то, чего я не рассмотрела? Иногда мне кажется, что я изучила Жюли вдоль и поперек. Иногда я в этом сомневаюсь. Но я уже сказала, я не настолько глупа, чтобы утверждать, будто знаю, что творится в чужой семье.
Да, я не настолько глупа, чтобы думать, будто знаю о других всю правду. Мне вспоминается один случай, произошедший через несколько лет после свадьбы Жюли и Александра. Мы поехали за город – Жюли и Александр сняли на лето красный домик в Вэрмланде [10]10
Область в Швеции.
[Закрыть], «на родине Сельмы Лагерлеф», как говорила Жюли; недалеко от поселка Коппом. Нас было несколько человек – Жюли, Александр, Арвид, Торильд, Валь Брюн, мы с Карлом и Сандер, которому тогда исполнилось четыре года. Карл был моим молодым человеком. О нем я расскажу позже.
Арвид начал пить уже по дороге. Он ко всем пристает и хамит. Называет Торильд кобылой. Мы проезжаем Бьёркеланген, Сетскуг и Рэмскуг – но стоит нам пересечь шведскую границу и въехать в Вэрмланд, как местность резко меняется: маленькие красные домики, поля, луга, тут и там пасется скот – это совсем не похоже на Норвегию, но тоже красиво. Каждый раз, увидев в окно лошадь, которая щиплет травку, Арвид высовывается из машины и кричит: «То-о-орильд, иди-ка сюда, я дам тебе кусочек сахара!»
Карл просит Арвида прекратить. Торильд, едва не плача, сидит на заднем сиденье; даже вечером, спустя долгое время после нашего приезда, она с трудом сдерживает слезы и ждет не дождется ночи, чтобы поскорее уйти спать и не попадаться никому на глаза.
Но пока еще рано.
Арвид все сидит за столом на кухне, выкрашенной в голубой цвет. Сидит с тех пор, как мы поели и выпили вина.
Жюли наверху поет Сандеру колыбельные перед сном, Карл с Александром пытаются растопить печь – вечер довольно прохладный. Валь Брюн растянулась в плетеном кресле. Немного позже, когда Сандер уже заснул и Жюли вернулась к нам в гостиную, мы услышали, как на кухне в полном одиночестве начал орать Арвид. В первый момент нам показалось, что он плачет, потом он пару раз выкрикнул «манда», громко захохотал и вдруг появился в дверях гостиной: его большое жирное тело покачивалось. Печной свет не попадал на него. Арвид бормотал что-то неразборчивое. Все молча смотрели на него, изо рта у него текли слюни, он пытался что-то сказать… «Какого хрена, вы что, не поняли? – спрашивает он, – у вас что, чувства юмора нет?» Александр говорит: «Арвид, ложись спать, ты напился и ведешь себя по-хамски». Арвид тыкает в Александра указательным пальцем. «Я тебе кое-что скажу, – говорит он. – Ты ведь, черт побери, мой младший брат… По-хамски!.. Какого черта! Слушай, ты!..» – Арвид тыкает пальцем в Александра. Мы молча ждем, когда он выговорится. Но он уже забыл, что собирался сказать. Он возвращается на кухню. Через час мы слышим, как Арвид идет в спальню и пытается разбудить Торильд.
На следующий день я просыпаюсь рядом с Карлом; чувствую головную боль, настроение отвратительное – как всегда по утрам. Я открываю глаза, вижу перед собой старые розовые обои в мелкий цветочек, и цветочки кажутся мне клопами, которые лезут в глаза, в ноздри, в рот и подмышки.
Я встаю и спускаюсь по крутой зеленой крашеной лестнице.
Дверь в кухню приоткрыта. В щель я вижу Арвида и Торильд. Сквозь зеленую листву в окно кухни попадает солнечный свет. Арвид и Торильд сидят в лучах света на деревянном полу, в пижамах, в руках у каждого по большой чашке кофе. Арвид гладит Торильд по лицу. Торильд улыбается. Они что-то говорят друг другу, но слов я не слышу. Они сидят, прижавшись друг к другу лбами.
В общем, я не стану утверждать, что знаю, как живут другие семьи, из каких мелочей складываются отношения между супругами – например, Жюли проникается нежностью к Александру, когда он, волнуясь, резко и как бы торжественно откашливается перед тем, как сказать что-нибудь важное. Об этих крошечных деталях не знает никто, но все сидят и решают, и выносят свои приговоры: у этих хороший брак, у тех – плохая семья, хотя сами толком ничего не знают.
В первый год после свадьбы Жюли я часто встречаюсь с ней, Валь Брюн и Торильд. Мы пьем пиво, вино и джин-тоник. Кто-то написал, что нужно на две рюмки опережать реальность и на три не дотягивать до опьянения. Пусть это будет нашим девизом.
Мы ходим по разным кафе.
Мы рассказываем друг другу свои секреты.
Жюли сидит напротив нас за столиком в кафе. Проведя рукой по волосам – Жюли решила отрастить длинные волосы, – она говорит, что ей пора домой: няня Сандера сдает экзамены, в час ей надо уйти; потом Жюли говорит, что Александр ей изменяет. Валь Брюн удивленно смотрит на нее, раскрывает рот, чтобы что-то сказать, снова закрывает, потом говорит: «По-моему, это неправда, Александр не из таких». Торильд качает головой, говоря, что этого не может быть: «Арвид Ланге Бакке – глупая свинья, но Александр Ланге Бакке – человек порядочный, если хотите знать мое мнение».
Тем же вечером, или в другой раз: Жюли, Валь Брюн, Торильд и я идем по Богстадвэйен, мы берем друг друга под руки, как маленькие девочки, – чтобы было теплее. Изо рта идет пар. Ночь. Мы в теплых пальто. Кто-то из нас – по-моему Торильд, а не Жюли, – говорит:
– Иногда мне хочется застать своего мужа на месте преступления, найти неопровержимое доказательство того, что он мне изменяет, покончить наконец со всей той ложью, которую мне приходится выслушивать, добиться справедливости, получить законное право ненавидеть его.
– Я знаю одну женщину, – говорит Валь Брюн, – которая десять лет была замужем за человеком, каждый день говорившим ей, что он ее любит, потому что она его об этом просила. Эта женщина думала, что у нее хорошая, а главное, надежная семья, пока однажды не нашла в кармане его куртки, за порванной подкладкой, фотокарточку голой женской груди. Она вовсе не собиралась, как говорится, производить обыск, она ни в чем не подозревала своего мужа, она просто искала квитанцию из химчистки, а вместо этого нашла фотокарточку голой женской груди. Ни лица. Ни имени. Ничего. Внизу была надпись зеленой тушью: «Я жду тебя!»
– Вот как раз о таком неопровержимом доказательстве я и говорю, – бормочет Торильд и коротко смеется.
– Можешь сфотографировать мою грудь и положить снимок Арвиду в карман куртки, – предлагает Валь Брюн.
– Что? – переспрашивает Торильд, поворачиваясь к Валь Брюн.
– Можешь сфотографировать мою грудь и положить снимок ему в карман куртки, – повторяет Валь Брюн. – А потом у него на глазах достанешь фотографию, посмотришь на нее глазами, полными ужаса, сунешь карточку ему в нос и спросишь: «Это что такое, черт побери?» Вот тогда ты увидишь, что правда на твоей стороне. Понимаешь? Успех гарантирован. Ни одному мужчине не придет в голову, что жена сама подкладывает ему компромат, чтобы потом упрекнуть его в неверности, смешать с грязью и выставить из дома, возможно, обрекая его тем самым на вечные муки совести.
– Да, бедняжка Арвид, нелегко ему придется, – говорю я. – Представляю, как Торильд стоит перед ним, вся дрожа от праведного гнева, с фотографией голой женской груди, которую она нашла в его кармане. Что он на это скажет? «Да я первый раз в жизни вижу эту фотографию!» Так и скажет? «Это не мое!» А может, так: «Я понятия не имею, чья это грудь!» Вот дурак. Отпирается до последней секунды. Не сдается. Нет, чтобы раз в жизни сказать правду. После всех лет, проведенных вместе Арвид и Торильд – и вдруг такое. Короткая мучительная сцена: «Я не изменял тебе, Торильд, это не то, что ты думаешь».
– Бедный Арвид, – говорит Торильд.
– Прекратите, – говорит Жюли.
– Успокойся, – отвечает Валь Брюн. – У каждого свои переживания, дай нам немножечко повеселиться.
– А что было дальше с той женщиной, которая нашла фотографию? – спрашиваю я.
– А, ты про нее, – вспоминает Валь Брюн. – Ее муж даже не стал отпираться, когда она предъявила ему снимок, – сказал только, что у этой женщины есть и лицо – лицо, без которого он не может жить, что ее зовут… а впрочем, это не имеет значения… что он думает о ней каждую секунду… даже когда занимается любовью с женой, «причем тогда – особенно», сказал он; и, раз нарушив молчание, этот неверный муж уже не мог остановиться и в конце концов объявил жене, что хочет прожить остаток жизни с другой женщиной. И что он уже упаковал свой чемодан. Отчаянно рыдая, жена спросила только: «Когда же ты успел упаковать чемодан?»
Зачем она об этом спросила? Боже праведный, зачем люди сами причиняют себе такую боль? – говорит Валь Брюн и продолжает: – «Чемодан я упаковал еще десять лет назад, дорогая, – отвечает неверный муж, и я вижу легкую улыбку у него на губах. – Ровно через четыре месяца после нашей свадьбы. То есть тогда я начал его упаковывать. Мало-помалу. Я делал это каждый раз, когда ты валялась в кровати в своей любимой уродливой вязаной кофте и сквозь зубы отдавала мне приказания – принеси стакан молока, принеси яблоко, принеси чипсы. Каждый раз, когда ты обнимала меня за шею, а я читал книгу, или слушал музыку, или просто смотрел в окно, ты обнимала меня за шею, шепча: "О чем ты думаешь? Ну о чем ты думаешь?" И каждый раз я заставлял себя придумывать ответ, который удовлетворил бы тебя: "Я думаю о том, как мы проведем отпуск", или "о том, как мы здорово сходили на прошлой неделе в кино", или "о том, как тебе идет это платье", или "о том, что нам следует покрасить кухню в желтый цвет", – потому что ты всю жизнь хотела что-нибудь переделать, тебе всегда все не нравилось. Я собирал вещи, когда ты ела чернослив, – какого черта, ты его не ела, ты пожиралаодну черносливину за другой – и чавкала! Каждый раз, понимаешь, каждый раз, когда ты что-то такое делала, я клал в чемодан еще одну вещь. Трусы, рубашку, носок, еще носок, шелковый галстук, свитер… И чем больше… как бы это сказать? Чем больше ты меня раздражала, тем больше красивых вещей клал я к себе в чемодан. Если ты кашляла всю ночь напролет, я клал туда свитер. После каждого "о чем ты думаешь?" я клал туда галстук. После каждой черносливины – по носку. Когда ты заставляла меня заниматься любовью, как обычно, не спрашивая, хочу я того или нет, – я клал туда рубашки. А иногда, когда я чувствовал твой запах на своих руках, я клал туда целый костюм».
– Да, за десять лет можно собрать большой чемодан, – говорит Торильд.
– Под конец у него накопился целый сундук, – говорю я.
– Целый контейнер, – прибавляет Валь Брюн.
– Прекратите, – просит Жюли.
– Как там раньше говорили, когда мужчина начинал гулять на сторону? «Держись за своего мужика, Жюли, если ты уверена, что он тебе нужен», – говорит Валь Брюн.
– Sta-a-and by your ma-a-an! [11]11
Держись за своего мужика (англ.).
[Закрыть]– поет Торильд и мурлычет мелодию себе под нос.
И мы подхватываем: «Sta-a-and by your ma-a-an!»
Мы веселимся от души.
– Ничего смешного, – тихо произносит Жюли и начинает плакать.
– Успокойся, Жюли, – говорит Валь Брюн, прикуривая сигарету. У нее черное пальто и большая шляпа, изо рта и из носа идет густой дым, лица почти не видно в темноте.
– Александр тебе не изменял, – утешает Торильд Жюли.
– Не изменял он тебе, – говорю я.
– Ну с кем он мог тебе изменить? – спрашивает Валь Брюн.
– Понятия не имею, – отвечает Жюли.
– Почему же ты тогда думаешь, что он тебе изменяет? – спрашиваю я.
– Все довольно банально, – говорит Жюли. – Когда я пытаюсь с ним заговорить, он меня словно бы не слышит, домой приходит поздно вечером, иногда почти ночью, и долго не может заснуть; он купил себе мобильный телефон, и я никогда точно не знаю, где он на самом деле находится; иногда он чересчур нежен, иногда не в меру раздражителен; он принимает душ после работы и перед сном, он до смешного подробно рассказывает о том, где был, и отвечает на провокационные вопросы, которых я не задавала.
* * *
Ночь. Давно пора спать, а Александр только что вернулся домой. Он лежит в кровати рядом с Жюли и прислушивается к ее дыханию. Жюли дышит ровно и глубоко. Глаза у нее закрыты, но Александр все равно знает, что она не спит, он знает, что она не спит и следит за каждым его движением. Она думает, что он думает, будто она спит. Да Жюли просто не видит себя со стороны, никогда не слышала, как она дышит во сне. На самом деле, сон у нее не такой глубокий и ровный, как она сейчас изображает. Сон у Жюли чуткий и ломкий, как старинная газета. Дышит она почти неслышно. Иногда он даже наклоняется к ней, чтобы посмотреть, жива ли она, как раньше они оба склонялись над Сандером, нагибаясь к его губам и носу, чтобы убедиться, что он жив. Сон Жюли. Одно неловкое движение, и она тотчас открывает глаза – хотя сама еще спит. Александру потребовалось время, чтобы понять это: Жюли не просыпается, даже когда открывает глаза, разговаривает и произносит бессвязные, часто бессмысленные фразы, типа: «Ну что ты будешь делать!» или «Я повешу платье вон там».
Он хочет дождаться, пока Жюли заснет по-настоящему, и выкинуть камни.
Сначала надо убрать камень, который лежит между ними в постели. «Ну зачем в постели понадобился камень?» – думает Александр, радуясь, что посреди ночи ему в голову пришла такая простая и понятная мысль, да к тому же он догадался в первую очередь выкинуть именно этот камень, а не какой-нибудь другой.
Александр оглядывает комнату: полумрак, давящая тишина ночи, окно закрыто, потому что на улице мороз. Жюли даже обмотала нитками оконные ручки у основания – ей кажется, что сквозь щели дует.
Александру не нравится камень, который лежит на шкафу. От него видна только тень: о размерах, деталях и форме судить невозможно; как его оттуда убрать? Может, понадобятся инструменты?
Под стулом тоже лежит камень, он похож на краба. Александр заметил его только сейчас.
Жюли дышит ровно и глубоко. Ну когда же она заснет? Сколько можно притворяться?
«Сначала камень из кровати, – думает Александр, – это уже решено. Тот, что на шкафу, может и подождать. И тот, что под стулом, – тоже. Сначала выкинуть камень из кровати». Ему в голову пришла отличная мысль, и нечего валять дурака. Ведь чаще всего как бывает? Придумаешь что-нибудь толковое, а потом начинаешь мудрить и все только запутываешь. Решено – сначала тот, что в кровати! «А потом надо составить список, написать план – без плана не обойдешься – план дальнейших действий, – думает Александр. – Сначала один камень, потом другой, потом третий. Вот и хорошо», – думает он, дружески похлопывая себя по плечу.
* * *
Впервые я встречаю Карла в «Театральном кафе» в Осло. Это высокий молодой человек с темными волнистыми волосами до плеч, обутый в сливово-красные ковбойские сапоги. Рассеянно скользя взглядом по сторонам, он дожидается метрдотеля.
Мы с отцом ходили в кино, и папа пригласил меня поужинать вместе. Бифштекс с жареным луком и картофелем, тушеным в сливках, домашнее красное вино, ванильное мороженое с горячим шоколадным соусом.
Я вижу Карла до того, как он замечает меня.
Я ставлю локти на стол, кладу голову на руки и смотрю на него. Долго смотрю. Карл в своих сливово-красных ковбойских сапогах стоит, прислонившись к витрине с пирожными и бутербродами, и ждет, пока метрдотель выделит ему освободившийся столик. Меня он не замечает.
Я смотрю на него. Смотрю долго, пытаясь привлечь его внимание, поймать его взгляд – безрезультатно. Я моргаю, вращаю глазами, шумно смакую шоколадный соус и облизываю десертную ложку, наматываю на палец прядь волос и посылаю в пространство воздушные поцелуи… Ноль реакции. Я медленно делаю большой глоток вина, мои губы и щеки розовеют, я напеваю строфу из Гершвина [12]12
Гершвин Джордж (1898–1937) – американский композитор, его песня «Летняя пора» широко известна в исполнении Луи Армстронга.
[Закрыть], подпираю рукой голову и вздыхаю, краснею и бледнею, с грохотом падаю со стула, делая вид, что потеряла сознание, обессиленная и разбитая лежу на полу, под столом; поднимаю голову, смотрю на него. Но он меня не замечает.
Что делать – ума не приложу.
Потом он замечает молодую, загорелую и большегрудую красавицу блондинку. Они с подружкой сидят за столиком неподалеку от нас. Блондинка машет ему и показывает на свободный стул рядом с собой: садись к нам, подмигивает она. Я лежу на животе под столом, глядя, как приближаются сливово-красные ковбойские сапоги. Они подходят все ближе и ближе. Но не ко мне, а к ней.
– Он меня не замечает! – взрываюсь я.
– Кто? – спрашивает папа.
Он оглядывается вокруг и наконец замечает, что я лежу на полу, размахивая руками. Он говорит, что мне следует сесть за стол. В этом я с ним согласна. Когда я снова усаживаюсь на свое место, папа спрашивает, кто именно меня не замечает.
– Вон тот, который только что сел за столик рядом с блондинкой и ее подружкой, высокий парень с темными волосами.
– А блондинка действительно очень красивая, – говорит папа.
– Почему на меня никто никогда не смотрит? – спрашиваю я.
– Ты пока еще не нашла свой стиль, – отвечает папа.
– Была бы я Катрин Денев…
– Если внимательно присмотреться, можно найти в тебе сходство с Мэри Пикфорд.
Я смотрю на мужчину с черными волнистыми волосами.
– Зато я умею петь, – говорю я. – Если я запою, ни один парень передо мной не устоит.
Мужчина улыбается блондинке.
– Да и танцуешь ты тоже неплохо, – говорит папа. – Лучше, чем Жюли.
Я поворачиваюсь к нему:
– По-моему, Александр ей изменяет, – говорю я.
– Изменяет Жюли?
– Да.
– С кем? – спрашивает папа.
– Не знаю.
– А я так надеялся, что с Александром она будет счастлива, – тихо говорит он.
– Выходит, зря надеялся.
– С другой стороны, он вовсе не обязан делать ее счастливой.
– А зачем тогда жениться? – я смотрю на папу. – Какой смысл?
– Не понимаю, с чего ты взяла, что смысл именно в том, чтобы достичь счастья?
Иногда я думаю про нашу летнюю поездку на маленькую вэрмландскую дачу. И мне вспоминается случай, которому я не придавала никакого значения до тех пор, пока Жюли не сказала, что Александр ей изменяет.
Валь Брюн сидит в плетеном кресле у раскрытого окна, наслаждаясь легким ветерком. На самом деле она, скорее, лежит в кресле, большая соломенная шляпа скрывает ее лицо, тонкая рука бессильно свисает вниз, между пальцами догорающая сигарета.
Карл с Александром пытаются растопить печь. На кухне в одиночестве беснуется Арвид.
Этажом выше в одной комнате лежит Торильд, в другой – Жюли поет Сандеру колыбельную.
Что делала я, не помню. Может быть, пошла прогуляться в сад, вообразила, что слышу кузнечиков, и притворилась, будто среди деревьев я стала невидимой. Время от времени я заглядывала в окно гостиной. Смотрела на Карла, стоящего у печи, и думала: вот мой парень. Потом смотрела на Александра, стоящего у печи, и ничего не думала. Я набрала полевых цветов и воткнула букетик в петлю рубашки. Сняла туфли и носки. Погналась за шмелем вниз по склону, к сараю. Потом опять вернулась к дому. Заглянула в окно: Валь Брюн все так же лежит, раскинувшись в плетеном кресле: соломенная шляпа, сигарета, длинная тонкая рука. Валь Брюн босиком. Она раскачивает босой ногой в такт музыке, которую кто-то включил. Это Эверт Тоб [13]13
Тоб Эверт (1890–1976) – шведский поэт и музыкант.
[Закрыть]. Он поет про лето, про Швецию и про нас – так кажется мне. У Валь Брюн потрясающе красивые маленькие белые ноги. Пальцы на ногах гладкие, как жемчуг. Ногти накрашены красным лаком и похожи на землянику, которую мы сегодня ели на десерт, слегка посыпав сахаром. Валь Брюн продолжает качать ногой. Внезапно мне захотелось попробовать эти пальцы на вкус. Это не было желанием – к женщинам я всегда была равнодушна. Мне просто хотелось попробовать на вкус палец Валь Брюн, неважно, какой. Они ведь такие сладкие. Такие вкусные. Да еще она так соблазнительно покачивает ногой… Я стою и смотрю. Александр поворачивается – ему наконец-то удалось растопить печь. В комнате только он и Валь Брюн. Карл за чем-то пошел на кухню. Александр поворачивается. Смотрит на Валь Брюн. Он оглядывает ее всю, с головы до ног. И вдруг становится перед ней на колени и берет ее ступню себе в рот. Она улыбается, закрывает глаза. Он почти всасывает в себя ее пальцы, один за другим, как устриц. А потом облизывается. Затем резко встает и выходит из комнаты.
Я тогда не придала этому особенного значения. В каком-то смысле я понимала Александра. Правда, сама я устриц не очень люблю. Вот если бы на кухонном столе стояла миска толченой смородины со сливками, я бы точно не удержалась и все съела, даже если бы смородина предназначалась не мне. Потому что миску толченой смородины со сливками увидишь не часто. Я не ела ее с тех пор, как была маленькой и бабушка пела мне детскую песенку: «Смородину со сливками подайте нам сюда».
Как я уже сказала, тогда я над этим не задумалась. Я не придала значения мимолетной – как бы это назвать? – мимолетной слабости Александра и, разумеется, ничего не сказала Жюли.
Я рассказала эту историю папе. Год спустя. Не в «Театральном кафе», а в другом ресторане.
Папа почесывает себя под глазом. Делает глоток красного вина.
– Думаешь, Александр изменяет Жюли с Валь Брюн, с ее свидетельницей? – спрашивает он.
– Не знаю, я просто рассказала тебе, что видела.
– Как глубоко в рот он засунул ее ногу?
Я раскрываю рот как можно шире и засовываю туда руку.
Папа кивает.
– Так глубоко?
– Примерно, да.
Мы молчим. Я спрашиваю:
– Пап, а что ты понимаешь под словом «измена»?
– Переспать с кем-то.
– Ну, это понятно.
– Все действия, которые совершаются в полной наготе, – в нерешительности прибавляет папа.
– Полную наготу ты противопоставляешь частичной? – переспрашиваю я.
– Что-то вроде этого, – бормочет он.
– А поцелуи взасос можно считать изменой?
– Не-е-ет.
– Я с тобой не согласна, – говорю я. – Подумай, сколько можно узнать о человеке за такой долгий поцелуй. Я узнаю о мужчине все – прости мне мою прямоту, – я узнаю все, что мне нужно, по тому, как он целует меня. Если меня целует женатый мужчина, я узнаю о нем такие вещи, которые были известны только его бывшим девушкам и жене.
– Не неси чепухи, – говорит папа. – Ничего ты не узнаёшь.
– Значит, кусать, целовать, сосать и лизать кому-то пальцы на ногах – это не измена?
– Карин, ты прекрасно понимаешь, что все дело в том, как это делать, – удрученно говорит папа.
– А если засунуть в рот всю ступню?
Папа смотрит в потолок.
– Всю ступню целиком в рот? – повторяю я.
– Всю ступню целиком в рот – это нехорошо, – говорит папа.
– Вот именно, – соглашаюсь я. – Валь Брюн никогда не внушала мне доверия.
– Дело не только в ней.
– Наш замечательный Александр Ланге Бакке! – говорю я. – Когда-нибудь я его застрелю.
– Ладно тебе, – говорит папа и тянется через стол, чтобы погладить меня по голове. – Откуда столько драматизма? Жюли с Александром без нас разберутся. Ты, Карин, тоже не ангел.
* * *
Александр садится на кровати. Рядом дышит Жюли. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.
Александр смотрит в окно.
Интересно, можно задушить человека ниткой?
Лопнет ли нитка, если затянуть ее как следует на шее? Наверняка лопнет.
А на другой день у нее вокруг шеи – там, где нитка врезалась в кожу, – будет красная полоска – как тоненькие бусы.
И больше ничего.
Тут нужна веревка. Или трос. А можно просто – руками.
Он вспоминает заключительную сцену из фильма «Полет над гнездом кукушки», когда индеец кладет на лицо Джеку Николсону подушку, выбивает решетку и уходит через окно, навстречу свету.
Жюли. Александр смотрит на лежащую рядом Жюли. Она дышит ровно и глубоко, как ни в чем не бывало.
Вдох. Выдох. Вдох. Мне никогда отсюда не вырваться.Александр рывком садится на кровати. Мне никогда отсюда не вырваться.
Иногда, приходя домой ночью, когда Жюли уже спит или притворяется, что спит, он приподнимает одеяло и смотрит на ее тело. Какая худая! Какая же она худая! Жюли любит спать на животе, вдоль спины у нее растет темный пушок, между ног лежит подушка. Узкий затылок, тонкие ребра, маленькие ягодицы, ноги, пальцы.
Все в Жюли маленькое, тонкое и слабое.
Кроме ступней.
Камень, лежащий между ними в кровати, размером примерно с ее ступню.
Жюли не красит ногти на ногах красным лаком.
Александр тянется к камню. Берет его, поднимает.
«Сейчас я разделаюсь с ним раз и навсегда. Не хватало еще, чтобы у нас в кровати лежали камни», – думает он.
Он поднимает его – камень оказался немного тяжелее, чем он предполагал. И все же не настолько тяжел, чтобы его нельзя было положить на подоконник, или на шкаф, или на пол, рядом с тем, другим, большим и тяжелым.
Он проводит по камню указательным пальцем, ощущая его рытвинки и шероховатости, кладет его обратно в кровать.
В конце концов он вышвырнет этот камень. Не только из кровати. Из дома! Он вышвырнет из дома все камни!
Если он положит этот камень на подоконник, на пол или на шкаф, это будет только временным решением вопроса, думает Александр.
Если кто-нибудь спросит, как мне в конце концов удалось соблазнить Карла, высокого мужчину с черными волнистыми волосами и в сливово-красных ковбойских сапогах, я расскажу про то, что случилось в тот апрельский вечер, когда мы с папой ужинали в «Театральном кафе». На самом деле все начинается и кончается Гершвином. Я сомневаюсь во многом, но только не в Гершвине. Девушка, которая умеет петь Гершвина, может ни о чем в жизни не беспокоиться.
Послушайте!
Но не буду забегать вперед. Мы с папой были в кино, смотрели легкомысленный мюзикл «Высшее общество» с Фрэнком Синатрой и Грейс Келли в главных ролях. В середине фильма Фрэнк Синатра очаровывает Грейс Келли (и, разумеется, соблазняет ее, – но раньше такие сцены в фильмах не показывали, вместо этого герои просто танцуют), как уже было сказано, Фрэнк Синатра очаровывает героиню – очаровывает тем, что поет о ее глазах.
Я встаю из-за стола и говорю папе:
– Дай мне свою шляпу!
– Что? – переспрашивает он.
– Дай мне шляпу.
– Она в гардеробе.
– Тогда пойду возьму ее.
– Карин, сядь на свое место.
Я целую отца в лоб и ухожу.
– Ты уже давно за меня не отвечаешь, – улыбаюсь я.
– Да, но я отвечаю за свою шляпу! – кричит он.
Я забираю папину шляпу из гардероба, надеваю ее на голову и смотрю на свое отражение в большом зеркале у входа в кафе.
– Она тебе немного велика, – говорит швейцар.
Я смотрю на его отражение в зеркале, встречаюсь с ним взглядом.
– Зато она красивая, – отвечаю я.
Я возвращаюсь в зал, прохожу мимо папы и карабкаюсь на сцену, где сидит оркестр «Театрального кафе», состоящий из трех человек.
Позвольте вам представить: Сёренсен за пианино, Чарлей с виолончелью, Викстрём со скрипкой. Все они старые, уверена, им уже лет по сто. Они немножко похожи на кукол Иво Каприно [15]15
Каприно Иво (1920–2001) – норвежский режиссер, создатель кукольных мультфильмов.
[Закрыть].
– Сёренсен, – говорю я, – сыграете Гершвина?
– Хм, – с сомнением в голосе отвечает Сёренсен, глядя на Чарлея и Викстрёма. – Нет ничего хуже полупьяной женщины, которой взбрело в голову спеть в ресторане «Летнюю пору» Армстронга.
– Я не полупьяная, – я уже более чем полупьяная, я никогда ни в чем не бываю «полу», но об этом я Сёренсену не говорю, – и я не собираюсь петь «Летнюю пору», – возражаю я.
– Хм, – отвечает Сёренсен, зажмурившись.
– Я не против, – говорит Чарлей.
– Почему бы и нет, – говорит Викстрём.
– Хм, – в нерешительности тянет Сёренсен и, нагнувшись к балюстраде, смотрит на мужчину с темными волосами, обутого в сливово-красные ковбойские сапоги. – Ты пытаешься соблазнить его? – спрашивает он.
Я киваю.
– И пока что тебе это не удается?
– Нет.
Покачав головой, Сёренсен поворачивается к коллегам.
– Вон тот тип ее ни в какую не замечает. Но мы тут бессильны. По-моему, ему по душе блондинка.
– Какая блондинка? – спрашивает Чарлей.
– А вон та, внизу. Сюда смотри. Вон – с подружкой.
Чарлей и Викстрём нагибаются к балюстраде.
– Хороша, – бормочет Чарлей.
– Великолепна, – прибавляет Викстрём.
– Послушайте, – говорю я, – вы сыграете или нет?
– У тебя нет шансов, – пожимает плечами Сёренсен.
– Я умею петь.
– Она умеет петь, – говорит Чарлей.
– А танцевать ты умеешь? – спрашивает Сёренсен.
– И танцевать тоже.
– И танцевать она умеет, – повторяет за мной Чарлей.
Викстрём щурится, разглядывая меня через очки.
– Как тебя зовут? – спрашивает он, осторожно притрагиваясь к моим волосам. Руки у него большие и старые.
– Карин Блум. Меня зовут Карин Блум.
– А ты не родственница Рикарда Блума, который эмигрировал в Америку?
– Я его внучка.
– Так и знал.
– Но я его, конечно, никогда не видела, – говорю я. – Он умер во время войны.
– Я знаю, мы были знакомы, – отвечает Викстрём.
– Знакомы?
– Еще бы. Мы приехали в Нью-Йорк почти одновременно, в тридцать первом, я запомнил, потому что в тот год корнетист Бадди Болден умер в сумасшедшем доме в Луизиане. Помню, мы с Рикардом еще говорили о том, что нам теперь никогда не услышать Бадди Болдена, потому что его музыка умерла вместе с ним, и единственное, что нам остается, – это закрыть глаза и представить, как он играл раньше, еще до того, как попал в тюрьму, до того, как напился до бесчувствия и ударил свою тещу по голове кувшином. Вот он подносит корнет к губам и начинает играть…