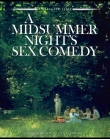Текст книги "Прежде чем ты уснёшь"
Автор книги: Лин Ульман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Лин Ульман
Прежде чем ты уснёшь
Посвящается Нильсу
Хотел бы я колыбельною песней
Кого-то в ночи утешать.
Хотел бы тебя баюкать я песней
И в сон из сна провожать.
Хотел бы я быть единственным в доме,
Кто знал бы, не ведая сна,
Что лес так безмолвен, а мир огромен,
А ночь за окном холодна.
Зовут друг друга часов голоса,
И до дна раскрывается век.
И бродит внизу чужой человек
И будит чужого пса.
Ушел. И опять над тобой, не дыша,
Чуткий взгляд мой, открыт и смел.
Он хранит твой сон, встрепенуться спеша,
Если что шевельнется во тьме [1]1
Пер. А. В. Карельского.
[Закрыть].
Райнер Мария Рильке
Я не хочу отправлять соперника в нокаут.
Я хочу нанести удар и, отступив на шаг,
смотреть, как он мучается от боли.
Мне нужно заполучить его сердце.
Джо Фрэйзер
Сандер молчит. Карин тоже молчит. Значит, что-то не так. Обычно Карин говорит без умолку. Но когда поздно ночью два человека лежат в постели, смотрят на телефон и ждут звонка, им хочется помолчать. На тумбочке стрекочет будильник. Поскрипывают стены. За окном гудят ветер и снег. Сосед-полуночник выключил радио и готовится ко сну.
Карин разрешила Сандеру не спать, пока не позвонит Жюли и не скажет ему спокойной ночи.
Сандеру семь с половиной лет.
Жюли должна была позвонить несколько часов назад.
Карин и Сандер лежат в кровати, тесно прижавшись друг к другу. Видны только лица и чуть взъерошенные волосы, все остальное под одеялом. Иногда Карин рассказывает сказки. Вот, например, сейчас.
– Сандер, хочешь, я тебе кое-что расскажу?
– Что?
– Помнишь ту фотографию, где твой прадедушка вместе со всеми стоит перед памятником в Куинсе – перед капсулой времени Купалой? [2]2
Капсула времени Купалой была закопана в Нью-Йорке в 1939 году. Содержит характерные свидетельства того времени, а также послания выдающихся людей, адресованные цивилизациям будущего. (Здесь и далее прим. переводчика.)
[Закрыть]Помнишь, мы говорили о вещах в капсуле времени? О вещах, которые закопали глубоко в землю и которые можно откопать только через пять тысяч лет?
– Помню, – говорит Сандер.
– Сказку туда тоже положили.
– Теперь она под землей?
– Ну да.
– Зачем?
– Люди, которые закопали капсулу, хотели, чтобы у тех, кто ее откопает в 6939 году, было что почитать своим детям.
– А мне ты можешь ее прочитать?
Карин откидывает Сандеру челку со лба.
– Я эту сказку знаю наизусть.
– Правда?
– А вот послушай, – говорит она вполголоса. – Как-то раз Северный ветер и Солнце поспорили о том, кто из них сильнее. Мимо проходил человек в теплом пальто. Увидев человека, они решили: кто первый заставит его снять пальто, того и будут считать самым сильным.
– А потом? – спрашивает Сандер. Он зевает и сворачивается клубочком под одеялом. – А потом что? – его почти не слышно.
Уснул?
Карин наклоняется к его лицу.
Нет, пока не уснул.
Сандер снова открывает глаза. Обнимает ее за шею. Прижимается головой к ее груди. Он просит Карин что-нибудь рассказать. О том, почему не звонит телефон. О тишине вокруг. О ночи.
– Сколько времени? – шепчет он.
– Уже поздно, – отвечает Карин. Говорить Сандеру, который час, ей совсем не хочется. – Правда, очень поздно. Раньше в это время ты всегда уже спал.
I
СВАДЬБА
август 1990
Было это почти девять лет назад. В тот год мне исполнилось двадцать, Анни уехала в Америку, а Жюли вышла замуж за Александра.
Вот с этого и начну.
Начну с твоей свадьбы, Жюли. Солнечный день 29 августа 1990 года клонился к вечеру. Все говорили, что свадьба удалась на славу, а ты была красавицей, Жюли, просто красавицей. Положа руку на сердце, каждый сказал бы, что ты была красивой невестой. Вот я некрасивая, я знаю. Я никогда не была красивой. Маленькая, тощая, темноволосая, да и нос у меня немного широковат. Но это не так уж и важно. Зато я хорошо пою.
Когда я проснулась тем утром, в доме никого не было. Жюли и Анни отправились делать последние приготовления, потом Жюли наденет свадебное платье и за ней заедет отец – такова традиция. Помню, что, проснувшись, я пошла босиком по грубому дощатому полу через коридор в гостиную, к бару Анни. Открыв дверцы, я взяла бутылку и добавила немного виски в чашку горячего шоколада.
Я уже несколько лет не жила в квартире на улице Якоба Аалса, но Анни считала, что «в последнюю ночь мы должны быть вместе», как она сказала. «В последнюю ночь перед свадьбой Жюли я хочу побыть вместе с вами, – всхлипывала она. – Как раньше, когда вы были маленькими. Подумать только, как время бежит…»
Об Анни я расскажу позже. Анни – это моя мама. Она у нас с большим приветом.
А виски с шоколадом я пью из ностальгических побуждений – с годами я становлюсь ответственнее, отважнее, мудрее и, соответственно, честнее, но в этот день поддаюсь ностальгии: виски с какао – это напиток, который я делала себе, будучи маленькой девочкой. Не думайте, что все так грустно, я не была ребенком с алкоголическими наклонностями. Дело совсем в другом. Кстати, у тебя, Жюли, проблем было гораздо больше, чем у меня.
Если попробовать описать мою семью – а именно это я и собираюсь сделать, – можно сказать, что Анни пила, чтобы забыться. Я пила, чтобы было веселее. Папа пил для поднятия духа. Бабушка – чтобы ночью лучше спалось. Тетя Сельма пила, чтобы ее скверный характер стал еще более скверным. Дедушка Рикард, по его словам, не пил, хотя, говорят, нажил в Америке состояние на продаже самогона – но с тех пор много воды утекло.
В нашей семье Жюли была единственным человеком, который – как это говорится? – владеет собой и знает меру в отношении спиртного. А жаль! Никакой пользы ей от того не было. Она не могла ни забыться, ни порадоваться, ни поспать, ни разозлиться. Даже разбогатеть – и то не могла.
Это был день твоей свадьбы, Жюли. Помню, как ты стояла перед алтарем: крохотные белые цветы в волосах, длинное, вышитое жемчугом кремовое платье из шелка, чересчур похожее на одеяние принцесс. Ты казалась потерянной. Красивой и потерянной. А этот бесконечно длинный шлейф, этот шлейф, протянувшийся из церковного прохода на лестницу, вдоль по улице, по всему фьорду, через небо, как мазок кистью. И вот ты стояла перед алтарем, а я думала о том, как трудно представить себе что-либо более противоестественное, чем обещание вечной любви, которое дают друг другу два человека, – они обещают свою любовь на вечные времена, словно это возможно – что он говорит, этот пастор? Ты слышишь, что он говорит, Жюли? Он говорит, что если однажды силы покинут вас и вы перестанете любить друг друга, если вы больше не сможете любить, вы должны помнить, что любовь, сама любовь, больше, чем способность любить, которой наделен каждый отдельный человек, потому что любовь происходит от Бога, а любовь Бога бесконечна, говорит он, а ты говоришь «да», и Александр говорит «да», но Александр на тебя не смотрит, Жюли, он на тебя не смотрит, он смотрит вперед, он у нас человек необыкновенный!
Я отпила виски из бутылки Анни, как всегда, долила туда воды, чтобы она ничего не заметила. Поставила стакан и бутылку на место, закрыла бар.
Затем я надела красивое красное платье, красные туфли и накрасила губы красной помадой. Обернувшись, я посмотрела в зеркало:
Карин, дорогая! Ты ли это?
Конечно, я. Кто же еще? Хороша, как всегда.
Я повернулась и оглядела себя. «Разумеется, ты красивая», – сказала я девушке в зеркале, и девушка кивнула мне в ответ, и девушка ответила: «Только ночью не приходи и не говори, что у тебя ничего не получилось».
Не то чтобы я была пьяна, когда прекрасным летним днем пришла в церковь, где я должна была быть свидетельницей на свадьбе замечательного Александра Ланге Бакке и моей сестры Жюли.
Мне было радостно и легко, только немного жарко в этом колючем красном платье, и где-то совсем внутри чуточку гадко.
* * *
Анни стоит на лестнице возле Ураниенборгской церкви и в своем длинном зеленом платье кажется какой-то шелковистой. Анни напоминает Карибское море, большое, прохладное и заманчивое. Думаю, если бы нам предложили другую мать, ни я, ни Жюли не променяли бы нашу Анни ни на кого. Во всяком случае, я бы не променяла. Ни за что не променяем Анни, нашу гламурную девочку, лучшую парикмахершу Осло. Наша Анни, собственно говоря, вовсе не хочет быть Анни, она хочет быть кем-то совсем другим. Анни хочет купаться в фонтане Треви в Риме, целовать в губы голубоглазых героев кино, гладить по головкам прелестных и благодарных детей, проводить пальцами по своим длинным густым светло-рыжим волосам, пока весь мир смотрит на нее затаив дыхание. Она хотела уехать отсюда прочь, Осло – это не подарок, она хотела вернуться в Америку, ведь Анни хоть и выросла в Тронхейме, но родилась в Бруклине и была дочерью Рикарда Блума. Восьмилетняя малышка Анни, стоя одной ногой на седле велосипеда, съезжала вниз по Лексингтон-авеню в Нью-Йорке, держа другую ногу в воздухе, а руку на руле: «Да здравствует Анни!» – кричат все вокруг. «Эй, вы, смотрите, смотрите, – кричит малышка Анни, – скорее!» Анни оглядывается вокруг, чтобы убедиться, что все видят, и земля бросается ей в глаза, обрушивается на нее, велосипед падает, и Анни смотрит на меня, стоя на лестнице у церкви, и говорит: «Карин, постой со мной немножко, будем встречать гостей».
Анни, что называется, неотразимая женщина. Мужчины часто говорят ей об этом. Анни не стала знаменитостью, и овациями ее не встречали, Федерико Феллини не приехал за ней в Тронхейм, а с возвращением в Америку пришлось подождать. И все-таки она осталась неотразимой. Несчастной. Горькой. Пьяной. Совершенно безумной. Но неотразимой. Этого у нее не отнимешь.
Помню один случай, дело было давным-давно. Анни, Жюли, я и новый приятель Анни Златко Драгович из Югославии ехали на поезде в Загреб. Златко Драгович был первым мужчиной Анни с тех пор, как от нас ушел папа. Были летние каникулы. Поезд стучал колесами, других пассажиров в купе не было. Златко Драгович произнес своим низким бархатным голосом на ломаном английском: «Вы только посмотрите на свою маму в этих лучах! Посмотрите на свою маму. Карин! Жюли! Посмотрите на свою маму! Какие глаза, боже мой, какие глаза. Вы когда-нибудь видели такие глаза?»
Он был так тронут, что тихо заплакал.
Мы с Жюли чуть не упали.
Сладко потянувшись, Анни взглянула на нас. «Ну-ка посмотрите на мои глаза! Вы ведь знаете, что он прав. Я чудо». Разве можно променять такую маму на другую!
Анни стоит на лестнице возле церкви, встречая гостей, солнце светит на ее лицо, на густые светло-рыжие волосы, которые она собрала наверх, заколов их блестящей золотой пряжкой, солнце светит на темно-зеленые туфли с высокими каблуками, под которыми похрустывают камешки.
«Слушай, Карин, – говорит она, хватая меня за руку, прежде чем я успеваю проскользнуть в темную, прохладную церковь. – Помоги мне, – говорит она. – Постой со мной немножко, будем встречать гостей. Нет, вы только посмотрите! Кто к нам пожаловал!» – громко кричит она, показывая на тетю Эдель и дядю Фрица. Она не отпускает мою руку – еще непонятно, кто из нас пьянее, хотя не думаю, что это заметно со стороны.
От Анни я научилась трем вещам. Она объяснила мне, что одни играют свои роли старательно, а другие – небрежно. «Ты должна научиться играть свои роли старательно», – любила повторять Анни.
Это первое.
Второе правило она объяснила мне, когда я – еще совсем маленькая, лет семи-восьми – очень страдала. Анни сказала: «Никогда не показывай им, что тебе плохо. Не давай им почувствовать превосходство».
Мои страдания начались с того, что мальчик из нашего класса обещал поцеловать меня, если я съем дождевого червя. Он держал его в руке – длинный, узкий, серый, скользкий червяк извивался у него между пальцами, тогда я подумала, что червяк отвратителен. Но я сказала: «Хорошо, я его съем», и он положил червяка мне на язык. Червяк лежал во рту совершенно неподвижно; надкусив его, я почувствовала, как он мягко и почти покорно разделился на две части. У меня внутри все передернулось, лоб и ладони вспотели.
«Жуй, жуй, давай, – сказал мальчик, с интересом наблюдавший за моей реакцией. Мы сидели на корточках за кустом. – Не вздумай глотать. А то не считается», – прибавил он.
Я смотрела на мальчика и думала, что готова на все, лишь бы поцеловать его.
Я жевала червяка. Жевала тщательно. Не раскрывая рта. Меня не стошнило. Я свое слово сдержала. Когда червяк превратился в кашицу, я раскрыла рот и спросила: «Ну что, достаточно?» Мальчик заглянул туда и сказал: «Нормально, можешь глотать». И я проглотила. Затем снова раскрыла рот – показать, что там пусто.
– Теперь поцелуемся? – спросила я.
– Да пошла ты, – ответил мальчик. – Стану я целовать дуру, которая ест дождевых червей!
Я проплакала несколько дней. Я плакала, потому что мальчик не захотел меня целовать. Я плакала, потому что меня обманули. Потому что у меня не хватило сил и мужества дать сдачи.
Я проплакала несколько дней и ночей, и тогда Анни сказала: «Никогда не показывай им, что тебе плохо. Не давай им почувствовать превосходство».
Это второе.
Третье – это фраза, первоначально принадлежавшая бабушке, но Анни сделала ее своим жизненным кредо. «Никогда не оглядывайся назад, забудь то, что было, и иди дальше», – любила говорить бабушка. Впервые я услышала эту фразу, когда ушел папа и бабушка поселилась у нас на улице Якоба Аалса. Бабушка, этот крошечный титан, встала прямо посреди гостиной и произнесла с бесспорным драматическим талантом: «Никогда не оглядывайся назад, забудь то, что было, и иди дальше».
– Ни за что в жизни, – сказала Анни, вставая с постели несколько дней спустя. – Ни за что в жизни я не стану больше ни секунды убиваться из-за этого мужчины, из-за этой чертовой посредственности, из-за этой потрепанной вонючей дряни, я никогда не была с ним счастлива, крысиное отродье, черт тебя побери, – сказала она и высморкалась.
– Смотрите, – сказала бабушка, кивая на Анни. – Хороший солдат назад не оглядывается.
– Но ведь Анни не солдат, – сказала я.
– Еще какой солдат, – ответила бабушка.
Жюли ничего этого не слышала, Жюли сидела в своей комнате на стуле у окна и высматривала папину белую «мазду». Бабушке ничего не оставалось, кроме как погладить ее по голове и сказать: «Он любит тебя, как раньше, Жюли, он тебя любит».
Это третье.
– Нет, вы только посмотрите, кто к нам пожаловал, – говорит Анни. – Да это же дядя Фриц и тетя Эдель! Кого я вижу, дядя Фриц и тетя Эдель! – Анни отпускает мою руку, так что теперь я могу поздороваться с ними по всем правилам, как она и хотела. Здравствуйте, здравствуйте, как вы прекрасно выглядите, тетя Эдель, ну что вы, спасибо, а вы, дядя Фриц, как поживаете? Как поживаете, говорю. Как поживаете, дядя Фриц?! Нет, невесты я пока не видела. Жюли с папой хотят побыть часок наедине перед свадьбой. Он хочет дать ей несколько полезных советов относительно супружеской жизни, прежде чем эта жизнь пойдет наперекосяк.
Дядя Фриц – это сын тети Эдель. Не знаю, с чего их стали называть «дядя» и «тетя», но по какой-то линии мы с ними состоим в родстве. Эдель ухаживает за сыном с самого рождения, уже пятьдесят четыре года; они живут в трехкомнатной квартире на улице Шёнинг в Майорштюа недалеко от дома Анни; отпуск они проводят на Средиземном море; они держат небольшую пекарню, а готовят на улице Шёнинг. Эдель печет торты, это лучшие торты в городе, она испекла свадебный торт с кремом, восьмиэтажный торт, такой же она испекла на свадьбу Анни двадцать лет назад. В обязанности дяди Фрица входит развозить торты покупателям. Когда дяде Фрицу исполнилось тридцать семь, он переехал в отдельную квартиру, отказался развозить торты и объяснил матери, что ему пора устраивать собственную жизнь.
Через восемь дней он вернулся обратно к Эдель.
Солнце припекает голову и щеки. За столом я буду сидеть рядом с дядей Фрицем. Анни не решается посадить туда кого-нибудь еще – случалось, дядя Фриц блевал без предупреждения на обедах в семейном кругу. Год назад его стошнило прямо на Анни во время бабушкиных похорон. Анни держалась молодцом. Хуже было в сочельник, три года назад. Он заблевал весь праздничный стол, забрызгал нас всех; такого снимка в семейном альбоме тети Эдель нет: длинный белый стол, вытянутые руки, разверстые обороняющиеся ладони в попытке защититься от этой дряни: спасите, помогите, только бы на меня не попало, прекратите! Бледные лица вокруг накрытого стола, зажмурившиеся глаза. Омерзение, такого безмерного омерзения за праздничным столом нет даже в несчастнейшей из семей, а наша семья никогда не была особенно несчастливой, но ведь нас было много. Несчастная или нет, кто знает? Того и другого понемножку. Хотя с уверенностью могу сказать, что нас было много.
* * *
Меня зовут Карин. Я родилась летом 1970-го в больнице Акер в Осло. Анни говорит, что рожать меня было не так уж и больно, но для видимости она опрокинула на пол стакан воды и покричала. Тогда врач наклонился к ней и прошептал: «Ну будет, будет». Жюли появилась на свет тремя годами раньше. Мне поведали, что рожать ее было значительно сложнее, акушерка стонала, Анни держалась мужественно. Сначала Жюли просунула ноги – акушерка никогда не встречала новорожденных с такими большими ногами. Тельце у Жюли было маленькое и синее, и казалось, что это не все тело, а только его часть. Зато ноги были необыкновенно большие и гладкие, и совсем не морщинистые, как у большинства младенцев, это были красивые ноги, похожие на головы лососей. Но по сравнению с остальным телом они выглядели несуразно. Анни знала, что ноги у Жюли несуразные, и каждый раз, когда одевала ее, старалась на них не смотреть.
Анни любила своих детей. «Я люблю своих детей», – часто повторяла она. Так ее воспитали: мать должна любить своих детей. Ей нравилось говорить это вслух, часто безо всякого повода, всем кому не лень: «Я люблю моих детей». Бабушка тоже любила своих детей, она любила свою дочь Анни и свою дочь Элсе, которая живет в Висконсине. Нет никаких сомнений, что прабабушка любила нашу бабушку, так же как бабушка любила нашу маму, так, как мама любит нас.
В нашей семье все друг друга любят.
Поэтому Анни страдала от того, что у Жюли такие ноги. Она забывала, что тщеславие может быть таким же сильным, как любовь. И Анни ни за что не призналась бы в том, что испытывает к своим детям не только любовь. Она не могла сказать себе, что ей стыдно за ноги Жюли, за то, что Жюли неловко двигается, за то, что у нее слишком длинные руки, слишком тощее тело, слишком бледное лицо. Она не могла сказать себе, что стыдится Жюли. Ведь это абсурд. Это просто немыслимо. Это абсолютно невозможно. Однако Анни не могла удержаться и каждый раз смотрела на ноги Жюли, когда та допускала очередную оплошность – роняла на пол кружку с молоком по дороге от холодильника к обеденному столу. Или опрокидывала блюдо с яблоками. Или спотыкалась на улице. Или наступала Анни на туфли. И тогда Анни, сама того не желая, вспоминала себя в родильном кресле: колени раздвинуты в стороны, а из нее наружу протискиваются великанские ноги Жюли. Каждый раз, когда, глядя на Жюли, Анни испытывала стыд, она целовала ее, целовала и целовала. Анни хотела избавиться от этого стыда. Она его не понимала. Мать должна любить своих детей.
Жюли все время спотыкалась, часто на ровном месте. Ни с того ни с сего она падала и вытягивалась во весь рост на земле. Она была щуплой и стеснялась показываться нагишом. Она не плакала, Жюли никогда не плакала. Анни плакала, я плакала, но Жюли – никогда. Лишь один раз, перед тем как она исчезла, я видела, как она плачет.
Анни с отцом прожили вместе почти десять лет, а потом отец уехал. Он уехал недалеко, сел в автомобиль и проехал с четверть часа, от Майорштюа до Тэйена. Он купил квартиру рядом с университетским издательством, где редактировал какую-то научную литературу, которая, в общем-то, всем была безразлична, и никто эти книги не читал, даже коллеги отца по издательству; иной раз, когда я звонила ему на работу, на коммутаторе говорили: «Он больше здесь не работает», и все же он там работал.
Отец сел в автомобиль, проехал с четверть часа, от Майорштюа до Тэйена, и сказал, что женщин с него достаточно. Разумеется, Анни была неотразима, но мужчины у нее не задерживались. Есть много вещей, от которых можно устать. Неотразимость – вне всякого сомнения, качество, от которого можешь устать.
– С меня хватит, – сказал отец. – С меня хватит.
До встречи с Анни отец был женат; помню, как мы с Жюли познакомились с его ребенком от первого брака. С нашим братом, папиным сыном. Анни с отцом жили тогда на улице Якоба Аалса. И вот однажды, в воскресенье, у нас дома во время обеда за столом появился незнакомый мальчик. Он был высокий, тощий и сидел, опустив голову. Волосы болтались нестриженые и мокрые. На нем была красная рубашка, узкий галстук цвета бургундского вина свисал ему на живот, шея вспотела. Анни порхала вокруг мальчика, отца, вокруг нас, вокруг стола, она порхала по всей кухне, и запах ее кожи, волос, чудесная смесь аромата ее духов, ромашек, яблок и папайи наполняла все вокруг. Он добавлялся к запаху обеда – маленьких тефтель с пряностями, кукурузных початков, домашнего картофельного пюре и темного соуса с сыром из козьего молока. «Ешь, ешь, – говорила Анни, продолжая порхать по кухне. – Одно удовольствие смотреть, как ты ешь», – прибавила она, глядя на мальчика. Мальчик хрюкнул и покраснел. Отец жевал молча, мерно двигая вилкой – вверх-вниз. Мальчик смотрел на отца. Отец смотрел на мальчика. Они молчали. Говорила одна Анни. Отец сказал: «Гм-м», мальчик сказал: «Гм-м». Мы с Жюли были потрясены и просто онемели оттого, что у нас вдруг появился брат, настоящий старший брат в галстуке, он сидел и ел тефтели за нашим обеденным столом, с нашими папой и мамой. Все молчали, хотя Анни, как могла, старалась превратить нашу трапезу в обычный приятный воскресный обед в семейном кругу. Все молчали, в гробовой тишине позванивали вилки и ножи, такой тишины Анни вынести не могла.
Нет, Анни такой тишины вынести не могла. И поэтому она стала петь. Не петь, конечно, а тихонько напевать, и вскоре она уже дирижировала вилкой себе в такт. «Baby it's cold outside, – мурлыкала Анни. Ее глаза приняли мечтательное выражение, она попыталась поймать взгляд мальчика, нашего брата, взгляд темных не на шутку перепуганных глаз мужнина сына. – Baby it's cold outside… but I really can't stay… but baby it's cold outside» [3]3
«На улице холодно, крошка… но мне надо идти… Но на улице холодно, крошка» (англ.).
[Закрыть], – напевала она. Мальчик еще сильнее покраснел и уставился в тарелку. Анни запела чуть громче и, протянув руку через стол, погладила мальчика по голове. Он вздрогнул и уронил вилку на пол. Анни резко замолчала. Все смотрели на мальчика, который, нагнувшись за вилкой, бормотал: «Извините». «Извините, – бормотал он. – Извините, пожалуйста».
За столом воцарилось гробовое молчание. Отец посмотрел на мальчика. Потом на нас. Потом на Анни.
– По-моему, ты перепутала воскресный обед с голливудским фильмом, – сказал отец. – Может быть, хватит валять дурака?
– Пошел ты к черту, – ответила Анни и улыбнулась мальчику.
Когда мальчик стал собираться, отец проводил его до дверей. Сидя на табуретке, он смотрел, как мальчик надевает шапку и пуховик. Когда мальчик оделся, отец встал и обнял его, обнял по-мужски – пару раз похлопал-пошлепал по спине и сказал: «Ну что, до следующего воскресенья, да? Значит, договорились». Мальчик кивнул и, проскользнув в дверь, потрусил вниз по лестнице.
В следующее воскресенье мальчик опять сидел с нами за столом. На нем была та же красная рубашка, тот же узкий галстук свисал на живот. Шея у него по-прежнему потела. Правда, на этот раз он постригся. Мальчик побывал в парикмахерской и постригся, так что теперь были видны его лоб и глаза, которые оказались гораздо больше, чем я предполагала. Отец посмотрел на мальчика. Мальчик посмотрел на отца. Обед окончен. Они пошли к дверям, отец сел на табуретку, мальчик оделся. Они обнялись, и отец попрощался с ним до следующего воскресенья. Так повторялось каждый раз. По воскресеньям мальчик сидел у нас за столом. Он никогда не опаздывал. Никогда не приходил раньше времени. И никогда не засиживался дольше обычного. Как-то я попыталась заговорить с ним: «Так странно, что ты наш брат», – сказала я. «Да, – ответил мальчик. – Очень странно».
Однажды в воскресенье мальчика за столом не оказалось. Отец ничего нам не сказал. И мы не спросили. Так же было и с самим отцом. Люди просто исчезали.
Люди исчезали. Когда отец сел в машину и уехал с улицы Якоба Аалса на улицу Тэйен, мы с Жюли стояли у окна и махали ему вслед. В соседней комнате Анни лежала в кровати и плакала. Господи, как она рыдала. Она проплакала целый день и целую ночь и еще один день. Где-то я читала, что разный ветер обозначается разными словами и что гром тоже бывает разных видов: раскатистый, грохочущий, трескучий гром, гром, от которого содрогаются небеса. У нас на улице Якоба Аалса можно было составить словарь разновидностей плача Анни.
Анни не всегда плачет по-настоящему, ее слезы не всегда служат выражением печали или радости, плач не всегда продолжителен, и понять его причины не так уж легко. Плач этот сидит во всем ее теле – в глазах, в губах, в животе, между ног, на кончиках пальцев, на шее. Слезы застигают Анни врасплох. Она может расплакаться, сидя у телевизора и глядя на больного ребенка в кровати с железными прутьями, ребенка с широко раскрытыми глазами и мухами на лице, опухшего от голода. Словно маленькие беременные дети, думает Анни, маленькие беременные мальчики и девочки. И древнее детское лицо поворачивается к телекамере и смотрит на Анни, это древнее детское лицо будто молит: «Помоги мне, Анни, помоги, неужели и ты не можешь мне помочь?» – и Анни плачет. Этот плач сидит глубоко в животе и начинается тихим всхлипыванием – «неужели и ты не можешь мне помочь, Анни?» – плач вырывается из губ, из носа, из глаз, как рвота, и вдруг непостижимым образом прекращается. Анни снова смотрит на экран, и плач прекращается. Хорошенького понемножку. Иногда Анни плачет без причины, она сидит, спокойно склонившись над кухонным столом в холодном свете синей люстры, и плачет. «Все в порядке, честное слово, Карин, все хорошо, Жюли, просто я плачу, просто эти слезы у меня внутри, сейчас все пройдет». Временами Анни плачет, потому что она очень тронута. И тогда ее глаза переполняют мелкие слезинки, они похожи на капли весеннего дождя, стекающие по лицу. Тихие всхлипы напоминают смех. Анни может тронуть до слез все что угодно – газетное объявление о смерти какого-нибудь очень старого или очень юного человека, которого она никогда не знала, но ведь кто-то же его знал, и этого уже достаточно для грусти. Бывает, она плачет молча, без единого звука, и слезы текут, прямо-таки льются потоками по ее щекам. Когда Анни плачет молча, ее блестящие голубые глаза становятся еще более блестящими и голубыми, ей хорошо это известно. Ей хорошо известно, что такой плач пробуждает нежность, сострадание и чувство беспомощности. Мужчины, встречавшиеся на ее пути, перед женскими слезами терялись. Все что угодно, говорили мужчины, только не женские слезы. Плачет Анни и в минуты злости – тогда она рыдает, орет, швыряет в тебя свой плач, но я знаю, что избитое выражение «как резаная свинья» к ней совсем не подходит. Ну нельзя сказать, что она орет «как резаная свинья», нельзя, потому что «резаная свинья» – это что-то слабое и беспомощное, а ничего слабого или беспомощного в злости Анни нет, Анни кричит, как злой ребенок: «Ненавижу тебя, ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу!» И даже не глаза, а рот ее полон слез, слюны, мокроты и гноя. Выглядит это настолько отвратительно, что забыть это невозможно, хотя сама она уже давно обо всем забыла. А по ночам Анни иногда плачет от страха. Она завывает тихонько, не раскрывая рта. Веки становятся мокрыми, щеки становятся мокрыми, мокрыми становятся губы, кисти рук намокают снаружи, но слезы льются не из глаз, слезы льются откуда-то из самой глубины ее тела. Это так изматывает Анни, что сил хватает только на то, чтобы молиться: оставьте же меня наконец, оставьте, пусть то, что внутри меня, исчезнет. Заснуть можно не пытаться – ничего не получится. Она не заснет до самого рассвета. Если только накануне вечером она не почувствует приближение страха и не напьется для храбрости. Но иногда она все равно просыпается, и тогда ей становится страшно: она боится, что алкоголь не подействует, боится страха, хотя он еще не наступил, но может прийти в любую минуту, а за окном стоит темнота, беспросветная темнота, и Анни лежит на спине в своей кровати, прижав подушку к перекошенному от слез лицу.
Когда отец сел в машину и переехал с улицы Якоба Аалса на улицу Тэйен, Анни плакала так, как не плакала раньше никогда. Внутри у нее все раскрылось и хлынуло наружу. Остановить это было нельзя. Анни плакала, потому что знала: с этого момента она ничего для отца не значит. Ничего. Ноль. Пустота. Вдумайтесь только: ни-че-го. Отец никуда не исчезал. Он просто переместился в пространстве, отделился, ушел своей дорогой, но он не исчезал. Исчезали другие. Мальчик, мать мальчика, а теперь и наша мама.
«С меня хватит, – сказал отец. – Больше ты для меня не существуешь».
Мы с Жюли были папиными кровинками. Так он сказал перед тем, как уехать. «Кровинки мои», – сказал он, как обычно погладив нас по головам. Мы никуда не исчезали. И мы не превратились в ничто. Думаю, мы с Жюли, во всяком случае, Жюли-то точно, все свое детство, и даже потом, жили с этой мыслью – мы никуда не исчезали, несмотря ни на что, мы для него не исчезли. Поэтому мы стояли у окна и махали отцу, улыбались и махали ему вслед, когда он уезжал, и если бы я не схватила Жюли за руку, она могла бы даже вывалиться из окна. Жюли, пожалуйста, стой спокойно. Анни лежала в той же комнате и плакала, но мы же были маленькими, а она – взрослой, и я думала, что она и без нас разберется.
* * *
Мы с Анни стоим на лестнице возле церкви. Я надела красное платье, накрасила губы красной помадой и долго вертелась перед зеркалом – сделала я это не просто забавы ради. Я хотела соблазнить мужчину. Это моя тайна, игра, в которую я играю с тех пор, как мне исполнилось двенадцать и я стала соблазнять молодых людей. (Ну хорошо, может, не двенадцать, но что-то около того.) Не знаю, как бы это объяснить. Не то чтобы я их любила. Нет, не приплетайте сюда это слово. О любви здесь речь не идет. Я и слышать не хочу ни о каком душевном родстве. Ни в кого я не влюблена. Я даже не знаю, кого именно из тех, кто сейчас заходит в церковь, я буду соблазнять – в этом-то и состоит игра. Пока я его не выбрала.
Я вспоминаю бабушку. Ее звали Юне. Я вспоминаю ее фотографию: седые короткие вьющиеся волосы, лицо в морщинах и сердитые брови, ярко-зеленые глаза.
– Бабушка, – спросила я, – а ты тоже солдат?
– Ну конечно, разрази меня гром. Я была чертовски хорошим солдатом, – сказала бабушка.