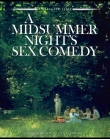Текст книги "Прежде чем ты уснёшь"
Автор книги: Лин Ульман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
– Чай будешь? – спрашивает она.
– Нет, спасибо.
– Может, все-таки разденешься?
– Нет!
– Ты сейчас совсем запаришься.
– Я не надолго.
– Хорошо, хорошо.
– У меня всего пять минут.
– Ради бога. Кекс хочешь?
– Да, спасибо, кекс буду.
Но ничего не помогает. Хоть весь гардероб на себя нацепи. Все равно в глазах рябит.
Анни уходит на кухню за кексом. Я остаюсь в коридоре. Глаза у меня слезятся. Не хочу, чтобы она заметила. Я иду в гостиную, усаживаюсь на стул. Вытираю глаза. Не помогает. Из глаз течет и течет. Если я пробуду здесь еще чуть-чуть, то во мне откроется дыра, через которую я вся вытеку на пол. Всхлипывая, я оглядываюсь по сторонам – снимков стало еще больше. И все детские. Они прикреплены к стенам, к оконным рамам, даже на столе лежит маленькая стопка снимков, которые недавно пришли по почте. Анни еще не успела вынуть их из конвертов. Я встаю со стула и принимаюсь рассматривать фотографии. Взгляд останавливается на одной, с которой улыбается маленький мальчик в рваных зеленых штанишках. Рубашки на нем нет, грудь – тощая, волосы – черные и взъерошенные, а через плечо висит огромное ружье. «Они обещали ему Царствие Небесное, мы же можем пообещать ему только место в вашем сердце».
Я не слышала, как подошла Анни. Она бесшумно подкралась сзади. И внезапно очутилась у меня за спиной. Дотронулась до меня. Я вздрогнула. Темные очки упали на пол. Я обернулась. Взмахнула рукой, чтобы ударить. Никому не позволю подкрадываться ко мне таким образом.
– Карин! Ты что! – Анни загораживает лицо.
Я опускаю руку. Смотрю в пол. Поднимаю очки и надеваю их.
– Ты меня напугала… Я не хотела…
– Да я сама перепугалась, – тихо отвечает Анни.
Она смотрит на меня. От этого взгляда мне снова хочется размахнуться и стукнуть, стукнуть по этому разваливающемуся на кусочки лицу, мне хочется треснуть по нему с такой силой, чтобы оно снова стало знакомым, чтобы прекратить это бесконечное мельтешение.
– Я кекс принесла, – говорит Анни. – И чаю приготовила – вдруг захочешь, на кухне стол накрыт. Может…
Я опускаю глаза. В пальто жарко. Пот течет по спине. Да еще шапка, шарф и свитер под пальто. Темные очки. Надо идти. Не могу больше.
– Нет, Анни, – говорю я. – Мне надо идти. Может быть, в другой раз.
* * *
Я называю его Эдвином. Может быть, его зовут как-то по-другому. Хотя, на самом деле, это роли не играет – если я говорю, что его зовут Эдвин, значит, так и есть.
Было лето, я шла через Дворцовый парк.
Я возвращалась от Анни. Стараюсь бывать у нее как можно реже. Особенно летом. Слишком жарко. Четыре шерстяных свитера, пуховик, военные штаны, старый шлем, который я отыскала на антресолях, зеркальные очки и шарф. Все равно не помогает. Каждый раз начинает рябить в глазах.
Так вот. Иду я через Дворцовый парк. Мне хочется поскорее вернуться домой, принять прохладную ванну, забыть о том, что было, – и тут я вижу его. Эдвина.
Он сидит под деревом на траве и играет с маленькой девочкой лет трех-четырех. Они катают друг другу белый мячик. У девочки темные локоны, короткое белое платье, я издалека слышу ее тоненький смех. Они находятся в каком-то своем особенном мире, Эдвин и эта девочка.
И никого вокруг не замечают.
Они катают друг другу мячик.
И не замечают вокруг никого, в том числе меня.
Я останавливаюсь за деревом немного поодаль и смотрю на них. Иногда он протягивает к ней руки, и тогда девочка бросает мяч, ложится на траву и катится к нему, как будто бы она мячик, – катится прямо к нему в обьятия.
Руки у Эдвина большие. Как ветви у дерева.
Я бы с удовольствием забрала к себе домой и Эдвина, и девочку.
Привет! Э-эй, а вот и я!
Но они меня не замечают. Они слишком поглощены своей игрой.
Теперь мячиком будет Эдвин. Он ложится на траву и катится, а девочка смеется, смеется взахлеб – как будто кто-то щекочет ей животик.
Постояв еще немного за деревом, я почувствовала, что совсем изнемогаю от жары в своих толстых свитерах. Я снимаю с себя шлем, шарф и темные очки.
Выглядываю из-за дерева.
Привет! А я уже здесь!
Но Эдвин и девочка ничего не замечают, они видят только друг друга.
Я снимаю пуховик, свитера, военные штаны.
Э-эй, привет! Ну что, теперь-то вы меня видите?
Ноль внимания. Они меня не замечают.
Я снимаю зимние сапоги. Теперь на мне осталось только прозрачное летнее платье из тонкой материи. Я выхожу из-за дерева.
Сажусь на траву и смотрю на них. Затем ложусь. Я скатываюсь по склону, как будто я тоже мячик.
Ничего не происходит. Они меня не замечают.
Э-эй, ну что, пойдемте ко мне домой?
Не знаю, в какой момент Эдвин обратил на меня внимание. Я так увлеклась катанием по траве, что совершенно о нем забыла. Накатавшись вдоволь, я снова села и сразу почувствовала: что-то изменилось.
Он заметил меня, но виду не подает.
Они продолжают игру. И снова перекатывают мячик. Как ни в чем не бывало. И все-таки что-то переменилось.
Он меня заметил, но виду не подает.
Ну Эдвин! Don't bullshit a bullshiter [26]26
Не строй из себя идиота (англ.).
[Закрыть]. Что ты комедию разыгрываешь? Ты что, думаешь, я тебя не раскусила? Зачем делать вид, что ничего не произошло? Даже и не пытайся – я плохих актеров насквозь вижу.
Я знаю, что он видит, как я сижу под деревом в своем красивом белом платье.
Я знаю, что он видит, потому что теперь он играет с девочкой как-то по-другому.
Его движения стали более размашистыми. И смеется он громче, чем раньше. А слова его предназначены не для девочки, а для меня. Он словно бы говорит: «Посмотри, как прекрасно я двигаюсь, как я громко смеюсь, смотри, как я умею играть с ребенком».
Девочка тоже это замечает. Он больше не с ней.
Она оборачивается и смотрит на меня.
Не хочу я к тебе домой, понимаешь? – говорит ее взгляд.
Понимаю, конечно.
Может, тебе пора идти? Я хочу, чтобы папа опять был со мной.
Хорошо, сейчас пойду.
Эдвин смеется все громче и громче, он подбрасывает мяч высоко в воздух и кричит с наигранным удивлением: «Ай да мячик, вот это да!» Затем хлопает в ладоши и падает на траву.
Девочка снова оборачивается и смотрит на меня. Мы молча встречаемся взглядами.
Я киваю.
– Все-все, – шепчу я. – Уже ухожу.
Я встаю, собираю свою одежду, разбросанную по траве, и медленно иду дальше. Эдвин встает, в его волосах застряла трава, в руках он держит мяч.
Я не оглядываюсь, но знаю, что он смотрит мне вслед.
Иду дальше.
Ухожу, ухожу.
Ладно, Эдвин?
Все равно я тебя не хочу.
Я не хочу тебя.
* * *
Обстоятельства вынудили меня снова встретиться с Анни. Хотя я собиралась некоторое время не навещать ее. Не знаю, может ли ее лицо когда-нибудь прийти в норму, но так или иначе, прежде чем это произойдет, мне ничего другого не остается, кроме как держаться подальше. Но незадолго до Рождества нам пришлось собраться всей семьей. Собрались мы, как это принято говорить, при трагических обстоятельствах, однако никто особо не расстраивался. А некоторые, по правде говоря, даже вздохнули с облегчением. Закатывать истерики, во всяком случае, никто не стал.
Тетя Сельма скончалась в возрасте восьмидесяти трех лет. Надо отдать ей должное – до последнего вздоха она была все такой же недовольной, сварливой и злобной. За день до смерти тетя Сельма обругала молодую продавщицу в книжном магазине за то, что та не знает, что Карин Бликсен и Исак Динесен – это одно и то же лицо. Она наорала на неучтивого таксиста, который отказался поднимать ее сумки с продуктами на нужный этаж. Она наговорила гадостей своему кавалеру, некоему господину Бергу, за то, что тот допил ее коньяк: «Одет безупречно, ничего не скажешь, но какой негодяй, какой мерзавец, бездельник чертов!» Она отчитала главного редактора одной из крупнейших норвежских газет за то, что он ни в грош не ставит своих подписчиков: «Шестьдесят пять лет я была его самым верным читателем, а теперь не выложу ни копейки за эту дрянную газетенку!» Она разбранила высокопоставленную женщину-политика, добилась личной аудиенции с ней и, размахивая клюкой, заявила, что «на такую надменную бабу, как ты, ни один мужик не клюнет». Она оскорбила всех в нашей семье – каждому позвонила посреди ночи и сказала: «Мне уже недолго осталось, но пока я жива, я скажу, что я о вас думаю». Наконец под утро следующего дня она отчитала своих соседей, молодую пару, за их вызывающе дурной вкус, который сказывается буквально во всем.
Выполнив свою миссию, тетя Сельма помыла кофейную чашку и тарелку из-под завтрака, прибрала в гостиной, вымыла полы в коридоре и спальне, поставила швабру и ведро из-под воды в шкаф, перебрала старые письма и фотографии, лежавшие в коробке на тумбочке, легла в кровать, накрыла ноги клетчатым пледом и умерла.
Похороны состоялись пять дней спустя, потом был кофе с бутербродами дома у Ингеборг, которая еще раз предоставила свою виллу в наше распоряжение. Поминки получились непродолжительными. Мы молча посидели за накрытым столом. Бархатные портьеры были задернуты, но зимние сумерки все же прокрались в гостиную и окутали собравшихся. Ингеборг попыталась сказать что-то вроде: «Во всяком случае, Сельма прожила жизнь, полную приключений». Кто-то пробормотал: «Да уж, этого у нее не отнимешь». Больше о покойной никто не заговаривал. Съели и похвалили бутерброды. Обсудили погоду. Повосхищались четырехэтажным тортом тети Эдель, в котором горели восемьдесят три черные именинные свечи. Блюдо с тортом переходило из рук в руки, все пытались задуть свечи, но свечи были из тех, что задуть нельзя – после каждой попытки они разгорались снова. Но всем хотелось попробовать. Сначала Жюли, потом Ингеборг, потом Фриц, потом Александр, затем я и Анни.
Все смотрели на Анни.
Пламя свечей озаряло ее лицо, которое было белым, как снег, почти прозрачным.
Когда она стала дуть, щеки ее раздулись в большие мыльные пузыри. Мне захотелось встать из-за стола и проколоть их. Хлоп! Хлоп! И нет больше этого лица.
Папа посмотрел на меня. Он прошептал:
– Карин, ты почему даже в помещении темные очки не снимаешь?
– Потому что у нас траур.
– Конечно, конечно, – протянул папа. – Ясно.
* * *
Надо сказать, насчет траура я не преувеличивала. Мне действительно не хватало тети Сельмы.
В церкви во время отпевания все были погружены в свои мысли. И хотя вся семья была в сборе, церковь казалась почти пустой. На гробе лежал скромный венок. Никто не плакал. Сельму не любили.
Я сижу в задних рядах. Звонят колокола. Мы поем псалом «Благословенна земля». После минутной тишины пастор выступает вперед и произносит:
– Да пребудет с вами Бог Отец и Господь наш Иисус Христос. – Он продолжает: – Сегодня мы собрались здесь у гроба Сельмы. Бог дарует утешение всем, кто на Него уповает. Посвятим этот момент слову Божьему и молитве. Давайте помолимся.
Пастор опускает голову. Все замолкают.
Все молчат, я оглядываюсь по сторонам. Анни, папа, Ингеборг, Жюли, Александр, тетя Эдель и дядя Фриц, Элсе с мужем. Слабый зимний свет сочится сквозь церковные витражи. Я сижу, глядя на этот свет.
Кто-то проходит рядом. Грубо толкает меня в бок.
«Ну что, опять замечталась?»
«Вот, сижу жду, когда же кончится этот день. Не люблю похороны. Хоть я и не часто бывала на похоронах, но не люблю их».
«Хорошо тебе говорить! Мне вот тоже похороны не нравятся. А эти особенно».
«Понимаю».
«Все из-за сигарет! Черт бы побрал эти проклятые сигареты! Мне уже давно пора было бросить курить».
«Да. Это верно. Но вы ведь уже были довольно старой. Смерть в вашем возрасте – обычное дело».
«Ха, ну ты скажешь! Да я бы еще сто лет прожила. У меня дел была куча. Только таким малявкам, как ты, этого не понять».
«Ну и как? – спрашиваю я. – Как вам… там?»
«Знаешь, что я тебе скажу, Карин? Нет тут ничего хорошего. Абсолютно ничего хорошего здесь нет! Мрачно как-то. И все эти слова… все эти обещания жизни после смерти и все такое… я, конечно, надеялась… я надеялась, что он будет ждать меня здесь с улыбкой на губах».
«Кто? Бог?»
«Нет, Рикард».
«Ах да, конечно».
«У Рикарда была совершенно особенная улыбка. Он словно говорил: впереди тебя ждет нечто удивительное и прекрасное – только надо слушаться меня».
Слова ее остаются без ответа – я молчу, глядя на пастора, который молитвенно складывает ладони.
Тень, стоящая рядом, снова толкает меня в бок.
«Отвечай, когда с тобой разговаривают! Хватит по сторонам глазеть. Это невежливо».
«Тс-с, – шепчу я. – Пастор молится за вас. Послушайте!»
Господи, Ты прибежище наше
Во веки веков.
Ты был прежде, чем горы явились на свет,
до сотворенья земли и мира.
Ты – Господь наш единый.
Ты возвращаешь человека во прах,
Из праха мы вышли и в прах обратимся.
Тысячи лет в глазах Твоих,
что один лишь день,
что ночь одна.
Просвети нас, чтоб дни считали свои,
чтобы мудрость в сердце своем обрели!
И горячие юные губы шепчут мне в ухо:
«Знаешь, что сказал мне Рикард как-то раз, когда мы лежали в постели? Он сказал: "Когда я лежу вот так, рядом с тобой, прежде чем ты уснешь, я чувствую себя дома". Это были самые красивые слова, которые кто-либо говорил мне. Ведь это тело не всегда было таким старым и дряхлым – поверь мне».
Тень на мгновение замолчала – потом вздохнула:
«Но его здесь нет, понимаешь? Здесь нет никого. Я все жду-жду, когда что-нибудь произойдет, но ничего не происходит. Понимаешь? Я всегда ждала, что что-то случится, если не при жизни, то хотя бы сейчас. Куда же все подевались?!»
«Я здесь», – шепчу я.
«Да, ты здесь, но скоро ты выйдешь из церкви, ты и все остальные, а я прокричу: побудьте еще немного! Но ты не обернешься, Карин. Здесь уж ничего не поделаешь. Я мертва, а ты жива. И все-таки я прокричу: не уходите! Но ты меня не услышишь! Ты пойдешь дальше. И еще: напрасно ты так переживаешь из-за маминого лица. Не так все страшно, как ты думаешь. Ты ведь умная девочка, Карин, но иногда, себе в угоду, ты слишком преувеличиваешь. Возможно, когда-нибудь в твоей жизни произойдет нечто гораздо более значительное, чем то, что было до сих пор. Однажды у тебя внутри что-то лопнет, и ты перестанешь так бездумно играть, как играешь сейчас. Однажды тебе придется взять ответственность на себя. Наберись мужества, девочка моя».
V
САНДЕР
декабрь 1998
У меня на пороге стоит Жюли, она держит за руку Сандера. У каждого по чемодану. У Жюли – синий, с ремнями на крышке, у Сандера свой – маленький зеленый чемоданчик.
Как это говорится? «Чемоданное настроение»? Вот-вот, это про них.
Они стоят на пороге, держась за руки. Лица у них серьезные. Почти официальные. Они уже попрощались – дома у Жюли. Оба это знают. Больше никаких слез. Сандер не плачет. Он сам собрал свой чемодан. Там лежат шесть пар тренировочных под брюки, девять пар трусов, пять футболок, два свитера, связанных тетей Эдель, три пары брюк и четыре водолазки.
Жюли взмахивает рукой. Она благодарит меня за то, что я согласилась их выручить.
– Александр уже привез рюкзак? – Она оглядывается вокруг. – Все готово?
Я киваю.
– Мы позвоним из Италии, – говорит Жюли. – Правда, это будет поздно. Мы прилетаем после обеда, а оттуда еще четыре-пять часов на машине. Но вечером, до одиннадцати, точно позвоним. Вы тут без нас не скучайте. Все будет хорошо.
Александр уже приезжал, он оставил рюкзак. А потом поехал к себе на работу, чтобы уладить последние дела перед отъездом. С Сандером он попрощался еще рано утром. В рюкзак Жюли положила стеганые штаны, куртку на меху, еще несколько свитеров, которые Ингеборг подарила Сандеру на прошлое Рождество (перед тем, как уйти от папы), четыре видеокассеты, три книжки, набор юного сыщика: порошок для снятия отпечатков пальцев, волшебные очки и невидимые чернила; футбольный мяч, плюшевого мишку по имени Пух и еще одного плюшевого мишку без имени. Безымянным медведем мы дома играли в футбол.
На Жюли новое пальто. Вчера она ходила в парикмахерскую и остригла свои длинные волосы. Она немного накрасилась.
– Я хочу начать новую жизнь, мы с Александром начнем все с начала, новый год – новая жизнь, – говорит Жюли, с улыбкой поправляя свою новую прическу.
Я пытаюсь приободрить ее, говорю, что все будет хорошо.
– Мы с Сандером замечательно проведем время. Тебе пора, Жюли, передай привет Александру, увидимся после Нового года.
Жюли тянется к Сандеру, он отодвигается от нее, но она все равно притягивает его к себе и что-то шепчет на ухо. Он пожимает плечами, шагает через порог и останавливается рядом со мной. На спине висит ранец. Если бы не каникулы, у Сандера в ранце сейчас лежали бы хрестоматия, учебник по математике, тетрадь и альбом для рисования.
Сегодня ему разрешили положить в ранец то, что ему захочется. Там лежат пробка, термос, пакетик с конфетами, мишка по имени Бьорн, толстая книжка об истории норвежского футбола, фотография Уле Гуннара Сульшэра, шарф болельщиков команды «Манчестер юнайтед», зеленая папка с пластиковыми отделениями, сто тринадцать футбольных стикерсов и фотография в рамке: Сандер вместе с Александром и Жюли стоит на лестнице перед красным домиком в Вэрмланде – солнечный день несколько лет назад.
Все готовы к отъезду.
– Да, теперь, наверно, пора, – неуверенно говорит Жюли, глядя вслед Сандеру. Он уже ушел. Пошел в гостиную, уселся на пол и принялся распаковывать ранец.
– Иди-иди, – отвечаю я. – Ты же сама знаешь, что все будет в порядке. Скучать не будем. Иди, а то на самолет опоздаешь.
– Я вечером позвоню. Даже если совсем поздно приедем.
– Ну все, теперь тебе придется бежать бегом.
* * *
– Знаешь, какая разница в футболе между профессионалом и суперзвездой?
Я лежу на диване и дремлю. Сквозь окна в гостиной пробивается тусклый зимний свет. Люблю спать при таком освещении.
Сандер стоит рядом и смотрит на меня, он хочет о чем-нибудь поговорить.
Сначала он несколько раз тяжело вздыхает. Затем шуршит бумагами на столе. Играет в футбол, гоняя по комнате безымянного мишку вместо мяча. Затем снова подходит ко мне и смотрит.
– А знаешь, какая разница между профессионалом и суперзвездой?
– He-а, не знаю, – зеваю я.
– А ты бы кем хотела быть – суперзвездой или профессионалом?
Я открываю глаза. Смотрю на часы. Теперь Сандера можно будет уложить в кровать через восемь часов.
– Я бы хотела быть суперзвездой.
– Ну и зря.
– Почему это?
– Лучше быть профессионалом.
– Думаешь? Мне казалось, что суперзвезда лучше.
– Нет, – говорит Сандер. – Может, ты все-таки хочешь быть профессионалом?
– Хочу.
– Петер Шмайчел – профессионал.
– М-м-м.
– И Уле Гуннар Сульшэр – тоже.
– Ага.
– И Рональдо, Райан Гиггз и Дэвид Бекхэм.
– Понятно.
– А Деннис Бергкамп – просто суперзвезда, но я его больше всех люблю.
– Ты точно уверен, что профессионалы лучше суперзвезд? Мне всегда больше нравились суперзвезды.
– А ты, вообще, что-нибудь знаешь о футболе? – с сомнением в голосе спрашивает Сандер.
– Нет, Сандер, почти ничего.
– Тогда я могу показать тебе мои футбольные стикерсы.
Я глажу его по голове. Сандер не уворачивается.
– Неси их сюда, на диван, тут посмотрим.
Сандер достает свою зеленую папку. Он говорит, что дома у него тоже есть много стикерсов, они лежат в специальной коробке, он даст их мне посмотреть как-нибудь в другой раз. Сандер садится ко мне на кровать, раскрывает папку.
– А когда мама с папой позвонят?
– Вечером. Когда прилетят. Обещали до одиннадцати. Но ты уже будешь спать.
– А можно мне не ложиться, пока они не позвонят?
– Даже не знаю. Наверно, нет.
– Ну пожалуйста.
– Нет, одиннадцать – это слишком поздно.
– А дома мне можно сколько хочешь не спать, когда каникулы.
– Не придумывай! Я была у тебя дома много раз. Так что знаю не хуже тебя, что тебе можно, а что нет.
– А вот позапозавчера мне разрешили не спать до пятнадцати минут первого.
– Потому что было Рождество.
– Ну пожалуйста!
– Посмотрим.
– Карин, ну пожалуйста, ну скажи сейчас, а то буду ходить все время и думать, разрешишь или не разрешишь.
– В десять часов я буду смотреть по телевизору один фильм.
– Мы можем посмотреть его вместе.
– Это фильм для взрослых.
– А я и раньше фильмы для взрослых смотрел.
– Ладно, уговорил! – Я хлопаю в ладоши. – Будь по-твоему! Можешь не спать, пока они не позвонят. Но после этого сразу в кровать. При одном условии: перед тем как начнется фильм, ты наденешь пижаму и почистишь зубы.
– А сколько сейчас времени?
– Пять минут первого.
– Это, значит, сколько часов осталось до того, как мне надо спать?
– Не знаю. Много.
– Ура! – кричит Сандер, хлопая в ладоши.
Мы сидим на кровати и рассматриваем стикерсы.
– Когда смотришь стикерсы, можно многому научиться, – серьезно говорит Сандер.
– Да, но не обязательно же всегда чему-то учиться, – возражаю я.
– Не-ет. Мама говорит, что это здорово – узнавать что-то новое про разные страны и все такое.
– Да. Конечно. Тут уж с мамой не поспоришь.
– А ты что, хочешь с мамой спорить?
– Нет, Сандер. С мамой я спорить не собираюсь.
– Знаешь, сколько у меня стикерсов?
Я отрицательно качаю головой.
– Сто тринадцать! Сто тринадцать только в этой папке! И дома еще есть, в коробке.
У Сандера темно-русые тонкие волосы, как у его отца. Длинная челка. Голубые глаза и маленький крепкий нос, над верхней губой по-детски отчетливая ямочка. Губы всегда немного влажные. Щеки круглые, с сухими красными пятнами. Такие же красные пятнышки на внешней стороне рук и на запястьях. Смазать их кремом он не разрешил.
Руки Сандера умеют делать кучу самых разных вещей. Сандер умеет завязывать пять разных узлов, рисовать флаги почти всех стран мира, наливать в стакан сок, резать хлеб и делать бутерброды, даже ставить заплатку на брюки. Жюли рассказывала, что, когда она плохо себя чувствует или устала, Сандер иногда гладит ее по животу. Сам Сандер любит, когда его гладят по спине. Он придвигается поближе, тяжелеет и, разнежившись, замирает.
Сандер худенький и высокий. При рождении ноги его были непомерно большими, как у Жюли. Он играет в футбольной команде. У него есть белая с синим футбольная форма.
– Может быть, победа – не главное, – говорит Сандер, закатывая глаза к потолку (мол, надо же было придумать такую дурацкую поговорку!), – но в прошлом сезоне я забил восемь голов.
Он встает с кровати и показывает, как он забил один из голов, как он легко обвел вратаря. Раз-два и готово.
В два часа мы решили перекусить. Сандер интересуется, что у меня есть в холодильнике. Я отвечаю, что там есть хлеб с отрубями, бананы, варенье, печеночный паштет, обычный сыр, чедер и молоко.
– Карин, а шоколад у тебя есть?
– Нет.
– Давай купим?
– Только не сейчас. Сначала надо поесть.
– А потом, когда поедим, сходим за шоколадом?
– Хорошо.
– А ты умеешь варить горячий шоколад?
– Умею.
– Ты молодец.
– Спасибо.
* * *
Перед отъездом Жюли сказала:
– Не знаю, что из этого выйдет. Попробуем начать все с начала, как говорится. Перечеркнем все, что было, забудем, что мы друг другу наговорили, простим. Это Александр придумал поехать в Италию. Не знаю, почему он выбрал Италию, но я согласилась – по-моему, идея неплохая. Мы туда ездили в свадебное путешествие. Только теперь это уже не медовый месяц. Боюсь, что у нас обоих слишком большие ожидания. Боюсь, ничего из этого не выйдет. Сначала на самолете, потом на машине, будем жить в гостинице и ждать, что экзотическая природа вернет нам любовь.
Представляю себе эту картину: сидим мы в том же самом кафе, что почти девять лет назад, и ждем. Ждем, что один из нас что-нибудь скажет, что вино будет таким же вкусным, вечернее солнце – таким же теплым, а движения рук – такими же спонтанными, как раньше. Я не исключаю, что нам почти удастся убедить себя в этом. Почти, понимаешь? Потому что пусть на какую-нибудь десятую долю секунды, но мы обязательно вспомним о том, что все это в прошлом. Все изменилось. Что мы лишь делаем вид. Десятой доли секунды хватит, чтобы увидеть себя со стороны и понять, что наши слова стали пустыми, вино – безвкусным и пресным, солнце – прохладным, а движения рук превратились в слабые рукопожатия, что мы похожи на двух солдат, которые, видя бессмысленность сопротивления, берутся за руки со словами: не пора ли остановить кровопролитие?
Может, лучше вообще не вспоминать ни про какую любовь?
Однажды папа сказал, что благополучный брак состоит из двух вещей: крепкая дружба и здоровый секс.
Жюли смеется.
– Ну откуда папе знать, что такое благополучный брак? Сначала у него была какая-то женщина, которая родила ему сына, потом наша мама, которая родила нас с тобой, а потом Ингеборг. Все не как у людей.
К тому же мы с Александром никогда не были друзьями. Мы любили друг друга. Были довольно близки. Но при чем тут дружба?
Недавно я читала роман, который называется «История одного одиночества». Теперь это у меня настольная книга. Я возьму ее в Италию, буду читать Александру и, наверно, буду злиться на него, что он засыпает, не дослушав до конца очередную главу, так же, как он раздражается, что я обрываю его на полуслове и договариваю за него фразу. И так все время, понимаешь? Все время! «Ну почему ты не можешь стать другой!» – «Почему ты не можешь стать таким, как я хочу!»
Помнишь тот день? Помнишь, как я тебе позвонила и сказала, что все кончено? Я говорила, что больше не могу. Нет у нас больше семьи. Я бродила по городу, заглянула в книжный, но ничего интересного не нашла. Я хотела развеяться, найти что-нибудь для души и уже пошла было к выходу, когда вдруг увидела на полке этот роман. Наверно, меня привлекло название: «История одного одиночества».
Именно так, по-моему, следует называть дружбу.
В книге есть одно место, где писатель рассказывает о пещере, находящейся в южной части острова Капри, в том месте, где любил купаться император Тиберий.
В пещере стоит кромешная мгла. Непроглядная темень наводит ужас на людей, привыкших к яркому дневному свету. Но это не самое страшное. По-настоящему жутко в этой пещере становится от странной акустики: кричи – не кричи, – а человек инстинктивно начинает кричать, когда хочет, чтобы его услышали, – голос твой утонет в шуме прибоя.
Тебя никто не услышит.
Но если прижаться губами к стене пещеры и говорить тихо – слышно будет каждое слово.
Жюли раскрывает книгу:
– «Ты не понимаешь, где находишься, стоишь ты или идешь и кто ждет тебя там, в другом конце пещеры. Ты не знаешь, слышит ли тебя кто-нибудь. Кто-то должен тебе об этом сказать – кто-то должен сказать: "Я слышу тебя, я здесь, на другом конце. Ты не один. Если ты будешь говорить тихо, я услышу каждое твое слово". Но если никто тебе об этом не скажет, ты будешь кричать, кричать – и все без толку».
В тот день я тебе позвонила. Я думала, что мне надо куда-нибудь уехать, и как только я отправлюсь в дорогу, все станет хорошо.
Мы жили, как в аду. По-другому не скажешь.
И все время повторяли одно и то же: «Только ради Сандера. Мы должны быть вместе ради Сандера».
А Сандер однажды сказал: «Может, вам лучше развестись? И не будете больше ругаться».
А тут еще одноклассники Сандера. Я знаю, что у многих из них родители в разводе, – понимаешь, что значит быть ребенком, у которого родители в разводе? Эти крошечные ранцы и сумки, которые кочуют из одной семьи в другую каждую неделю. Эти просвещенные, равноправные, мужественные родители. Не знаю, не знаю. Может быть, лучше вообще не впутывать сюда никакую любовь?
Иногда во время наших ссор, хотя нам самим кажется, что мы говорим очень тихо, приходит заплаканный Сандер, он заткнул пальцами уши. Руки у него дрожат, как у старика.
Хватит!
Не надо!
Перестаньте!
Мы едем в Италию ради Сандера. Звучит малодушно, да? Правда? Не хватало еще взвалить на него и эту ношу – в придачу ко всему остальному.
Сандер здесь ни при чем, мы едем ради самих себя. Потому что нам страшно. Потому что нет ничего ужаснее, противнее и больнее развода. Но при чем тут любовь?
Неужели любовь может вернуться, если мы столько лет спустя приедем в то же самое место, зайдем в то же кафе?
Может, лучше называть это примирением? Может, теплое рукопожатие – это все, на что можно надеяться? Может, не стоит этим пренебрегать?
Я придумала еще одно слово. Я недавно о нем вспомнила. Можно назвать это осознанием.
Я подумала: а если не любовь? И не прощение? Во всяком случае, в том смысле, в котором мы их обычно воспринимаем. А именно осознание.
Может быть, осознание?
Может, для начала осознание? Ради Сандера?
Александр! Ты слышишь меня?
Я прочитала книгу еще раз. Мне запомнилась только одна фраза: «В аду тоже надо думать о том, как расставить в комнате мебель».
Это все, что мы можем друг другу пообещать.
* * *
Мы с Сандером сидим за кухонным столом и едим. Стены у меня желтые. Я красиво накрыла стол, положила красную рождественскую скатерть и зажгла свечи. На стене тикают часы. Скоро уже половина третьего.
Сандер говорит:
– Мой папа всеведущий.
Он дожевывает свой бутерброд. Говорит с набитым ртом.
– А ты знаешь, что такое «всеведущий»? Это тот, кто все знает. Мама один раз сказала, что она тоже всеведущая, а потом сказала, что никакая она не всеведущая. Она сказала, что нет таких людей, которые все знают.
– Мама права.
– А ты всеведущая?
– Я – да. Это ты правильно сказал.
– А ты знаешь, о чем я сейчас думаю?
– Знаю.
– Ну и о чем же?
– Если ты всеведущий, то никому нельзя рассказывать того, что ты знаешь, – в том-то и смысл.
– Как это так?
Сандер перестает жевать и зажмуривает глаза. Затем подозрительно смотрит на меня.
– Почему это нельзя?
– Иначе потеряешь свою волшебную силу.
– По-моему, ты врешь. Никакая ты не всеведущая.
– Значит, папа тоже врет?
– Нет, папа не врет. Папа знал, кто выиграет первенство мира. А об этом вообще больше никто не знал.
Мы намазываем себе еще по бутерброду. Я встаю, чтобы достать из холодильника молоко. Проходя мимо Сандера, я пытаюсь погладить его по голове, но на этот раз он уворачивается.
После того как мы покончили с едой и убрали со стола, я говорю, что теперь можно сходить в магазин за шоколадом. Сандер спрашивает, можно ли взять с собой мяч. Я разрешаю, предупредив, что на улице сейчас слишком холодно для игры в футбол.
– Ну хоть немножко можно? У тебя за домом.
– Нет, – говорю я. – Погода не та.
– Ну капельку, – просит Сандер.
– Хорошо, только совсем недолго.
– Только давай вернемся до того, как мама с папой будут звонить, – вдруг вспоминает Сандер.
Я поворачиваюсь, глядя на него.
– У нас еще много времени, Сандер. Раньше вечера они не позвонят.
У нас во дворе сидит черно-серая кошка. Завидев нас, кошка начинает шипеть. Лапки у нее белые. Тельце тощее. Шерсть взъерошенная. На одном глазу бельмо. Кошка идет за нами.
– Смотри, кошка тоже с нами пошла.
– А ну-ка брысь отсюда! Иди домой.
Мы покупаем молоко, шоколад, тефтели, брусничное варенье, картошку, хлебцы и апельсиновый сок. Мы пришли в просторный светлый супермаркет. Я покупаю здесь продукты уже много лет. Время от времени я киваю людям, которые проходят мимо. Они кивают в ответ.