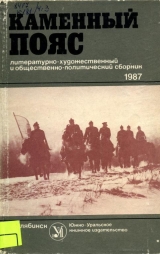
Текст книги "Каменный пояс, 1987"
Автор книги: Лидия Гальцева
Соавторы: Николай Терешко,Василий Еловских,Александр Павлов,Юрий Зыков,Геннадий Суздалев,Василий Пропалов,Владилен Машковцев,Александр Петрин,Сергей Бойцов,Сергей Коночкин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Мой голос между тем хрипло, в сознании единственности этого мига, прокричал:
– Пожар, на четвертом этаже – пожар!..
И батоном, батоном, бывшим в руке, ткнул я навстречу пепельному взгляду – «Дура, дура, не понимаешь?» – по прямой, по кратчайшей:
– У вас, у вас пожар!
Да и вон, со всех ног – вон, из аквариума этого; дверь за мной, крепко наподдав, должно быть, всю округу всполошила.
И далее путь мой… А далее путь мой – в угловую комнату запущенную, какие всегда найдутся в замоскворецких старых квартирах, с ободранной тахтой и древним, черного дерева, шкафом, с заваливающимся столиком и изрезанной давным-давно столешницей у единственного окна, с круглым вертящимся рояльным табуретом – к этому столику. Света не включаю.
– Все кончено! – бормочу я, и мне почему-то так ясно, что действительно ведь кончается эта моя птичья, призрачная, неуверенная жизнь, жизнь из милости под чужим, временно пустующим кровом. О пожаре я боюсь думать, руки у меня дрожат, в чемодан я бросаю вперемешку бумаги, книги, одежду, батон…
Невольный взгляд в окно: улица по-прежнему без движения – ни машин, ни людей. Из окна мне башню не видно – что там?
Проходят еще какие-то минуты, и уже взбегаю по знакомой, унизительно-знакомой и темной сейчас лестнице, отсчитывая этажи – первый, второй, третий… Лифта и людей я устрашился. Как-нибудь взглянуть, что же там? В коридоре четвертого этажа полно дыма, мелькают привидениями фигуры людей. «Дым скроет меня, – лихорадочно думаю я, – никто меня не узнает…» Не здесь ли набивался, напрашивался я на квартиру, рассчитывал на сострадательное великодушие, не здесь ли обольщался надеждой и нежданно для себя – почему же нежданно-то? – был отвергнут. Здесь, здесь (деликатно, без мотивов, – не уповай!)…
Двери Мелкумовой распахнуты настежь. Глаза у меня уже слезятся от едкого дыма. Кто-то выбегает, вбегает – соседи? Я посовываюсь вперед: что? что? Огня не видно, в квартире дым несусветный, несут черные дымящиеся книги в ванную, обозначившуюся желто, проемом, и там сваливают. Вдруг выходит прямо на меня женщина со спутанными волосами, отводит прядь волос обнаженной по локоть и закопченной рукой и, враждебно блестя на меня глазами, выдергивает из-за спины смуглого, истуканно спокойного малыша лет четырех.
– Лед хотел растопить на стекле спичкой… штора загорелась… – говорит она словно бы и не мне, а кому-то у меня за плечом.
Оглядываюсь невольно, зная, что там – никого. А женщина уже перед кем-то оправдывается, скосив враждебно на меня глаза:
– Не вызывала, никаких пожарных не вызывала, не знаю кто вызывал!
И только когда громыхнули в коридоре сапоги пожарных, мелькнули каски, раздались бесполезные слова команды, я понял, что передо мной именно сама Мелкумова, – впрочем, страшно изменившаяся по сравнению с той Мелкумовой, какую я застал на площадке у лифтов или знал раньше.
Как теперь понимаю на снегах Летнего, одним из этих грубобрезентовых, стучащих сапогами людей был человек, запомнивший меня. Как оказалось, навсегда Юноша!
Таких, как он и я, могут спросить: «Что это за жизнь у вас? И какая сила вас носит? Кто вы?» Московские тени ничего не ответят, проходные дворы наши поспешные шаги не выдадут, скроют.
Старый Грех. Во вторую смену
– Нет, Старый Грех, я последний год работаю, – говорит наша профсоюзница Валя. Старым Грехом она дурашливо именует Веру, свою подругу, – как и она, одиночку, преждевременно постаревшую женщину.
– Что так? – Вера проясняется всеми морщинами. – Или налево пойдешь? Ой, гляди, далеко не зайди!
– Мы честные давалки! – гордо, становясь в позу и дурачась, говорит Валя. Ей нет и сорока, хотя у нее двое детей взрослых; она член постройкома, на язык остра и безжалостна.
– Вот уеду я, к сыну в Баку подамся, он сверхсрочником остается в армии. А там выйду замуж за полковника.
Она подмигивает нам, смеется, головой показывает на Веру.
– А куда же ты Старый Грех денешь? – встрепенулась Вера и, имея в виду себя, широко руками развела: – Смотри, какой еще годный Старый Грех!..
Все морщины ее танцуют, руки и ноги выхудевшие – точно на шарнирах.
– Мне молодого надо, костяного, не старого, – наскакивает на нее Валя. – Мне б полковника…
– Не баба, а конь с этим самым, – будто бы с восхищением, дразня кого-то, заключает Вера.
– Сейчас бы он посмотрел на меня, полковник-то, – упавшим голосом говорит Валя, – посмотрел бы какая я есть…
Тоже разведя руками, она озирает себя точно со стороны: в резиновых сапогах, в измаранной куртке поверх телогрейки. И прибавляет:
– Сразу бы и пожалел меня…
– Окаянная, вот окаянная, – грустно и уже чуть не плача, смеется Вера.
– Всякий лысый, белобрысый, – тоже грустно смеется Валя, – я согласная, пусть берет!
Водолаз Серега Евтушенко крепко мордат, велик, с хриплой, широкой, как труба, глоткой. А вот и снаряжение Серегино. Снимаем его с машины, грузим в ковш.
Вышли во вторую смену, с четырех. Сначала висли на монтажных поясах над водой, сбивали ломиками да топорами опалубку из укромных, недоступных мест. Электрик подключил прожектор. Подошел начальник строительства Бунько, погнал нас:
– Будете помогать водолазу. Сколько вас? Четверо?
…Тащим сундуки с водолазными фуфайками и теплыми штанами, с резиновым скафандром, грузилами, наплечниками, свинцовыми галошами и медной башкой – шлемом. До этой самой башки мы стараемся – каждый – дотронуться… Серега снисходительно матерится. Последними выгружаем бухточку сигнальной веревки, шланг для подачи воздуха, подводный фонарь и, наконец, агрегат с электроподсоединением.
И все это добро – в ковш. А его краном подать надо на ту, дальнюю, сторону здания ГЭС. Крановщику, между прочим, не видать, куда он тот ковш будет опускать. А стропаля-сигнальщика у него нет.
Совсем стемнело уже, на крыше ветер разгонист; плиты бетонные состыкованы, зацепиться не за что. Стою на краю бетонной пропасти один. Далеко внизу – площадочка куцая, слеповато освещенная. Наши уже там, у шандоры.
«Зачем же ты здесь, а не среди них? – невольная мысль. – Доказать хочешь, неужели мордатому Сереге?.. И ему. А главное, себе. Вот правда!»
По звездам, по звездам поплыл ковш да и стал вниз опускаться. Левый рукав робы у меня разодран, ветер его мотает, задирает в самое лицо. А снизу мне уж машут. И я машу – крановщику. Чуть, еще чуть! Вслепую ковш идет, сейчас все внимание крановщика на мне, на моих руках, – всем телом чувствую напряжение его взгляда. Все! Можно от гиблого края отшатнуться!
Так нет же, еще раз выйду на край судьбы!.. Я победил тебя, необходимость! Отсюда далеко видно: сгустилась ночь над лесами, над поселком за ними, над каналом недалеким, прорезавшим эту землю и зимой напоминавшим о себе великим молчанием. Огоньки редкие в ночи дрожат, словно кто-то жалеет всех одиноких в этом мире.
А внизу уж сколотили лестницу для водолаза – на шесть метров с лишком. Вывесили ее на канате. Низ утяжелили грузилом – железной пластиной с дырой, монтажники даром бросили. Прикрутили проволокой. Стали опускать в воду. Опустили.
Серега подошел неторопливо, пнул по закрепкам, удерживающим лестницу, глянул в воду.
– Порядок!
Менялся он на глазах: от минуты к минуте становился все глыбастей, не слышал обращенных к нему слов, точно уходил в себя, задумывался.
Неожиданно появился Юноша, как оказалось, это было его дежурство. Рядом с водолазом был он особенно невзрачен. Подключил подводный фонарь и машину для накачки воздуха. Исчез невзначай, точно его и не бывало.
Принесли ящик с наушниками и телефоном. Серега пошел одеваться. С ним – помощник, худощавый, углолицый парень с кривыми ногами.
Потом Серега стоял у лестницы, согнувшись под свинцовыми грузилами, в свинцовых своих галошах, – глыба резины, металла, веревочных чересседельников, окручивавших его. Помощник навинтил ему медную башку с красным шлангом. Серега стал нем. Потоптался, пожал руку мужику, готовому травить шланг с сигналом. Тяжело шагнул к лестнице, полез в черную воду, расталкивая лед и обломки досок. Скрылся с головой, зашумел, выдавливая воздух, заклокотал водой, погрузился еще глубже, нашел и ухватил фонарь. Вода озарилась вишневым, пурпурным, сиреневым, засияла, загорелась, – Серега работал с фонарем.
Двинулся он еще ниже; помощник, надев наушники, что-то мычал по телефону и так же, нечленораздельно, передавал Серегины слова.
Так он и отработал, продернул дополнительный трос к полиспасту; надо было вырывать шандору, низ ее и направляющие стенки зальдели… Шандору после вырвали, подняли. А Серега, выбравшись из воды, – едва освободили его от шлема, – перво-наперво попросил сигарету. Раскуривал кривоногий помощник, а раскурив, подал Сереге. Курнув раз-другой, тот кивком приблизил к себе травившего шланг, пожал ему руку.
– То, что надо. С меня причитается!
А когда чуть отошел, стал прежним мордатым Серегой Евтушенко с хриплой, широкой, как труба, глоткой.
…Глядя в черную воду, на поверхности которой в зловещем танце толклись лед и обломки досок, я вспомнил недавнее: взрыв перемычки с подводящего канала, и как котлован заполнялся водой, как пошла она через водоспуск. И думал о великой силе опасности, кажется, обнажающей в человеке основу.
Ай да мы!
Нынче прокручивали вхолостую первую турбину. Сбежались все работавшие поблизости. Неспешные обороты… Поехали!
Сложное чувство, то ли умиления, – наконец-то прокрутка, ай да мы! – то ли сожаления – как, уже? а сколько пережито здесь! – овладело всеми. Привычные мысли о турбине, как о чем-то косном, мертвом, огромном, что надо осилить трудом и терпением, пуще того – оживить, – эти мысли сменились у всех представлением о ней, как о чем-то ожившем – со своим характером, поведением: как она поведет себя, что-то выкинет?..
Озабоченными именинниками выглядят ленинградцы из Гидроэнергомонтажа. Держатся они особняком. И язык у них свой, монтажный, не очень-то и поймешь, о чем разговор. И в свой круг они чужака не враз пустят… Так-то вот и отгородятся от строительного народа.
У командированных монтажников кичливость и гордыня перед прочими строителями те же самые, что у летчиков перед пехтурой. Им и деньги идут побольше, подносят их поуважительней – не то что нам, простым смертным.
А ведь не велика шишка – командированный! В последние месяцы их в Летний навезли немало. Прибывают они бригадами, у них свои прорабы; там, слышишь, украинцы частят по-своему, а там – солидно и негромко переговариваются латыши, и тоже держатся особняком.
Но не всегда. Когда подопрет – пожалуешься первому встречному… Украинцы и говорят:
– Многие из наших по полжизни в командировках размотали, весь Союз объездили. Не успеешь вернуться из одной, как в другую гонят. Так и живем!
Впрочем, в Летнем командированные не очень-то задерживаются. Одни спешат отработать месяц и уехать – их поначалу на месяц и присылают; другие остаются на два-три месяца, понуждаемые угрозой расчета по известной, слишком известной статье. Это уж их своя администрация прижимает – издалека давит. Но и они в конце концов уезжают. Тогда присылают новых рабочих.
Командированным платят раза в полтора, а то и в два больше зарплаты местных рабочих (и мы, вербованные, тоже считаемся местными!). Но иначе стройку никак, видно, не поднимешь: говорят, рабочих рук нет… Руки-то есть, вот кое у кого головы нет! И такое говорят в бригадных будках да по общежитиям.
Ночью турбину пробовали на полном ходу, дали ток. И первым током ударило бригадира электромонтажников, который работал в одиночку на подстанции. Обгорел у него лоб… Отваживались с ним, спасали, как умели. Послушали – жив, сердце тукает. Увезли в Беломорск.
Бригадир этот – пожилой, приземистый, с широким калмыцким лицом, с глазами, которые называют кислыми – из-за узости их особенной, с кисточками редких усов, опущенных подковой над ртом. Все в его повадке особенное, независимое, устроенное по-своему. Отгораживался он от жизни тоже по-своему: черным словом, в котором счастья нет, матерок городил на матерок.
«Каким же он был в молодости, в ранней юности? – думал я. – Непредставимо!»
…– Все горки поросли эдак – кошачьей лапкой, трава есть такая, – рассказывает Юноша. – Я любил эти горки, мы бегали там босиком; я жалел взрослых, которые обуты и не чувствуют ни земли, ни травы, ни парных в траве луж… А еще я горевал – вот горюн-то был! – что скоро мне и самому быть взрослым.
Мы с молодым Хомченко да с пожилым Митей, которого зовут еще Митя-с-медалью, распалили огонь, пережигая стальную проволоку: мягкая она годится вязать арматуру. Мотки проволоки брошены на костер, крючки для вязки ее у нас уже готовы. Юноша к нам прибился, к костерику, а шел по своим делам, и вот теперь, угревшись, неторопливо рассказывает о своем.
– Вообще-то я вредным был, – признается он, усмехаясь. – Ох мне и доставалось от пацанвы! «И в кого ты такой? Перечишь, перечишь – поперешный?» – говорили мне. «В мать, – отвечаю, – в отца. Они у меня своей костью власть зашибить хотели – поперек перли… А как власть их смолотила, они тут меня и подсунули: на-ка вот взрасти его, в нем наша кровь единая». Я и вырос, выкормился на диких харчах; глазами, будто стенку прободел, – вижу, где люди ходят, ну а где мать с отцом, там, стало быть, нелюди!..
Жар течет с его скул, глаза прижмурены, он посунулся к огню, точно видит его впервые.
– Ты их знал все-таки? – спрашивает молодой Хомченко.
– Был у них уже большим. Вместе с сестренкой были, она в другом детдоме воспитывалась.
Юноша отвечал нехотя, медленно, равнодушно сплевывая в огонь.
Знаю, очень хорошо знаю, что он вырос в детдоме! И, не зная, чувствовал. Пытался он выучиться, да ушел с третьего курса лесного техникума в Вологде: лишили его стипендии, а помощи ему ждать неоткуда было. Устроившись газорезчиком в депо, он стал помогать сестре, учившейся к тому времени в педагогическом училище. Заветная мечта Юноши – сестру выучить, чтобы у нее жизнь была полегче.
О том, как он был пожарником, жил по лимитной прописке, а потом и без прописки, не жил, а существовал, он вообще неохотно вспоминал. В Летний он попал по вербовке, почти в одно время с нами.
Юноша зашевелился, чуть ли не вздохнул, заслонил лицо от слишком сильно шатнувшегося пламени, – это Хомченко потыкал палкой мотки проволоки в костре.
– Снился мне прошлую ночь детдом… Будто опять я в Кадникове, и мне четыре года… Хочешь не хочешь, а снится. Надо же!
Митя, до того глядевший и слушавший безучастно, встрепенулся, пожевал губами, словно хотел что-то сказать, но так ничего и не сказал.
– Быть может, я уже умерла и все вокруг тоже, – раздумчиво проговорила мать, взглянув на меня с улыбкой слабой, вопрошающей. И, помолчав, прибавила, как бы оправдываясь:
– Мне так показалось сегодня… Странно, правда?
Недавно она принялась вспоминать – впервые на моей памяти, во всю жизнь не трогала этого в себе. – как в гражданскую войну расстреливали в Глазове:
– Мы, ребятишки, бегали на Вшивую горку подсматривать: сегодня белых там расстреливают, а завтра – красных…
Она тут же обрывает себя. В глазах у нее я вижу тот самый детский испуг вместе с огоньком смертельного любопытства, как будто снова она пряталась в засаде.
Город Глазов. Жили они в доме бывшего владельца винокуренного завода. «Гырдымов, кажется, – говорит она оживляясь. – Ну да, Гырдымов». Подселили их, пришлых, многодетных, в гырдымовский дом. Отец, как всегда, плотничал – плотник он был каких поискать, – работал по найму.
– Самый разгар гражданской войны, а мы решили перебираться на Урал. Вот как сообразили! Голодали, конечно, вятские тогда голодали… А там, по слухам, хлеб есть – земляки туда раньше подались. Сообщали: хорошему плотнику заработать можно. Ну мы с Ахорзиными да еще с одной семьей и поднялись. На лошадях полтора года на Урал ехали. В Глазове остановились подкормиться, как потом по деревням на пути кормились. Платили нам за работу мукой или зерном. Зерно мать в ступке толкла.
У отца было прозвище – Гамаюн, так его мужики называли. Не наш, мол, иной человек, вести несет. – А в своей деревне все его звали Ванька Шалай.
Когда в гырдымовском доме красноармейцы постоем стояли, они нас подкармливали. Только кончат они кашеварить, мы, ребятишки, уже тут как тут. Мать нас и снарядит: каждому по миске либо по кружке сунет да и подтолкнет тихонько – бегите, мол, не обидят. И верно, не обижали. Кашевар вроде бы сердито спросит: «А это чьи?» А ему уж кричат: «Да это здешние, Гамаюнова мелкота!» Он и подобреет, каши нам солдатской либо щей отпустит. Мы к матери несемся, показываем…
Во время обстрелов артиллерийских мы в подвале прятались. Там у Гырдымова хранились винные этикетки. Видимо-невидимо было их! Над нами снаряды летят, а мы – на винных этикетках… Играли ими!
С матерью на вокзал селедками солеными торговать ходили. Сядет мать с тазиком, а мы возле. Из вагонов нам кричат: «Мамаша, нет ли молочка? Молочка бы…» А у нас одни селедки, самим бы молочка…
Так ехали мы на Урал, ехали, а до сытой жизни не доехали. В дороге одна сестренка моя умерла. А уж в Серове и до других, до матери с отцом очередь дошла: сыпной тиф… Пятеро из семьи тогда умерли. Отец и в Серове, Надеждинске по-старому, сумел хорошо с работой устроиться. И жилье получил. Все надеялся, надеялся… Да не пришлось пожить.
Мать, когда заболела, зная, что не выбраться ей, успела сказать: меня в Кедрово к родственникам, какие подобрей да у кого посытей, – я самая тихая была, думала она обо мне… А Шурка с Николаем остались – те бойки были. Так малолетками и пошли мы в люди. Теперь никого уж, кроме меня, нет…
Северное сияние
Налимы – черные, жадные до жизни. Ловим их голыми руками во впадинах среди камней; воду на время перекрыли, остановив агрегаты станций.
Самым удачливым ловцом оказывается Жуков – из недавно присланных в бригаду слесарей. Он набивает налимами чьи-то старые брезентовые штаны, завязав предварительно штанины…
В работу бригадную Жуков с друзьями входили неохотно, как бы недоумевая: что же делать им в такой ситуации, как быть?
– Мы всю жизнь при железе, а тут – земля… – пояснил один из них, неуверенно улыбаясь, и сумно поглядел на свежо рыжеющий глинистый скос траншеи.
– Терпи, земеля! – крикнул кто-то из наших и с удовольствием прибавил: – Земелька горбатых любит.
Но и потом новоприбывшие работали вполсилы – так и не втянулись, или не захотели, как они говорили, горбатиться. А Жуков… Главным спорщиком и крикуном был этот верткий, ловкий человек, линюче светловолосый и по-беломорски светлоглазый – отраженным светом беломорских пустых ночей. Не уставал он ни в работе земляной, тяжкой, ни в поддразниваньях взаимных, затяжных наших спорах.
Себя он, широко улыбаясь, назвал вепсом. А малую народность свою – вепсов – произвел от карелов и финнов. Впрочем, где правда в жуковских словах? Впоследствии я что-то читал о вепсах в энциклопедии, о древней веси, упоминавшейся в летописях. Но скудны, темны были строки, и не проясняли они моего вепса – Жукова. Заинтриговал он меня еще больше, когда сказал, что фамилия у него звучит так: Гуков. Но и это не все.
– По-настоящему я Жуков-Гуков-Юндт…
Родом он с острова Жужмуй.
– Два маяка у нас там. Два маяка да сорок два работника. А может, и менее теперь…
Живет в Шуерецком.
– Приезжай в гости, увидишь, – говорит Жуков и легко вздыхает, щурится на мартовское солнце, глядит на реку. – Увидишь, как живем.
Взялся рассказывать про своего дядю – знаменитого на Белом море капитана Кошкина.
– Он, Кошкин-то, известный здесь. Седой уж давно; один глаз у него, было дело, вытек… Теперь разводит овец. Персональную пенсию ему платят. Не веришь? Родился он в семье тутошнего судовладельца, ходившего в Норвегию, Швецию, знавшего языки.
И сам Кошкин знает несколько языков – голыми руками его не возьмешь, – учился в Швеции на капитана. Тоже, выучившись, ходил и в Европу, до самой Америки добирался. А в гражданскую-то… слышь, в гражданскую бил он, Кошкин, белых, англичан, американцев этих шерстил. Защищал Соловки, Соловки-то знаешь? Ну вот. А как уходили наши с Соловков, оставляли то есть, так Кошкин с товарищами пулеметы на корму шхуны понаставили, да и поминай. Нет, Кошкина не возьмешь!
Жуков удовлетворенно похохатывает, видя мой интерес к его рассказам, как бы давая понять, что и его, Жукова, не возьмешь…
– В последнюю войну был Кошкин под Ленинградом, в пехоте. Живой пришел. Кошкин – везде Кошкин! – заключает Жуков, и в глазах у него пляшут огоньки.
А я думаю: «Ну, Жуков! Ну, Север…»
Ночью обокрали продуктовый магазин на Береговой. А на следующий день вора поймали. Оказалось, только что из заключения он… И опять, значит, ему за колючую проволоку.
– Живем не как люди, умрем – не покойники… – такими словами сопроводила это известие наша уборщица Фаня, собираясь под вечер к себе в Олимпию. И повторила убежденно, даже ногой топнула: – Не как люди!..
А в общем-то, происшествие встречено без большого интереса, толкуют о нем в поселке так, как будто примеряют на себя судьбу близкого, родного человека, но непутя, – скучно, нехотя толкуют. Всем все понятно, и говорить тут не о чем.
Но я от всего этого захандрил… Я не только понимал, сколько чувствовал: моя теория необычной жизни не выдерживает испытания равнодушием, обыденностью. И сама жизнь, казалось мне, становится все хаотичней, случайней…
Не высидел в Летнем, напросился на поездку в Беломорск. Встретил на вокзале в Беломорске Юношу. Он расположился на деревянной скамье, деля трапезу с кем-то, кто поглядел на меня ревниво, опасливо, когда я поздоровался. На бумаге у них была разложена килька, которую они и терзали; в руке Юноша держал кусок черного хлеба, жевал, побрасывал скулами. Тоже и он мечется по станциям: из Беломорска в Кемь, из Кеми в Беломорск… И он захандрил, и ему худо?
Город встретил меня уже забытой почти угретостью, вытаянной грязцой первой. Но как по контрасту все еще бела эта мощная целина Сорокской губы, эта далеко обозреваемая, бесконечно длящаяся загадка ледового чудища – Белого моря!
Идущие с моря, из жемчужной глубины его, облачные гряды мало-помалу сиреневеют, тают. Плутаю между тесно поставленных, а местами вразброс рыбацких домов с огромными дворами; ведут меня деревянные тротуары, такие знакомые по уральским малым поселкам где-нибудь в глуши неисповедимой…
Добыл комнату в гостинице при вокзале. Но еще длится вечер. За окном, вижу, малые девчонки собираются играть во что-то наподобие нашей давней и, как мне представляется, всеми намертво забытой лапты. Вот они делятся, разбиваются на две группы. А сколько крику при этом!
– Матки, матки, чей допрос? – кричат девчонки самозабвенно, на весь мир, только бы выкричаться. – Чей допрос?
Я гляжу на соседа-коечника: слышал ли, понял ли? Молоденький, мрачновато-взволнованный, в форменной одежонке, он прибыл из Ленинграда, из какого-то там своего, не ведомого мне училища; назначен на тринадцатый шлюз Беломорканала, Сказал, что будет работать начальником вахты, – так распределили. Трусит, надеется. Нет, конечно, ничего не слышал и не понял!
– Чей допрос, чей допрос? – снова ясно кричат девчонки…
Ночью задвигалось небо – похолодело в сердце: северное сияние! Прижавшись к окну, слежу сполох за сполохом; розовая туманность дышит, выдает присутствие чего-то огромного, живого – там, на северном склоне неба.
Было дело
Дренаж замучил нас. В траншее стоит моренная квашня. Один сапог у меня порван, и нога постоянно мокра. Уж я его проволочкой, проволочкой укручивал, сапог этот… Нынче благовещенье. Вспоминаю чьи-то уверенные слова: «Каков будет день в благовещенье, такое и лето…»
И весь этот день у нас не прекращаются азартные вначале, а потом уже и усталые, надоевшие всем споры. До хрипоты крик. Спорящие стороны составили Жуков, слесарек, по прозвищу Поляк, и я. За мной тоже что-то вроде прозвища закрепилось: называют меня с намекающей усмешкой Подпольным оратором. Подпольным – потому что внизу я, в траншее, а Жуков с Поляком – наверху, на второй перекидке…
Надоевшие, говорю, пожалуй, неправ я! Споры наши увлекают всех, работающих поблизости. Вижу, как тянутся к нам, у людей блестят глаза. А споры – о справедливости, заработной плате, коммунизме, войне, Америке, профсоюзах, перемене места жительства, прописках, свободе и несвободе… Вот – деньги: кто-то закрыл наряд за двенадцать дней на сорок два рубля с копейками. И это строителю!.. «Да, это уж действительно…» – повторяют слушатели с лопатами, с отбойными молотками, с ломами в руках. Солидарность полная.
– Получить бы пусковые за третий агрегат, – невпопад мечтает кто-то, – сейчас бы мы…
– Да, сейчас бы тебя только и видели!
– Везде хорошо, где нас нет, – начинает мужичошка растелепистый, с широким лицом, с мешками улыбающихся глаз. Известен он тем, что жена от него сбежала.
– Точно! – зло кричит ему, не давая продолжить, Поляк. – Везде, Вася, хорошо, где тебя нет!..
А тому и отвечать нечего, жмурится только да лыбится.
«Но Поляк – зол, – говорю я, спорю сам с собой. – А Вася?..»
Вдруг задождило, занавесило частой сеткой белый свет. Неутихающий ни на минутку дождь. А мы гатим ветками да всяческим мелким подростом развороченные колеи дороги для строящейся линии электропередачи. Просто откуда-то прозвучало: «ЛЭП… дорога… ЛЭП…» И чья-то сила послала нас – принудила, увлекла.
Происходит все это в лесу, в виду недалекого Беломорканала. Вода сейчас там спущена; подойдешь ближе – виднеется край канала, обрывающийся, как представится, в пустоту, а на самом деле – в стремительно оседающие под дождем лед со снегом; на той стороне его – такой же лес либо луговая поскотина с вытаявшими кочками.
А у нас топоры – на все про все. И измокли мы до костей. И окружают нас озерца, которым мы не рады, болота да гривы. А на озерцах и болотах – вспухшие льды, проступающая неостановимо-темная, пьяная вода; на гривах – захмуревший, замглившийся сейчас лес. И все мякнет, грозится, тает, все пришло в мрачное, сильно выраженное движение.
Нам помогает бульдозер – или мы помогаем бульдозеру? Что-то он, порычав, заглох, стоит где-то себе за мокрым-мокрехонькими и сыплющими тяжкие обвалы воды, коли затронешь их, елками. И бульдозериста, цыгановатого Димки, не слыхать. Уснул, что ли, у себя в кабинке?
А мы поработали, пока задор был, бродя с топорами по чащобе и мелколесью, оставляя за собой расплывающиеся на снегу следы, мелкие, слабые порубки. Но дело сделано.
Как смогли, запалили костер. И пока горит он, шатко, ненадежно горит, одежда наша парит, но не просыхает. Дым от костра накрывает нас шапкой, никуда не уходит, – пригнетают его низкие, цепляющиеся за вершины елок облака, вернее, облачная муть.
Рассказал приткнувшимся у костра, что нашел сейчас в лесу колючую проволоку, закрепленную по деревьям, ржавую проволоку, которой поначалу испугался: почудилось за ней нечто, чего необходимо бояться, – иные дни, призраки людей, не сами люди.
– Старая проволока? – переспросил Жуков, подняв лицо напротив меня, через костер, и вглядываясь сквозь огонь, густо летящие искры, судорожно поваливающий дым. – Если старая, то уж, точно говорю, от тех времен осталась…
И начался у нас общий разговор откровенный, хотя нет-нет да и с оглядкой на стоящий вокруг в сырой мгле лес, точно нас мог подслушать кто-то – уж не из той ли массы людей, что когда-то жили здесь в землянках при стройке своей, при канале!… И чье дыхание, чей взгляд мы словно могли слышать, чувствовать… за толщей времени… за толщей… Разговор этот был долгий, в ожидании машин, которые должны были пройти – а все не шли! – и которых мы должны были обеспечить дорогой проходимой, верной.
Так что пошли потом речи по иному кругу: о волках, медведях, о глухоманной, заманной здешней стороне. И о жеребце Зоряне, охранявшем табун рыбацких лошадей; и о том, как медведь вспрыгнул на спину лошади, о безумной скачке ее с медведем на спине через кладбище, о выдранном медведем кресте; о том, как влетела лошадь в село. («Ты представь, представь медведя-то с крестом – верхом!») И как женщины с испугу по огородам, по огородам («А иные на карачках, ах-ха-ха-а!»)..
Уже вместе с дождем посыпал липкий снег, и погас костер, уже мы не просто промокли, а вода давно струилась по нашим хребтам, когда заворчало за деревьями – там ожил бульдозер; послышался посторонний гул – пошли тяжелые машины; и фары шарили то близко, то далеко, выхватывали наши онемевшие, ослепшие на миг лица. А моментами и несчастные лица!
И назавтра были дорога, болота, лес, топоры, трелевка лесин вручную, машины, надрывавшиеся в непроезжих колеях. И тут же канал, зона затопления, старые баржи, затянутые, заплывшие песком да моренной глинкой.
Нашел я в те дни в голубоватом слое грунта – бездушного грунта! – на некоей глубине штыковую лопату, источенную ржавчиной многих десятилетий, непомерно громоздкую. И долго после помнил, что и как думал при этом, как прикасался к железу, взвешивал в руках его тяжесть и, отбрасывая, прощался с ним.
Смерть надо еще заслужить
Открой форточку и услышишь голос человека на поселковой улице, отражаемый от стен, звучащий с усилением и глубиной, низкий и сильный голос. Рядом с ним – детский, вторящий ему. В соседстве этих двух голосов, в двуединстве их – вся глубина апрельской ночи. Не Чернопятов ли это с кем-то из Казачкиных мальчишек?
Если Чернопятов, то – «Что же ты, Чернопятов?» – слова эти вместе со мной готова, кажется, прокричать и сама апрельская ночь!.. О Казачке Нине мы промолчим вместе с ночью…
Висел сегодня на монтажном поясе над ревущей, смертной, если сорвешься, водой; ноги – на площадке в две человеческие ступни, только и уместились. А ведь надо еще и работу работать! И вот то грудью, то животом давишь, давишь на отбойный молоток, вывесив себя на цепи страховочной, вырубаешь дикое мясо лишнего бетона. Кто-то ошибся, а уж ты ошибиться не должен. Это и называется опасной работой.
Подошел бригадир Лешка Голованов – поверху. Поглядел, покраснел и вспотел даже: забеспокоился.
– Смотри, Люляев! Пояс хорошо держит?
– Должен держать.
– Должен-то должен… Ты одной-то рукой страхуйся вот здесь, страхуйся!
Если так, как он советует, за верх бетонный придерживаться, то ничего толком не вырубишь. Придется уж по-своему, как приладился.
Все же, пока бригадир стоит над душой, больше вперехват руками работаешь, дотягиваешься: тоже надо и бригадира уважить. Ведь и Голованов тебе дурного не посоветует, если разобраться. Хоть он и не ровня Артюшину, например. У того – удачливость, бойкость.
Бетон подается скупо, но все же подается. Опасность веселит сердце – это не придумано. «Вот, – думаешь, – погибельное дело. И куда сунулся, куда? Ан ничего, обопремся, да хоть бы и о самый воздух, осилим!» Игра духа над бездной. И вся жизнь твоя кажется в этот миг тебе, как вот звенья монтажной цепи. И чья-то жизнь от твоей зависит.








