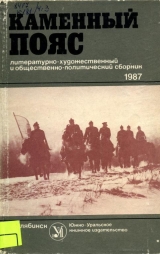
Текст книги "Каменный пояс, 1987"
Автор книги: Лидия Гальцева
Соавторы: Николай Терешко,Василий Еловских,Александр Павлов,Юрий Зыков,Геннадий Суздалев,Василий Пропалов,Владилен Машковцев,Александр Петрин,Сергей Бойцов,Сергей Коночкин
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
* * *
После юности шумной, пылкой,
солнце тихо вползло в зенит.
Стариной тряхну, как копилкой,
и послушаю – не звенит.
Бестолковый и бессловесный,
бывший мною, любил сильней.
Был отчетливей свод небесный,
и речная вода – синей.
Но желать не могу возврата
к тем годам, где гадал о том,
что случится со мной когда-то, —
все случилось в свой срок, потом.
В газетенке, где объявления,
напечатаюсь в пару строк:
«Обменяю свои волненья
на покой…» Да всему свой срок.
Реки синие почернели,
листопадный промчался пал.
И внезапный, как печенеги,
снег с неясных небес упал.
Снег за окном – как белая полива.
Мороз-гончар все в печь свою составил.
А яблоня, как скомканная лира,
дрожит, колдует, чтобы снег растаял.
Дикарка, и породою, и нравом,
нашептывает стенам и карнизам,
разжалобила крышу, ту, что справа, —
весь двор теперь сосульками унизан.
Не тот ли отзвук яблоневой смуты
я узнаю, когда, пальто снимая,
ты спрашиваешь взглядом: «Почему ты
не обратил январь в начало мая?»
Сергей Жмакин
МАТЬ
Рассказ
Молодой фотокорреспондент областной газеты Юра Костромин возвращался из командировки.
Предъявив контролеру билет, он вошел в «Икарус» и занял свое место у окна, с привычной заботливостью устроив кофр с фотоаппаратами возле ног. Ехать предстояло более двух часов, и Юра уже заранее предвкушал, как вздремнет в удобном кресле комфортабельного автобуса. Сегодня он проснулся ни свет ни заря. Редакции потребовался фоторепортаж о весеннем бороновании, и ранним утром Юра одиноко потопал по пустым, холодным улицам на вокзал, чтобы первой электричкой отбыть в отдаленный район.
У тракториста, которого Костромин снимал, было открытое, улыбчивое лицо. Юра любил такие лица.
Пассажиры заняли места, автобус мягко тронулся и покатил. Костромин нажал кнопку, вделанную в подлокотник, и спинка кресла отщелкнулась назад. Юра глядел в окно, где мелькали окраинные дома районного центра, и им владело блаженное состояние расслабленности и покоя.
Автобус вывернул на шоссе, набрал скорость. По краям дороги чернели влажные поля, еще не вобравшие в себя досуха растаявший снег. Апрельскому солнцу мешали облака, но оно пробилось сквозь них, и на Юру упал яркий луч. Костромин закрыл глаза. Негромко и ровно гудел мотор. Юра задремал, ощущая кожей весеннее тепло.
Кто-то коснулся его руки, он очнулся.
– Че ли разбудила я тебя, парень? На-ко вон фуражку, а то упала, – услышал он женский голос.
– Спасибо. – Костромин взял свою кожаную кепку, соскользнувшую с колена.
Рядом с ним сидела женщина, по виду деревенская.
– Ты, случаем, не сын Николаю Михайлычу? – спросила женщина.
– Какому?
– Ну, на вокзале-то вместе стояли…
– А, нет, – ответил Костромин. На автовокзале его провожал работник райкома.
– Ха-а-роший мужчина. Дельный такой. У людей он сильно в почете, – сказала женщина. – А я думала… Вы вроде как похожи.
– Нет, – сухо повторил Юра и отвернулся к окну. Ему не понравилось, что его разбудили.
Автобус несся вдоль степного озера. Оно сливалось вдали с белыми, как молоко, облаками, и нужно было прищуриться, чтобы увидеть в разлитом просторе тонкую нить другого берега. Ветер гнал по озеру мелкую рябь, теребил заросли сухого камыша. Кое-где в воде мелькали грязные куски льда.
Юру опять потянуло в сон. Он сложил на груди руки и склонил на них голову.
– Вот и перезимовали зиму-то, – сказала женщина. – Ох и долгонькой она показалась, не дай-то бог.
«Что ты будешь делать, – раздраженно подумал Юра. – Какой болтливый народ, эти женщины!»
Он зашевелился в кресле, как бы устраиваясь поудобней, и даже сонно причмокнул губами.
– А как зимовали? – тихо продолжала, словно жалуясь, женщина. – Кормов, конечно, маловато было, но ежели беречь да не транжирить попусту, сдюжить можно. У других, говорят, коровушки еще пуще голодали, какое уж там молоко. А наш колхоз – ничего, план выполняет. Одна вот беда. Ферма наша уж больно далеко от села, километров за пять. А транспорту нету. Раньше на дойку хоть в кузове возили, а теперь и в мороз, и в грязь – все одно пешком. Машина, говорят, сломана. А по весне дорога-то на ферму хуже болота…
Она вздохнула и замолчала.
Юра живо представил женщин, с трудом пробирающихся по глубокой грязи: чавкают в густой холодной жиже резиновые сапоги, слезятся от ветра глаза, руки зябко спрятаны в карманы фуфаек.
Юра не выдержал:
– Почему у вас ферма-то так далеко? – грубовато спросил он. – Что за ферма такая?
– Дак когда ее строили, так тогда рядышком деревня жила, – охотно отвечала попутчица. – А теперь деревня оскудела людьми-то, старики да старухи остались, робить некому, вот мы и бегаем туды-сюды…
– Ну, а председатель ваш, куда смотрит?
– Жаловались бабы ему. Потерпите, говорит, автобус вскорости, мол, должны получить. Вот уж год и терпим. Утром ранехонько надо и со своей скотиной управиться, и на дойку поспеть. Вечером опять бежишь…
– Но это же непорядок, – сказал Костромин. – Если ваше начальство не хочет о вас позаботиться, то пишите жалобу. Куда-нибудь повыше. Сейчас на письма и жалобы трудящихся обращают большое внимание.
– Жалобу? Да ну!… – махнула рукой женщина. – Нас потом свои же и запозорят. Клавдия, помню, написала в газету, что кормораздатчик не ремонтируют, так люди на нее потом пальцем показывали. Она, бедная, не знала куда от стыда деваться.
– А кормораздатчик починили?
– Сразу же. Но получилось-то как… Бригадир говорил, мол, и без жалобы отремонтировали бы, ждали какую-то запчасть. Клавдия и окажись виноватой: шум подняла, колхоз запозорила. Ее же и костерили потом на чем свет стоит. Ой, стыдобушка-то! Уж лучше потерпеть да промолчать.
– Вот так каждый боится чего-то, помалкивает, а бесхозяйственность процветает, – с досадой сказал Костромин. – Но за себя-то вы можете постоять? Неужели вам не надоело бегать за столько верст на работу. Вас целый коллектив. Взяли бы и посидели один денек дома. Глядишь, руководство бы ваше и зашевелилось…
– Ой, парень, да ты чего? – тихо воскликнула женщина. – Как дома сидеть? Кто ж доить-то будет?
– Отдохните. Пусть вокруг вас побегают.
– Так молоко ведь испортится. Ты, поди, любишь молочко-то?
– Да, – усмехнулся Юра. – И кефир люблю, и сметану с сахаром. Но я потерплю.
– Ты-то потерпишь, а коровы?
– Что коровы?
– Они же не доены будут. Заревут. Жалко ведь.
– Ну, это другое дело, – пробормотал он и расстегнул куртку.
– Я вот еду сейчас в город-то, а сердце не на месте, – продолжала женщина. – Еле подмену себе нашла, и то уж очень ненадежную. Выпивает подмена-то. Вот беда. И как тут спокойной быть? А вдруг загуляет?
– Да, да, конечно, – сказал Юра. Спать ему расхотелось. Он внимательно и с интересом вгляделся в попутчицу.
Она годилась ему в матери. Нарядный платок сбился на плечи и открыл темно-русые волосы, собранные на затылке в тугой узел. На лице – круглом и курносом, с морщинками под глазами – лежала тень озабоченности и какой-то внутренней боли. Разговаривая с Юрой, женщина все время словно прислушивалась к себе.
– Что же, и больше некому подменить?
– А кто подменит? На ферме рабочих рук не хватает. Это мы, старой закалки, еще держимся, а молодежь на ферму не больно охотно идет, на нашу уж и подавно. Не в почете нынче работать дояркой.
– Почему же не в почете? О вас и в газетах пишут, и зарплату вам добавили.
– Да, пишут… Это верно, – согласилась женщина и вдруг улыбнулась: – Обо мне тоже писали, – сказала она с простодушной гордостью, заливаясь легким румянцем. – Даже показать могу.
Она поставила на колени потертую сумку и стала рыться в ней.
– Где-то здесь она была, газетка-то, – приговаривала женщина. – Взяла с собой. А что? Работает наше звено хорошо, врать не буду. План мы надаиваем, а то и больше. Здесь и фотокарточка напечатана. – Она нашла наконец в сумке районную газету, сложенную в несколько раз, потрепанную на сгибах, развернула. – Вот наше звено.
С небольшой газетной фотографии, плохое качество которой профессионально отметил Костромин, на него глядела группа женщин в белых халатах.
– Где же вы?
– Да вот, – показала женщина пальцем. – Сбоку-то. И фамилия моя даже тут есть, внизу – А. И. Мухина.
– Извините, как ваше имя-отчество?
– Антонина Ивановна.
– Очень приятно. Юра.
– Тоже очень приятно.
Антонина Ивановна было улыбнулась, но что-то помешало ей это сделать. Она опять будто прислушалась к себе. Глубоко вздохнула.
– Так мы работаем, – сказала она с непонятной печалью, аккуратно сложила газету и положила ее обратно в сумку.
– Антонина Ивановна, зря вы думаете, что профессия доярки сейчас не почетна, – сказал Костромин. – Мне кажется, это не так. Я совсем недавно был в одном хозяйстве, там, наоборот, молодежь приживается, а некоторые даже возвращаются из города в родное село.
– Значит, условия есть. Бывала я на таких фермах, возили нас. Что же им не работать, коли на ферме чисто и светло. И пешком не бегать – отвезут, привезут. Отдоилась и – домой. А ежели еще и жилье строят, то молодежь, конечно, остается. А у нас? Иная девчушка придет, увидит, как мы в грязи по колено пурхаемся, понятно, ей не понравится. Женихов у нас мало, молодые сейчас обособленно хотят жить, а где жить-то? Не строят ведь. Вот и уезжают в город…
Она закрыла глаза и медленно навалилась на спинку кресла. Юре послышался сдавленный стон.
– Что с вами? – спросил он.
– Да так, прихватывает иногда, – прошептала Антонина Ивановна, растягивая губы в слабой виноватой улыбке. – Фельдшер говорит, простыла я на сквозняках. Почки, мол, застудила. Послала меня в город обследоваться. Поди уж и зря еду. Может, само пройдет, а я вон работу бросила. Бабам-то трудно будет без меня.
– Знаете, у меня есть анальгин, – сказал Юра. – Я таблетку на зуб кладу, когда он сильно ноет. Возьмите пару штук, хоть на время, да полегчает.
– Нет, нет, – отказалась Антонина Ивановна. – Сроду их не пивала и потому всегда здорова была. Спасибо тебе, родненький.
За окном мелькали березы. Обнаженные, они еще не отогрелись от зимних холодов и сливались с серыми пятнами снега, разбросанными по лесу. На бесцветном березовом фоне ярко и свежо зеленели, словно умытые дождем, сосновые посадки. Проплывали высокие сосны на песчаных буграх вдоль шоссе. Всякий раз, когда Костромин ехал по этой дороге, у него появлялось странное желание запомнить какое-нибудь дерево, и он запоминал, но потом, проезжая здесь вновь, не мог его найти. Лес менялся, точно живой.
Юра по привычке выхватил глазами из лесной чащи приметную корявую березу, но тут же забыл о ней.
– Сильно болит? – спросил он.
– Нет, сейчас отпустило, – ответила расслабленно Антонина Ивановна. – Побаливает, конечно, но не так. Ничего, я терпеливая.
– Вас кто-то будет встречать?
– На вокзале-то? А как же. Куда я одна? Я и города-то не знаю, заблужусь. Родственница у меня там живет. Я ей телеграмму послала. У нее и остановлюсь на первых порах.
Когда приехали, Юра вынес из автобуса увесистый баул Антонины Ивановны (с гостинцами, как пояснила она), дотащил его до дверей автовокзала.
Антонина Ивановна ищуще глядела по сторонам.
– Че-то нету ее, родственницы-то моей.
– Вы подождите, она, может, просто опаздывает, – сказал Костромин. – Ну, а я побежал. Давайте выздоравливайте и больше не болейте.
– Спасибо, сынок. Дай бог и тебе здоровья.
На пути к остановке Юра заскочил в кафе и с удовольствием выпил бутылку свежего кефира. Потом он стал ждать троллейбус, которого долго не было. Наконец троллейбус подошел, но Юра не поехал. Чувство какой-то вины тревожило его. Еще один троллейбус подкатил, но Костромин остался на остановке.
Он повернулся и двинул обратно к автовокзалу. Антонина Ивановна шла ему навстречу, приседая под тяжестью баула и сумки.
– Нету че-то ее, – растерянно говорила она.
Юра подхватил ее вещи.
– Вы знаете, где она живет? – спросил он.
– Не знаю, но адрес-то у меня есть. На-ко глянь, а то я без очков не увижу, – сказала Антонина Ивановна, протягивая Костромину клочок бумаги с записанным адресом.
В это время Юру окликнули. Он оглянулся и увидел невдалеке «уазик» телевизионщиков. Юре махали.
– Сейчас, – обрадованно кивнул он.
Родственница Антонины Ивановны жила на другом конце города. «У черта на куличках», – подумал Юра.
– Ждите троллейбус, «пятерку», – торопливо сказал Костромин. – Езжайте до конечной, а там спросите. Всего вам доброго.
Они попрощались еще раз, и Юра побежал к машине.
«Почему я? Почему именно я? У меня самого дел по горло», – думал он, злясь неизвестно на кого.
Кивнув знакомому кинооператору, он залез в «уазик». Водителя где-то не было. Ждали, болтая о разном. Юра неспокойно поглядывал на остановку, заполненную людьми. Там среди толпы одиноко стояла Антонина Ивановна.
– Послушай, давай прихватим вон ту женщину, – сказал Юра кинооператору.
– Пожалуйста, – ответил тот, покуривая. – Мне все равно. Согласился бы шофер.
Через минуту Антонина Ивановна сидела в машине.
– Неудобно как-то, – шепнула она Юре.
– Да ну, ерунда. Сейчас вас доставим.
Прибежал шофер, сел за руль, с недоумением оглянулся на Антонину Ивановну. Узнав, куда ехать, присвистнул.
– Не могу, – сказал он. – Времени в обрез.
– Выручи, – попросил Костромин. – Надо помочь.
Водитель вышел и поманил Юру к себе.
– Ты что, офонарел? В такую даль тащиться! Меня жена в универмаге ждет, ковер купила, с работы отпросилась.
– Надо помочь, – сказал Юра.
– Вон весь общественный транспорт к ее услугам. Кто она такая, чтобы ее катать?
– Да это мать моя, – сказал Костромин.
Шофер недоверчиво посмотрел на него.
– Мать моя, – повторил Юра.
– Ну, народ! Сразу бы так и говорил. А то мнется чего-то.
Костромин мягко закрыл дверку.
Машина летела по городу.
ПРОЗА
Строки памяти
Иван Мотовилов
МАЛЫЙ ЗАСЛОН
Рассказ
В основу повествования, рассказывающего об одном из эпизодов гражданской войны в Зауралье, положены воспоминания непосредственных участников событий 1918—1919 годов и архивные разыскания автора.
Июньским утром 1918 года из Челябинска в сторону Кургана через станцию Чумляк еле тащился товарный состав. На восточной окраине станции, за мельницей купца Колокольникова, со ступенек паровоза спрыгнули двое. Они укрылись в кустах тальника, заросших камышом, а когда поезд исчез за горизонтом, зашагали на север, к черневшему невдалеке лесу. У березового колка путники потоптались, оглядывая окрестности, и опустились на поляну.
– Даже не верится, что живы, – заговорил русоволосый, свертывая цигарку.
– Да-а-а… – отозвался второй, ложась на землю. – Не было бы счастья, да несчастье помогло.
– Слышь, Павел, поди, и до наших мест беляки добрались? Мне в Челябе верный человек сказывал: в Шумиху эшелон белочехов ушел. Местные богатеи там Совет разогнали. Тут, в Щучье, большевиков арестовали. По деревням шастают, людей хватают…
– А в Челябе-то как? – спросил спутник русоволосого.
– И не говори. Почитай весь Совет кончили: и Васенко, и Колющенко, и Могильникова. И в Кургане, и в Омске беляки хозяйничают. К Шадринску, говорят, направились.
– Да-а-а… Хуже бы надо, да некуда. Что же делать-то будем? Накроют нас, как курей, и в горшок.
– Не накроют. А отпускные зачем? Так и так, мол, больные, на поправку домой.
– Так они же липовые.
– Это, паря, еще доказать надо.
Притихшей встретила в сумерках родная деревня Гнутово солдат Василя Пьянкова и Павла Устьянцева.
Дом Пьянковых прилепился к краю задней улицы. К нему жался пригон с горбатой крышей. Чуть в стороне – амбар в высокой соломенной папахе и сарай. За двором огород уперся плетнем в болотистую низинку. Остальные дворы ни дать ни взять пьянковские. Сермяжная сторона. Небом крыто, светом горожено. Иное дело – передняя улица. На взгорке, за ручьем, – церковь; от нее в два конца расписными карнизами и резными наличниками смотрят весело крестовые и пятистенные дома. Обставлены кирпичными кладовыми, рублеными конюшнями. И все за высокими заборами и тесовыми воротами. Стоят дома, будто грибы-боровики в добрый год – без единой червоточины. По другую сторону ручья, дальше от церкви, дома уже не те, крыши крыты где тесом, где дерном, как и на задней улице. Выделяются только дома из кондовой сосны, с позеленевшими от времени тесовыми крышами, узкими, упрятанными во дворы окнами.
В половодье вешние воды заполняют русло ручья до краев и деревня делится на две половины, соединяемые шатким мостиком. Так и в жизни – глубокая борозда всегда разделяла здешнюю общину. Сейчас нити, скрепляющие ее, натянулись, стали рваться.
В пятистеннике Пьянковых сумрачно и душно. Хозяйка Степанида Васильевна маялась от бессонницы. В голове – невеселые мысли, от которых тело покрывалось холодным, липким потом. Три сына Степаниды пропадали где-то – вначале на германской, а теперь на гражданской войне. Материнское сердце изболелось, не давало покоя. Боялась за четвертого, который пока спал в горнице с молодой женой.
Стук в окно заставил Степаниду вздрогнуть. Она перекрестилась, босая прокралась по холодному поду к окну, охнула и осела на лавку.
– Василий!
С минуту сидела молча, словно раздумывая, а потом запричитала. Душная изба ожила, задвигались тени.
– Ну, что заголосила? – цыкнул на нее муж Терентий.
Пелагея, молодая сноха, тормошила свекровь за плечи и испуганно спрашивала:
– Мамонька, что с тобой? Мамонька…
Муж ее, Николай, переминаясь, стоял тут же.
– Василий!.. Там… Во дворе… – выговорила Степанида и запричитала пуще прежнего.
Терентий зажег коптилку. Пламя дернулось и выпрямилось, выхватив из мрака перепуганные лица. Беззлобно сказал:
– Ну хватит, не на похоронах.
* * *
Утром Терентий и сыновья еще спали, как на церковной колокольне ударил набат.
– Ох, матушки, горим, че ли? – засуетилась в кути Степанида. – Мужики, вставайте!
Терентий выскочил во двор, услышал голос десятника: «На сходку!»
На церковном крыльце – староста Прокуров и писарь Бобин. Ближе к ним – Иван Ячменев и кучка зажиточных мужиков. Дом Ячменева напротив церкви. Двенадцать разрисованных окон выставились в улицу. Рядом – кирпичные магазин и кладовая.
У церкви с трех сторон мужики. Староста поднял руку и, когда толпа притихла, наспех перекрестил лоб, хриплым голосом заговорил:
– Слава богу, православные, кончилось комиссародержавие. Вчерась в волость бумага пришла. Своими глазами видел. Теперь наша народная власть будет. Велено мне и вот писарю опять справлять службу. А всякие там ревкомы и Советы распущены.
Староста помялся, словно вспоминая что-то, и продолжал:
– А казенные земли, граждане, и земли состоятельных мужиков, машины там, другое добро вернуть надо законным хозяевам. Чтобы, тово, по доброй воле, без скандалов… Ишо, граждане, власти обращаются к миру: постоять надо за народную власть, значит, тово, без канители – добровольцами. Писарь вот запишет.
– Откуда такая хорошая власть взялась? – выкрикнули из толпы.
– Оттуда! Тебя не спросили. Где они, комиссары твои? – зашумели из кружка Ячменева. – Сбегли! Нашкодили тут, псы шелудивые. Жили добрые люди, а оне, мать твою… выискались на готовенькое.
– Сами-то псы! – кричали из толпы. – Землю верни! А ежели я ее засеял?
– Граждане! Граждане! Мужики! – пытался потушить перепалку староста. Но голос его гас, как спичка на ветру.
Василий Пьянков порывался вступить в спор, но отец умоляюще просил:
– Васька, не лезь! Не наше дело.
Его поддерживал Павел Устьянцев:
– Разберутся! – И шептал: – Нам ишо, тово, документики…
Согласия на сходке не получилось. Шумная толпа стала оседать, будто сугроб на апрельском солнце. Потекли мужицкие ручейки каждый в свою сторону.
– Граждане! Не расходитесь! Помолимся господу богу по такому случаю, – уговаривал староста.
Василий с Павлом остались. После благодарственного молебна во славу освобождения от ига комиссародержавия они подошли к старосте с писарем. Документы солдат, по мнению сельских властей, были в порядке. В них значилось: служили в белогвардейском полку, отпущены по болезни до выздоровления. Староста наставлял:
– Всяких тут горлопанов не слушайте. Советам – крышка. Поправитесь – хоть в свой полк, хоть в дружину. В каждой волости велено такие создать.
По пути со сходки Василий с Павлом завернули к братьям Толстиковым. Те в разговоре держались непонятно какой стороны.
– Советская власть – она для мужиков ладная: и землю по справедливости, и все такое, – тянул старший из братьев, Петр. – И войну. С немцами замирение вышло. Но опять же хлеб ей подай, то, се. Говорят, города кормить. Голод там. Надо, не спорю. А мужику что? Шиш. Да рази всех-то, братец мой, прокормишь? А эти, вишь, опять свое гнут. Поди тут разберись. А по мне так. Ежли ты власть – дай мужику жить.
– Этот от Ячменева недалеко ушел, ему свое пузо дороже всего, – сказал Василий, когда они с Павлом вышли от Толстиковых. – Зайдем к Уфимцеву Федору.
Доверяли они Федору во всем, знали – не выдаст. Рассказали о службе в Красной гвардии, о неудачном бое под Челябинском, после которого попали в белогвардейский плен. На их счастье, караульный солдат оказался своим человеком, хотя и был из казаков. Вместе и бежали. У казака нашлись бланки отпускных удостоверений с печатями. Был он родом из Кочердыка станицы Усть-Уйской, но подался в Троицк, где его земляк Николай Томин, по слухам, был начальником штаба охраны города от дутовских и белочешских банд.
– Я вчерась в Верхней Тече был, – рассказывал Федор. – Мать в больницу возил. Там красногвардейский отряд создали. Анчугов командиром. Вместе мы на флоте служили. Мужик боевой. Долго беляки не продержатся, сказал. В Катайске и Далматове полк красных формируется. В Песчанке, в Николаевке наши мужики попрятались от беляков. Выжидают. Пока держитесь. Думать будем, что делать дальше.
* * *
Вскоре Василий Пьянков и Федор Уфимцев поехали в Шумиху на базар. Хотелось узнать, что там делается.
На полях зеленела рожь, проклюнулись всходы яровых. По обочинам дороги поднималось разнотравье.
У села Каменного, в пяти километрах от Шумихи, повстречали верховых. Было их трое на заседланных конях.
– Стой! Кто такие? – крикнул красномордый детина в офицерском френче. – Куда навострились?
– На базар, ваше благородие, лошаденок купить, – ответил Федор. – Гнутовские мы, Николаевской волости.
– Ну-ну, смотрите у меня… Если что, на первой осине вздерну. Шляются тут…
Базар был многолюдным. Посевная закончилась, сенокос еще впереди – можно передохнуть. Покупать и продавать особенно нечего, а почесать языки, узнать новости каждому хочется. Новостей же хоть отбавляй. От каждой – мурашки по телу.
– Разговор сейчас короткий. Раз – и к стенке, а то веревку на шею, – слышалось из кружка мужиков. Федор с Василием прислушивались. Харламов с Сучковым тут верховодят. Все купеческие лабазы арестованными забиты. А сынок Сучкова, поручик, атаманит в отряде. Ох и лютый, стерва, весь в папашу. Каждый день по округе шарят – коммунистов ищут. Мало им кровушки.
– Вы че терпите? Дали бы шору, – вмешался в разговор Василий.
– Поди-ка дай, ежели прыткий. Ни оружия, ни патронов. А чехи им и пулеметы, и винтовки, и патронов сколько хошь. Опять же наши подлецы мужиков грабят. Заодно, стервы. Рука руку моет…
Зычные голоса верховых молодцов из отряда Сучкова прервали беседу, базарный гомон стал затихать.
– Слуша-а-ай! Слуша-а-ай! – неслись над притихшим базаром голоса. – Все на казнь антихристов и германских шпионов!
– Ведут? Веду-ут! – закричали с разных концов базара. Мужики сгрудились у кромки базарной площади, повскакивали на возки и телеги. Стало тихо. Только разносились барабанная дробь, цоканье копыт и топот солдатских сапог. Мимо базарной площади под усиленной охраной вели двух мужиков.
Базар оцепили белогвардейцы и белочехи, выталкивали людей на дорогу следовать за печальным шествием. Федор остался сторожить упряжку, Василий двинулся с толпой. Пока шли до колка за железнодорожными путями, сосед рассказывал:
– Жаль мужиков. Повыше-то – Иван Григорьевич Морозов, заместитель Коваленко. Сам-то Коваленко, председатель райсовдепа, с отрядом красногвардейцев на Челябу пошел. А как узнали, что беляки там, с Медведского повернули на Екатеринбург. Где они теперь – бог знает. А второй – Александр Федорович Тутынин. Секретарем в совдепе был.
На опушке леска остановились. Арестованным развязали руки. Их окружили белогвардейцы и белочехи. Председатель белогвардейской чрезвычайной следственной комиссии Лукин зачитал приговор: повесить, как распоследних негодяев и изменников родины.
Морозов с Тутыниным, выслушав приговор, прощально посмотрели друг другу в лицо. Затем Морозов дернулся, будто сбрасывал груз с плеч, выпрямился и крикнул:
– Товарищи! Мы умираем за лучшую долю, за нашу народную власть…
– На том свете черт тебе товарищ, – прошипел скотопромышленник Степанов и ударил Морозова плетью. – Бей его, гада!
К Морозову подскочили охранники, сбили с ног. Толпа сжалась, глухо зароптала, послышались всхлипывания баб.
– Давай скорей! Чего рты раззявили! – заорал на охранников Сучков.
Охрана засуетилась, и вскоре арестованные уже висели на осинах.
Василий с Федором выехали домой.
– Ну, Федор, дай бог убраться по добру, по здорову, – печально сказал Василий. – Нечего сказать, побазарничали…
При выезде – снова встретили верховых, тех самых, с которыми повстречались на первом пути. Впереди устало шагали пять мужиков со связанными руками. Сзади постукивали колесами три груженых телеги.
– Грабят, вешают без суда, – сказал Василий. – Ох и житуха, Федор.
Федор долго молчал. Уже когда подъезжали к своей деревне, сказал:
– Ты как знаешь, Василий, а я подамся в Верхнюю Течу, к Анчугову.
* * *
После сходки притихло Гнутово. Но это была обманчивая тишина. Все жили в напряжении, томительном ожидании. Деревня походила на пересохший стог сена: поднеси огоньку – заполыхает.
Как-то под вечер к Федору Уфимцеву приехал из деревни Чудняково Алексей Павлович Мотовилов. Алексей с Федором дружили, были дальними родственниками. Пригласили Василия Пьянкова и братьев Толстиковых.
Мотовилов состоял в партии большевиков, хотя об этом мало кто знал. После разгрома белочехами Челябинского горкома и Совета, казни их руководителей Челябинская партийная организация ушла в подполье. Подпольщики установили связи с оставшимися на свободе коммунистами, готовились к созданию подпольного горкома. У Алексея Павловича сохранились связи с Соней Кривой, бывшим работником горкома. Он только что вернулся из Челябинска, знал о положении в Уральской области и в стране.
Жаркий июльский день подходил к концу. Мужики разместились в завозне [1]1
Завозня – вид надворной постройки.
[Закрыть], где было попрохладней, пахло свежими вениками. Сидели за столом, на котором стояла кое-какая закуска, шипел самовар.
Алексей Павлович рассказывал. Мужики слушали, запивали худые вести чаем, заваренным из трав. Положение республики было отчаянное. В Челябинске, Кургане, Омске хозяйничают белочехи. В начале июня Дутов овладел Оренбургом, интервенты захватили Уфу. Железнодорожная магистраль от Волги до Иркутска с прилегающими районами – в руках контрреволюции. В Москве подняли мятеж левые эсеры, белогвардейцы – в Ярославле. Главнокомандующий Восточным фронтом левый эсер Муравьев с группой приближенных изменил революции. С юга республике угрожают беляки, с запада – немцы, с севера – англичане. Москва и Петроград – на голодном пайке.
Но выстоять надо. В промышленных центрах спешно формируются пролетарские полки и отряды – рождается Красная Армия.
– Совет Народных Комиссаров, – неторопливо говорил Мотовилов, – обратился ко всему трудовому народу. Призывает нас громить белогвардейские банды. Сам товарищ Ленин обращение подписал. Своими глазами газетку у Сони Кривой видел. Определяться нам надо.
– Не раз судили, – заговорили мужики. – Ячменевские дружки вон в белогвардейскую дружину подались.
– Я в Верхнюю Течу к Анчугову в отряд надумал, – сказал Федор Уфимцев. – А Павел Устьянцев к Томину в Троицк ушел. Да слышал я, будто беляки захватили Троицк?
– Захватили. Недели три уже прошло, – ответил Мотовилов. – Но Томин увел отряд в Белорецкий завод, к Блюхеру. Там целая партизанская армия. А ты, Василий, куда надумал? – спросил он Пьянкова.
– А куда торопиться? – ответил за него Петр Толстиков. – Не шибко ласкала нас Советская власть. Больше о батраках пеклась. Богатеев, конечно, прижали. А куда нам, середине, податься? Ума не приложу.
Толстиков явно ждал ответа. Пьянков сидел, опустив голову. Уфимцев выжидал, что скажет в ответ Мотовилов.
– Местные головотяпы тут напутали, – Алексей Павлович наклонился к Толстикову. – У Ленина сказано: «Союз рабочего класса с крестьянством».
– С беднейшим крестьянством, – поправил его Пьянков. – Сам же мне программу читал, Алексей Павлович.
– Выходит, мы ни богу свечка, ни черту кочерга, – со злорадством сказал Толстиков.
Засиделись. На все доводы Мотовилова Петр Толстиков высказывал свои. Остальные больше молчали. Когда совсем свечерело, ушли Толстиковы. Засобирался домой Мотовилов.
Пьянков в ту ночь долго не мог заснуть. Тягучие думы набегали одна на другую. «Может, уйти все же с Федором в Верхнюю Течу? – роились мысли. – Уйдешь. А как вернешься? Советам-то и впрямь крышка. Сила-то у беляков вон какая. Да и Дашутка тут».
* * *
Отряд Анчугова, 282 пехотинца и 25 кавалеристов, влился в 4-й Уральский полк в Далматово. Состоял полк из добровольцев-рабочих, вернувшихся с фронта солдат, военнопленных венгров. Взводом слушателей курсов советских землемеров командовал учитель из Верхней Течи Шумилов [2]2
Впоследствии видный советский военачальник, герой Отечественной войны генерал-полковник М. С. Шумилов.
[Закрыть].
После неудавшегося наступления на Шадринск, в котором Уфимцеву пулей легко задело левое плечо, командиром полка избрали Анчугова. Главный бой за Далматово полк принял 11 июля. Вначале белогвардейцы чуть не овладели вокзалом, но когда командование ввело в бой резервы, атаку отбили. Это была первая победа, хотя полк и понес потери: ранен Анчугов, убит его заместитель Харитонов. Но победа эта не могла изменить общей обстановки на фронте. Белогвардейцы и чехи наступали на всех направлениях, все туже стягивали кольцо вокруг Екатеринбурга. В самом городе монархическое подполье готовило нападение на дом Ипатьева, где находился под охраной бывший император Николай II с семьей.
* * *
Вставать Василию не хотелось. А голос матери не давал покоя:
– Вась, вставай, светает. Поди посмотри скотину, управься, не могу что-то я, поясницу переломило.
Василий сладко потянулся, открыл глаза. В окна пробивался новый день. В его сумеречном свете, казалось, остановилась жизнь, от которой ждал многого. «Остаешься хозяином». Вспомнил прощальные слова отца. Как-то сразу унесло сон, и он прыгнул с полатей, быстро оделся и тихонько прикрыл за собой дверь.
За ночь подморозило. Ледяная корочка лопалась под ногами. Из далекой высоты задорно подмигивали звезды.









