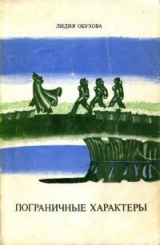
Текст книги "Пограничные характеры"
Автор книги: Лидия Обухова
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Потом мы пошли к башне, он отомкнул ее, и винтовая свежеокрашенная узорчатая лестница повела нас наверх. Выше, выше. На одной площадке я попросила остановиться, чтобы отдохнуть. Наконец отвесный трап в несколько ступеней, и вот она, предмет отроческих мечтаний, – круглая стеклянная башня, откуда видно сразу все: море, корабли, горы, порт.
Незрячий сейчас глаз маяка таинственно отсвечивал ребристым стеклом. Смотритель отвинтил красную прозрачную крышку. Внутри на зеркальном фоне возвышалась единственная лампа, не очень даже крупная. Раз в пять меньше, чем рисовалась когда-то моему детскому воображению.
– Киловатка, – небрежно махнув рукой, отозвался смотритель.
– Как у вас все блестит, будто на боевом корабле, – польстил ему Донат Африканович, поглядывая на медные бляхи.
Тот не упустил случая:
– Разве это блеск! Вот при старой оптике у меня действительно все было надраено. Сейчас руки не лежат. Нет, не лежат.
Ах, с какой неохотой я спускалась по девяносто одной ступеньке вниз и все твердила, что приду еще раз, сегодня же вечером, когда маяк будут зажигать. Но вечером мы возвращались, когда маяк уже горел. Море было совсем розовым; узкие люминесцентные фонари на приморском бульваре светились на его фоне, как арктические льдинки – вот-вот растают!
А маяк трудолюбиво вертел красной головой, и далеко ли, близко ли – моряки с надеждой ловили в туманном море его мерцающую искру.
ГОРЫ И МОРЕ
Чорох, про который написано столько стихов, – река коварная, злая. Даже ехидная – так о ней говорят здесь. Она течет в довольно глубоком, особенно когда подъезжаешь к Аджарис-Цхали, ущелье. Вначале ложе Чороха широко – это целые поля в крупной гальке. Они холодно блестят на солнце.
Сейчас тихий, спокойный период: дождей нет, снег крепко держится на горах. Мутно-серый Чорох течет одним рукавом, его мелкие волны похожи на зябкую дрожь. Левый берег лежит в глубокой тени, по правому вьется узкая ленточка дороги, и пятнистые скалы «потеют» на солнце: верховые и родниковые воды сочатся из расщелины. Горы сейчас голые, рыжие, деревья не одеты. Лишь кое-где из скалы тянутся первые голубые фиалки.
Места уже не сравнить с батумским побережьем – здесь холоднее и суровее. Старики аджарцы в Нижних Чхотунетах ходят, обвязав голову шерстяными платками, но не по-бабьи, под подбородком, а с узлом на виске или макушке.
Исчезли эвкалипты, пальмы; кипарисы есть и тут, хотя больше уже каштана, ореха, лавровишни. Чем выше в горы, тем узкая теснина притока Чороха реки Мачехел-Цхали становится все суровее. Вот уже и снег лежит на камнях. Он пушистый, очень белый.
С вершин низвергаются узкие шумные водопады. Весной они превращаются в свирепые потоки, но и сейчас крутят крошечные мельнички с одной обледенелой лопастью.
Это – граница. Верховые лошади ждут пограничников, чтоб поднять еще выше, где у непривычного человека закладывает от высоты уши.
Дорога от Батуми к Сарпи идет тоже по горному шоссе, но глубоко внизу открывается прекрасный вид на тихое голубеющее под утренним солнцем море, на игрушечные домики селений и крошечные пароходики – то есть все выглядит почти так, как изображено на рельефной карте в штабе отряда. Только, разумеется, ни одна схема не может передать чистого и холодного в тени горы воздуха; трепетанья вспугнутого машиной вальдшнепа, который, до этого не видимый нами, сорвался вдруг со скалы; внимательного взгляда пограничника у «грибка», охраняющего первый подступ к заставе. Едва что-нибудь вызывает подозрение – звонок к начальнику заставы.
Трубка полевого телефона постоянно начеку не только в канцелярии, но и в доме начальника заставы: гудки низких и высоких тонов отрывают его от еды, сокращают и без того прерывистый сон.
Начальник заставы капитан Алексей Чхартишвили – еще молодой человек, но уже бывалый пограничник. До этого он служил на горных заставах. Что это такое, начинаешь представлять себе, и то в очень малой мере, лишь после многочисленных рассказов жены капитана.
Начать с того, как поднималась она, городская женщина, к месту службы своего мужа. Колесный транспорт отказал очень скоро; вещи навьючили на горных лошадок; она тоже впервые в жизни села в седло. И началось восхождение! Сначала под обжигающим горным солнцем, потом сквозь холодный туман низко спустившихся облаков. Под копытами лошадей то и дело возникали осыпи, скатывались камни. Чем выше – тем чаще проваливались в глубокий снег; подковы скользили по льду.
А когда заболел двухмесячный Юрка, целые недели лечение шло по радио: ни с ним спуститься, ни врачу подняться к заставе в это время года было невозможно. Алла Николаевна до сих пор добрым словом вспоминает солдата, студента-медика, который в конце концов вылечил ребенка. Пришлось ему прибегнуть к народной фармакопее; собирать корни горных растений, сушить и растирать кору. «У него талант к медицине. Удивительный парень! Такие огромные ручищи, а так ловко, аккуратно ими все делает. Кончит службу, вернется в институт – прекрасным врачом станет».
Застава в горах – мир, совершенно отдельный от всего оставшегося внизу человечества. Не только люди чувствуют себя единой семьей, но и дикие звери, гнездящиеся поблизости птицы – все невольно очеловечивается в сознании маленькой группки, становится значительным, составляет постоянный интерес жизни. Так шел долгий поединок между людьми и одним коварным шакалом; он не только бродил вокруг заставы со своими собратьями, скуля и всхлипывая, но дерзко проникал в кладовую к мясным запасам. Ни капканы, ни умнейшие пограничные собаки не могли его остановить.
Едва привозили паек, этот ворюга неизменно уволакивал свою часть и ехидно хохотал по-шакальи в зарослях.
Шакалы и медведи вообще доставляют пограничникам много хлопот. Часто, не ведая о том, они устраивают ложные тревоги. Но пограничники – хорошие следопыты. Медвежий отпечаток очень похож на человеческий, значит, и человеческий можно подделать под медвежий. Можно-то можно, да не очень! За много лет на заставе не было ни одного безнаказанного перехода.
Любопытно, что когда едешь на границу, то по привычке самым интересным представляются поимки, погони, внезапные разоблачения. А когда попадаешь на заставу, захватывает совсем другое: сам ритм жизни. Очень суровый, очень самоотверженный и, в конечном счете, героический. Причем не от случая к случаю, а каждый день.
Попробуйте поговорить с пограничниками, вы не пожалуетесь, что они скучные собеседники, но не ждите никаких цветистых описаний, рассказов о погонях и поимках. Да, задержания есть, случаются, но это часть работы, а не что-то исключительное, внезапно переворачивающее все вверх дном. Предельно собранная жизнь заставы исключает какой-либо ажиотаж вокруг задержания, даже при самых романтических обстоятельствах. Романтика – приманка для непосвященных! (К слову, один астроном, прочитав как-то мои записки о Крымской обсерватории, укоризненно вздохнул. «Вы пишете про астрономов, как про кибернетиков или поэтов, – сказал он. – Это неверно. Астрономия – занятие скучное и сугубо прозаическое! Поверьте уж мне». Но я ему, конечно, не поверила и пламенно надеюсь, что мои читатели тоже не поверят.)
Итак, что может быть романтичнее, чем ночью, до восхода луны, подняться на пограничную вышку и вместе с часовым следить в окуляр за тугим лучом прожектора? В его свете отчетливо видна каждая мелкая волна. Спящий на воде нырок становится ослепительно-белым; белым, словно серебряным, кажется и рыбачий буй. Даже большой корабль будто выкован из алюминия.
Любой всплеск, мелькнувшая голова или рука самого искусного пловца не могут остаться незамеченными. При последнем задержании так и вышло: прожектористы заметили, сообщили сторожевому катеру, тот вышел наперерез. Вся операция уложилась в считанные минуты.
Подняться на вышку было весьма заманчиво. Хотя, честное слово, не так просто! Лестница отвесная, вроде пожарной, скользкие железные прутья. Такие же и поручни, они абсолютно не создают ощущения устойчивости. Особенно это чувствуется при спуске.
– Знаете, – сказала я начальнику заставы, – сойти я не смогу. Хоть убейте!
Капитан уговаривал меня долго и терпеливо. Так и пришлось сползать, ступенька за ступенькой, глядя только ему в лицо и не рискуя отвести глаза хоть на сантиметр в сторону, – а вдруг снова охватит постыдная боязнь высоты?
На вышке я была недолго, ровно столько, сколько надо для романтического настроения. Но задержись я там подольше, подежурь с часовым, не скажу, ночь, хотя бы пару часов, – и для меня все тоже стало бы работой, строгим поминутным графиком включения и выключения прожектора. Короткими словами команд.
– Турция уже светлеет, – сказал прожекторист. – Луна. А мы пониже, за горой.
Прожекторист стоит в будке с узкой щелью, на нижней доске нанесены градусы, оптическая трубка с двумя окулярами, за поворотами которой механически движется и луч прожектора. Сам прожектор расположен на эстакаде над морем.
Мы пожелали солдату успешной службы и, выйдя на открытую площадку, увидели необыкновенное зрелище. Орион, который с темнотой взошел первым, сейчас побледнел: над горой стояло сияние. Снежные склоны на турецкой стороне в самом, деле уже серебряно блестели, но над советским Сарпи только-только показался край лунного каравая.
Сразу заиграло мелкой чешуей море. Все в округе преобразилось, стало отчетливым и праздничным. Каждая галька превратилась в крупный драгоценный камень.
Мы шли по грохочущим под ногами голубым самоцветам, и хотите верьте, хотите нет, но и при ярчайшем свете луны лишь в двух шагах у подножия второй вышки я заметила дозорного. Он сидел в глубокой тени железной опоры, а Турция от него была, если по-деревенски, так за околицей…
САРПИ СОВЕТСКИЙ И САРПИ ТУРЕЦКИЙ
– Все тихо? – спросила я капитана утром.
– Тихо, – отозвался он, снимая шинель. – Можете записать: еще одна ночь на границе прошла спокойно.
– А если пограничники словят бедных мальчиков, – серьезно сказал четырехлетний Чхартишвили, натягивая штанишки, – бедных мальчиков, которые убегут от капиталистов?
Дело в том, что и такие случаи бывают: измученные долгами и безземельем крестьяне приграничных сел пытаются перейти те несколько метров, которые отделяют их от иной жизни.
В самом деле, Сарпи советский должен представляться Сарпи турецкому землей обетованной.
Это не вопрос агитации, все видно простым глазом: темные лачуги, погруженные в глубокий мрак с наступлением ночи, там, и залитые электричеством великолепные двух– и даже трехэтажные дома колхозников по эту сторону. Тишину турецкого берега нарушает лишь изредка протяжный призыв к молитве мусульманского азанчи с высоты минарета. А здесь шум школы, разноголосый, как птичий садок, по вечерам звуки музыки, далеко летящие над горами из клуба.
– Но минарет все же красивый, – сказала я колхозному бригадиру Али, когда мы стояли с ним утром на эстакаде. Али следил за ходом работ по восстановлению того, что было разрушено недавним штормом.
– Что минарет! – небрежно отозвался Алик. – Бог нужен для людей необразованных. Как жить турецкому аскеру, если он не будет уверен, что ему приготовлено место в раю? Вот он и утешается: умру, тогда поживу!
Али не только отъявленный вольнодумец, но и большой щеголь. На нем нейлоновая стеганая куртка последнего фасона, модные брюки и голубая кепка.
Сарпи советский – очень богатый колхоз!
Рядом со школой выстроено большое здание – здешний административный и культурный центр: в верхнем этаже клуб и магазин, внизу правление колхоза, сельсовет, почтовое отделение.
Все дома в Сарпи карабкаются по горам, и лишь здесь, у самого моря, ровное место. На зимнем солнцепеке старики с утра усаживаются на лавочках, беседуют. Мужчины помоложе – не только парни, а и отцы семейств – азартно гоняют на этом же пятачке футбольный мяч. Страсть эта – всепоглощающа! Даже продавец иногда замыкает магазин и становится в полузащиту. Турки через границу «болеют».
Продавец Мухамед, он же заведующий магазином, человек обходительный и расторопный, привозит товар, которому может позавидовать столичный универмаг.
Вот пришла женщина с гор, за плечами у нее на лямках кадора – конусообразная плетеная корзина. В кадорах носят все: фрукты, белье, даже удобрение для садов. Сейчас ей нужен сахар.
– Какого сорта? – любезно осведомляется Мухамед.
Он помнит, кто из покупателей ждет чешский сервиз, кому нужен холодильник последней марки, кто носит венгерские рубашки. В магазине есть все от парфюмерии до мебели. И не какая-то кустарная заваль, а моднейшие вещи. Мухамед сам раскинет штуку ситца, посоветует, расспросит о желаниях.
Маленькое лазское селение в тридцать пять дворов, колхоз имени Орджоникидзе, живет поистине зажиточной жизнью!
Есть здесь собственный историк – директор школы Али Османович Тандилава, грузный бритоголовый старик, вся жизнь которого связана со здешней школой, сперва начальной, теперь восьмилеткой. Он выпустил книгу в соавторстве с заведующим библиотекой педагогического института в Батуми Мухамедом Ванлеши об истории, происхождении, этнографии и фольклоре лазов. Конечно, авторы отталкивались в основном от обычаев советских лазов. Труд Тандилавы и Ванлеши – первая попытка собрать воедино сведения о маленькой народности.
О границе, разделившей Сарпи на две части, Али Османович рассказывает такую местную легенду.
Граница идет по ручью Кибаш, хотя первоначальной истинной линией должна была быть река Халдиди. Но в 1921 году, когда ставили столбы, турки настаивали на том, что Кибаш – это и есть Халдиди. Советская сторона не соглашалась. Спросили местного старика-лаза: «Как называется этот ручей? Халдиди?» – «Нет, – отвечает. – Халдиди за горой». Турецкий офицер закричал, затопал ногами: «Ты, видно, из ума выжил!» Позвали другого жителя, побогаче на вид. Ему офицер шепнул: «Говори, как я приказываю. Тебе не с советскими жить, а с нами». Тот испугался и подтвердил, что велели.
Ленин, когда ему сообщили о том, что турки уже поставили свой столб и заявили, что скорее умрут, чем сдвинутся с места, велел оставить все, как есть. Молодая Советская страна хотела дружить с соседями.
– Там всегда темно? – спросила я, поглядывая из окна школы на турецкую сторону.
Али Османович развел руками: у них не то что электричества, керосиновых ламп нет! Ведь керосин дорог. Такую роскошь могут позволить себе лишь два человека – староста и купец, что живет на горе. А если еще где горит огонек, значит гость в доме. Сарпи турецкий долго существовал почти при натуральном хозяйстве: посадят кукурузу, рис, овощи, соберут и питаются этим. Сады не приносили дохода. Лишь недавно, глядя на советскую сторону, стали там разводить чай.
В обеих частях горной деревни много родственников. Особенно трагично при похоронах: стараются угадать, кто умер, не родич ли, и оплакивают на всякий случай.
Я листала книгу Али Османовича, и автор переводил мне некоторые песни. Вот одна из них:
«За Исмела я бы не вышла замуж, – поет девушка. —
Но люди вывели меня обманом на дорогу.
Тогда меня убил тот, кого я любила.
Мертвую меня принесли в дом дяди.
Мое подвенечное платье окрасилось кровью.
Отдайте его матери, чтобы она плакала о моей юности».
Исмел говорит: «Пока не отомщу за тебя, я тебя не схороню!»
Но девушка Айша отвечает: «Я его любила, не убивай его!
Я погибла от старых обычаев».
Чем новее песни лазов, тем они жизнерадостнее. Вот какими задорными частушками перебрасываются уже девушка и парень в Сарпи:
Она: – Почему ты стоишь один вечером?
Он: – Если ты подойдешь ко мне, я на тебе женюсь.
Она: – Я не доверяю тебе.
Он: – У тебя очень белое лицо. Наверное, ты напудрилась?
Она: – Все женщины пудрятся, это так же обычно, как коровам есть сено!
Он: – Что у тебя за пазухой? Камушек?
Она: – Ой, не говори так, старые тетки услышат!
Он: – Я не боюсь их. Приходи, и мы поженимся.
ВДОЛЬ ГОРНОГО РУЧЬЯ
Ночью поднялся сильный ветер: крыша и деревья всхрапывали. На море штиль сменился морщинистой рябью, дальше от берега вскипали барашки. Луна светила в полный накал; сине-серебряная вода ярко блестела.
Иногда заливались лаем собаки, наверно, поблизости пробежал мелкий рецидивист – шакал.
На заставе светилось несколько окон. Было видно, как пограничники умываются, собираясь в наряд.
Недавно здешней заставе присвоено имя болгарского пограничника Асена Илиева. Тогда было большое торжество: собралось все селение, приехали представители из отряда и округа, болгарские пограничники. Был митинг, даже маленький парад, играла музыка. «Как на Красной площади!» – восхищенно вспоминают местные жители.
Асен Илиев был младшим сержантом и однажды, неся пограничную службу у горной реки близ высоты Сара Бурун, окликнул трех неизвестных. Они открыли огонь. Пуля попала в автомат Илиева; он отбивался гранатами. Так его и нашли, зажавшим в руке последнюю гранату. Посмертно ему присвоено звание младшего лейтенанта, он награжден орденом «За храбрость».
В Болгарии, в свою очередь, есть именная застава, где чтут память нашего пограничника, начальника заставы Алексея Лопатина. В первые дни войны его бойцы одиннадцать суток держали оборону.
Оборонять заставу, когда не только перед тобой, но и глубоко в тылу уже враги, – героизм отчаянный, беспримерный. Но сколько было тому примеров и сколько осталось безвестных, никем не знаемых, просто пропавших без всяких вестей пограничников сорок первого года, стоявших насмерть на своих рубежах!
Я была на западной границе в первые дни войны. Я знаю.
Иногда кажется странным, что все это еще так близко. Вот лейтенант Кравцов окончил училище вместе с сыном Лопатина. Живут люди, которые помнят героев, служили вместе, о чем-то спорили с ними в свое время. Далекая война явственна в памяти.
– Хорошие у вас ребята? – спросила я начальника заставы.
Он ответил, что конечно! Семеро награждены знаком «Отличный пограничник» и семеро болгарским знаком «Отлични граничар». У многих знак «Отличник Советской Армии».
А ведь это все боевые награды мирного времени.
– Народ у нас весь хороший, – продолжал начальник заставы, – иногда даже трудно кого-нибудь выделить. Вот ефрейтор Костецкий. Человек живой, энергичный, наблюдательный, с огоньком.
– Что значит «с огоньком?» Хорошо служит?
– Хорошо – мало. Отлично!
Мы шли вдоль горного ручья, гремящего подобно водопаду. Шаги наши тоже гремят по обкатанным камням; недавний восьмибалльный шторм занес их высоко – гораздо выше прибойной черты, под самые корни изогнутых старых шелковиц и волосатых пальм.
Мы идем пообочь следовой полосы, вдоль заграждения, по шатким деревянным мосткам. Сухая колючая ежевика создает еще один забор перед последними метрами советской земли. Уже минарет, который так волшебно белел под луной, предстает в солнечном свете обычной узкой башенкой с заостренным концом, по горловине перепоясанной турецким орнаментом; уже видно, как любопытством сверкают черные глаза аскера из-под железной каски, и латинскими буквами написано на щите возле полосатых красно-белых воротец: «ТУРКЕ», – все это на расстоянии нескольких шагов, но земля, на которой мы стоим, – наша! И мы идем спокойно, неторопливо.
По ту сторону Кибаша наступила пора смены караула. Аскеры-сменщики гуськом подошли к аскерам-часовым, раздался нестройный горловой крик, который, как это ни странно, означал обычную воинскую формулу, что-то вроде нашего «Пост сдал, пост принял».
Мне захотелось в странном для нашего уха вскрике разобрать хоть какие-то членораздельные звуки. Но уставной вопль повторился и, честное слово, он, по-моему, мог означать что угодно, только не строгую формулу: «Сдал, принял!» Слушая чужую речь, стоя на последнем метре нашей земли, я вдруг вспомнила любимые стихи детства:
О, убийца героев, Яр-Султан-Озим-Джан!
Больше ты не вернешься в каменный наш Бадахшан.
Больше не переплывешь ты бурной речной воды,
Где, опершись на ружья, стояли я и ты.
Больше уже не прорвутся зарослями арчи,
Подпрыгивая на седлах, черные басмачи.
Не правда ли, настоящие пограничные стихи? Я услышала их впервые, когда не умела еще читать. И вот помню с тех пор, хотя так и не могла отыскать ни в одной хрестоматии. Где они были напечатаны? Кто их автор? Не знаю.
ПОД СЕВЕРНЫМИ НЕБЕСАМИ

НАЧАЛО СТРАНСТВИЯ
Рассвет недалеко от Мурманска начался с того, что в вагонном окне большой ломоть ущербного месяца, цепляясь за низкие горы, опускался к горизонту.
Вокруг все было неправдоподобно и прекрасно. В бледнеющей темноте явственно проступали снега; голубой свет наполнял воздух. Потом стало белеть (снега оставались голубыми), но ни одного розового пятна так и не появилось. Разве только на слюдяном припае Кольского залива, узкого и длинного, как река, заиграл робкий сиреневый отсвет; в припае, «береговом зубе» по-местному, блестели лунки, как разбросанные зеркала по снегу.
Над Мурманском носился ветер, и каждую четверть часа менялась погода. То начинала крутить свирепая вьюга с мелкими сухими снежинками, то небо прояснялось и светило солнце, долгожданное здесь и поэтому, казалось, особенно ослепительное!
Местные жители охотно вспоминают, как кто в этом году увидел его впервые. («Мы шли, и вдруг дочка как закричит: «Папа, солнце!» – «А я еще раньше увидел, в Заполярном. Поехал на день в командировку, а оно там и вынырни!» – «Природа, – сказал не по летам рассудительно мой попутчик, комсомольский работник областного масштаба, – привлекает внимание тогда, когда срывает какое-нибудь мероприятие, например на стадионе. А летом мы и в двенадцать ночи футбол назначаем!»)
Мурманск – большой город, в нем больше четверти миллиона населения, но если смотреть сбоку, кажется, что он состоит всего из нескольких улиц, остальные расположены по террасам, за горами. До войны, как рассказывал местный старожил и летописец Евгений Александрович Двинин, город был сплошь деревянным. Сейчас он каменный, многоэтажный и – что очень любопытно и приятно для глаза – дома разноцветные. Часто бывает даже так: фасад первого этажа, скажем, шоколадного цвета, а начиная со второго – светлее, кофе с молоком. Или одна стена розовая, другая зеленая. Улицы в Мурманске прямые, по-современному широкие. В порту на рейде множество кораблей, наших и иностранных. Трудовой дым топок висит над Кольским заливом. Особенно хорош город на закате. Цепляясь за снеговые сопки, плывут красные облака, а сам город погружен уже в легкие северные сумерки. Они не такие, как в средней полосе. Я еще не совсем улавливаю, в чем различие, но ощущаю его. Здесь сумерки, пожалуй, прозрачнее, невесомей, словно сквозь них проглядывает уже, как сквозь туманное стекло, светлая незакатная ночь полярного лета.
Но Мурманск – это только начало путешествия. В тот же вечер дорога увела меня в Никель – город полярных рудокопов. И глубокой ночью транзитом – на самую норвежскую границу.
НОЧНЫЕ ИСТОРИИ
Пограничные рассказы отличаются от охотничьих тем, что, несмотря на свою необычайность, абсолютно правдивы.
Голоса за тонкой стеной, крякая и чертыхаясь от холода («…стены промерзли, матрац, как лед!»), обсуждали перед сном какие-то местные дела. Самый осуждающий и уничтожительный эпитет был «теплый», причем он употреблялся в прямом смысле. Некий Иванов (или Петров) ищет теплого места, то есть климата потеплее.
– А я в Заполярье десять лет, я тепла не ищу!
– Эх, а вот был я в отряде (называет номер), там печи топить умеют!
– Очковтиратели они: приехал Парфенов из Управления, так они ему печку докрасна накалили и шелковое одеяло откуда-то приволокли. Он теперь вернется в Москву и будет ахать: вот это отряд!
– Нет, полковник Парфенов – мужик умный, его одеялом не купишь.
За стеной раздался жалобный вопль: кто-то босой ногой коснулся пола.
– Здесь же на коньках кататься надо, а не ходить.
Для ободрения перешли к страшным воспоминаниям.
– Вот служил я на заставе: ледяное болото хлюпает круглый год. Идем в наряд – по колено в воде.
– А мы в выходной день, очень жаркий, отправились как-то на лодке ловить рыбу в Баренцевом море. Километров за пятьдесят от берега расположились на островке. Клев шел хорошо, решили заночевать, чтобы зорьку прихватить. А ночью ветер внезапно переменился, задул северян, и все обледенело: море покрылось льдинами. Лодку затерло – и в щепки. Да она и была бы нам уже бесполезна. Положение стало отчаянным. По льду пятьдесят километров не пройдешь, тем более он не крепок. Одежды теплой с собой нет. Наверняка погибли бы на этом чертовом острове, если б не разыскал нас вертолет.
– А я нес службу восемь лет на Черном море. Налетел на нас шторм – двенадцать баллов! Тросы полопались, как струны. Команда с нашего корабля сошла на берег и ухватилась за двенадцатидюймовые: они одни уцелели. И так трое суток держали свой корабль, чтобы не унесло.
– Сейчас хоть погода стоит тихая. А бывают действительно бураны, что на ногах не устоишь. Кому бы рассказать на вашем Черном море: полярная ночь и буран. Сочетание! Был такой случай: у одного парня жена родила сына. Ну, он на радостях раздавил один-одинешенек поллитровку и так воодушевился, что собрал передачку и пошел в родильный дом семейство проведать. А мела метель, да не простая, а полярная. Он шел, шел и вместо родильного дома попал на границу. Вот тебе и поздравил жену!
Потом они заговорили о том, что в сущности неосязаемая и невидимая линия границы, как ножом, разрезает иногда человеческие судьбы. Кто-то с чужих слов передал такой рассказ: бежал из заключения бандит. Десять дней шел к границе голодный, почти умирающий. Он знал: если хоть на шаг переступить пограничный столб – он уже вне досягаемости советских законов. И рвался к этому из последних сил. Наконец добрался до столба, рукой пощупал для верности и свалился обессиленный, впав не то в сон, не то в обморок. Тут его и взяли наши пограничники. Это была учебная пограничная полоса, метрах в двухстах от настоящей!
БИОГРАФИЯ ПОГРАНИЧНИКА
Утром мы сидели в штабе отряда и выбирали по карте мой маршрут. Названия были русские, норвежские и финские – вперемежку, например Трифонов ручей и рядом же Трифонон-Вара. Или Микулан-Вара, что явно указывало на некоего русского следопыта Николая. Уже с одиннадцатого века в договорах русских князей с норвежцами упоминаются эти земли. Мурманские поморы ходили на промысел к Груманту (Шпицбергену), зимовали там задолго до норвежцев. Это, как в документе, припечатано народной памятью в песне:
Ты, Грумант-батюшко, страшен,
Весь горами овышен,
Кругом льдами окружен.
За пятьдесят лет до английского капитана Ченслера, корабль которого отбился от экспедиции и был заброшен бурей в устье реки Варзино (Ченслер на этом основании считается на Западе «первооткрывателем» Северного морского пути), сохранились сведения о плавании из Северной Двины по морю до Тронхейма посольства Ивана III к датскому королю. Видимо, дорога эта была известна и раньше, если такая особа, как дьяк Истома, царский посол, безбоязненно пустился в путь. (Интересно, что и Ломоносов в своих примечаниях к вольтеровской «Истории Российской империи при Петре Великом» счел необходимым поправить французского философа: «В Двинской провинции торговали датчане и другие нордские народы за тысячу лет и больше», – имея в виду дату приезда Ченслера, 1553 год. Ломоносов ссылался при этом на норвежскую сагу XIII века Снорре Стурлезона.)
Вообще споры о здешних краях ведутся издавна; тяжбы о землях и тонях длились сотнями лет. Еще в начале XIX века районом Петсамо и частью Кольского полуострова владели совместно три страны: Норвегия, Россия и Финляндия, и лопари платили по три налога в год, пока в 1828 году не установилась окончательная граница.
Мы довольно долго вели географические разговоры, как вдруг мой собеседник, Александр Григорьевич Касьянов, человек немолодой, вздохнул и проронил:
– А я ведь сам-то буровик. Ну, ушел на войну – и все кончилось. И жена топограф; три раза из-за меня специальность меняла: то учительницей была, то кем придется.
– Жалеете свою профессию?
– Очень. Случайно еду мимо, вышки, когда в отпуске, так внутри что-то непременно дрогнет. Вообще-то работа, может, и незавидная, а мне нравилась. Сейчас, конечно, я ее только вспоминаю; я уже больше пограничник, чем буровик.
ТЕПЛО И ХОЛОД
Здесь, на границе, свой микроклимат: пограничное озеро Салмиярви находится в системе реки Патсо-Йоки, которая несет холодные воды. Поэтому температура меняется чуть ни с каждым километром. Например, до города Никеля напрямик через озеро три километра (в объезд – десять); и вот однажды в Салмиярви термометр показывал сорок девять градусов ниже нуля, а в Никеле было всего минус тридцать. Такая разница.
Даже когда едешь по шоссе (кстати, оно в образцовом порядке, чисто выметено, словно лопаточкой для торта, прихлопнуты и обрезаны мощные слои снега по обеим сторонам, будто это не глушь пограничная, а подступ к столице!), так вот: спустишься в самую незначительную ложбинку – теплеет, поднимаешься на крутояр у сопки – холодно.
А бывает и наоборот: теплый воздух держится повыше, у горы, а студеный оседает в низине. Но разница температур есть всегда.
МУДРЫЙ ШОФЕР
Погода здесь – семь пятниц на неделе! Сегодня первое марта, с утра была такая пурга, что только один белый снег и виден кругом. Словно в самом деле с неба валились белки-векши да малые оленцы, как утверждала про эти края летопись.
Снег стоял сплошной, но был мягок: потеплело еще ночью. В сегодняшней непогоде, как в каждой стихии, таилась своя красота и величавая прелесть.
Я спросила шофера, молоденького солдата, вида простецкого и совершенно еще школьного, – так что даже сомнение брало: не по ошибке ли ему доверили руль?
– Как это правильнее назвать: метель, пурга, вьюга?
Мы ехали довольно быстро, хотя на ветровом стекле оставалось лишь маленькое чистое окошечко, по которому неистово метался «дворник», и шофер смотрел в него, пригнувшись, как мотоциклист на гонке.
Встречные машины появлялись внезапно, казалось, в нескольких шагах: сначала зажженными фарами, а потом уже смутным силуэтом кабины и кузова.
Юный водитель повел глазами на дорогу, на небо и землю, слившимися воедино, и кратко ответил:
– Заряд.
Вот уже вынырнуло и четвертое слово!
– А может, – добавил шофер, – в разных местах просто говорят по-разному про одно и то же? Возвращаясь из Никеля, я увидела разделение неба пополам. Одна часть, северо-западная, уже очистилась и была прозрачного бирюзового цвета; все, что находилось под ней, светилось отражением невидимых солнечных лучей. Дальняя гряда сопок розовела.
Но на юго-востоке клубилась еще серо-желтая снеговая туча, и солнце, прорывая ее, глядело, как сквозь мутное стекло.







