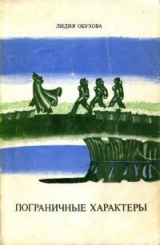
Текст книги "Пограничные характеры"
Автор книги: Лидия Обухова
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Эта и следующая атаки захлебнулись. К нашему отчаянию, цепь откатывается обратно. Проходит еще целый день. Ночью над лесом красиво летят разноцветные трассирующие пули. И вдруг – близкий стон. Жалобный юный голос:
– Товарищи… ребята… помогите! Хозяин, хозяюшка… Кто-нибудь…
В ста шагах от нас умирает лейтенант Водолазов, двадцати двух лет от роду. Его стоны надрывают душу. Почти с помутившимся сознанием, забыв на мгновение обо всем, кроме острой жалости к нему, пытаюсь выбраться из спасительной ямы. Но едва поднимаю голову – разражается перестрелка. Мина рвется вблизи. Очумело мычит корова. В меня вцепляются несколько рук, тянут вниз. Я задыхаюсь от беспомощности, от печали по нем. А ночь все длится, длится…
Хутор взяли на рассвете. Водолазов был уже мертв. Кто он, откуда? Как его имя? Мне этого никогда уже не узнать. Гвардейцы, его товарищи, шли на запад.
Но все, что я написала с тех пор, и что еще напишу – посвящено его памяти. Воистину живу за себя и за этого парня! Он погиб за меня. На мне лежит неоплаченный долг.
Все ярче, белее разгоралось утро нашего освобождения. По картофельному полю с заиндевевшей ботвой рассыпались, чуть пригибаясь, бегущие фигурки. Я смотрела с мучительным напряжением: цвет одежды был другой! Не тот, к которому притерпелись за три с половиной года. Спотыкаясь о мерзлые комья, блаженно и бездумно, уже не хоронясь от свистящих пуль, бегу навстречу. Несколько солдат ждут, повернув лица.
– Эй, паняля, осторожнее!
– Какая я тебе, к черту, «паняля»! – счастливо кричу еще издали. Паняля по-литовски «барышня». А я не барышня, я – комсомолка.
И вот они рядом. Во мне воскресают прежние сновидения. Как в тех неутолимых снах, ищу на пилотках красные звездочки. Без этого не поверю.
– Где? Где? – спрашиваю невнятно. Но гвардеец понимает. Он поспешно шарит в кармане, достает звезду с облупившейся эмалью, протягивает на ладони.
– Оторвалась, – бормочет виновато.
Они уходят на запад. Я остаюсь на поле, жду следующую цепь. Снаряды над головой летят все дальше. В Германию.
Коля Трушкин, Миша Бритаев, Леня Чернов – вы живы?
В эти же дни, седьмого или восьмого октября 1944 года, майор Тужлов летел на военном самолете в сторону Румынии. Знакомые места! Волнение охватило его. «Браток, – попросил летчика, – сверни. Хочу посмотреть на свою заставу!» Летчик понял. Раз и два облетел излучину Прута. Тужлов со стеснившимся сердцем жадно смотрел вниз. Следы взрывов сходились к заставе, как к эпицентру давнего землетрясения.
А двадцатого апреля 1945 года, когда наши войска прорвались к Берлину и стояли уже у его стен, той исторической ночью Тужлов по делам службы был на позициях 79-го стрелкового корпуса.
Все напряглось перед решительным штурмом. Часы оттикивали медлительное течение последней минуты… Вдруг генерал сказал:
– Товарищи, а ведь среди нас пограничник! Он начинал эту войну, пусть ее кончает. Дадим ему выстрелить первому?
И Василий Михайлович Тужлов, пограничник сорок первого года, выстрелил по Берлину.
Тридцать лет для города – мало. Тридцать лет для памяти много. Перебираю блеклые фотографии и ощущаю, как происходит мгновенный, почти космический перенос в прошлое.
Пожалуй, мне самой уже с трудом верится сегодня, что многолюдный разноязыкий портовый город Клайпеда был весной сорок пятого всего лишь скопищем мертвых домов. Я оказалась чуть не первой его жительницей: пограничники встали на границу.
Многие дома были еще заминированы; пограничники не велели углубляться в переулки, заходить в помещения. Но чувства опасности во мне тогда, по крайней молодости лет, просто не существовало.
Прошло недели две. Население выросло человек на двадцать – тридцать. Услышав шум шагов, я с любопытством бежала смотреть…
Наступило раннее утро девятого мая, ничем не отличимое от других – ведь в Клайпеде нет еще ни радио, ни газеты. (Первый номер выйдет лишь 7 ноября, и я до сих пор горжусь тем, что он открывался моим очерком.) Привычно плутаю между обломками, загромоздившими двор. На перекрестке улицы стоит часовой. Увидев меня, он издали машет рукой и широко улыбается:
– Победа, победа!
– Еще какой-нибудь город взяли?
– Нет! Победа совсем! Вся победа! – он ищет слова, захлебывается ими.
И вдруг до меня доходит смысл сказанного. Бегу обратно домой. Кричу об этом матери. Тормошу младших. Ищу огрызок карандаша.
Через полчаса бегом несу стихи в редакцию дивизионки, и их тут же при мне набирают в походной – на грузовике – типографии. Впервые вижу, как мое написанное слово превращается в слово печатное. Молча обещаю себе никогда не сочинять суетно, корыстно, поспешно.
Странно, но совсем позабыла теперь то стихотворение. Кроме последних строчек:
На порванный шинельный хлястик
Глядит без строгости патруль.
И тут взлетело наше счастье —
Весенний аист на ветру!
Эту строфу как раз и вычеркнул строгий редактор: порванный хлястик шел вразрез с воинской дисциплиной. Следующие строки имели в виду малоизвестную литовскую примету: каким увидишь своего первого аиста – летящим, стоящим в гнезде или уткнувшимся клювом в землю, – таким будет весь год.
…Вечером вся Клайпеда стреляла! Палили из автоматов, из корабельных орудий и зениток, из пистолетов и ракетниц. Не страшно пахло порохом.
СМЕРТЬ В КЛЕНИКАХ

…Эти страницы подобны присохшим бинтам. Время, запечатленное на них, – наше время. Мы его свидетели. Память хранит имена и лица, которые для следующих поколений уже безвозвратно отошли в небытие… Как подробно бы ни старались мы поведать о прошедшем, получатся лишь обрывки – так много вместилось в четыре года!
Я перескажу один короткий эпизод. Не потому, что он значительнее или ярче других, – о нет, он не более чем крошечная искра в грандиозном пламени Великой Отечественной войны, – но мне показалось, что в нем переплелись несколько разнородных нитей, которые суть человеческие чувства: отступничество и верность; крикливое тщеславие и героизм без единого слова, с сжатыми губами; вина и возмездие.
Вернемся в июнь 1941 года.
Окна школы за молодой листвой деревьев стали гаснуть одно за другим: техничка тетя Фруза последней обходила классы. Выпускной вечер окончился.
Девушки в батистовых и пикейных платьях, юноши в белых рубашках с узкими галстучками медлили расходиться. Так не хотелось рвать живую связь, которая десять лет соединяла воедино их всех – зубрил и двоечников, дебоширов и учительских любимчиков, первых красавиц и безнадежных дурнушек, пай-девочек и мальчишек-сорвиголов… Сначала они назывались первым «А» классом. Через несколько лет – четвертым «А», шестым «А», восьмым, десятым…
Учителям было еще грустнее: они теряли их навсегда. Даже те, кто останутся в городе, будут попадаться на глаза все реже, здороваться все торопливее. Сейчас они еще твердили по привычке:
– До свидания, Анна Григорьевна!
– До свидания, Тихон Емельянович!
– До свидания, Бася Моисеевна!
Но в школьных стенах свидание их больше не ждет.
Над Витебском стояла прозрачная летняя ночь. От Двины веяло запахом нагретой за день речной воды; острый сырой аромат источали соки трав по косогору.
Сначала, сбившись в кучу, они постояли еще какое-то время в школьном саду среди волшебно шевелящихся теней; потом гуськом двинулись по тропинкам высокого левого берега мимо бывшего губернаторского дома по Успенской горке; спустились по крутой деревянной лестнице к мосту через Витьбу, и тут стало явным то, что так долго таилось от чужих глаз, – кто кого пошел провожать!
Двадцативосьмилетний учитель истории Александр Львович Брандт, кумир старшеклассников, тоже вызвался проводить одну из своих учениц, несменяемую партнершу по школьному драмкружку, тезку его жены Галины…
На какое-то время витьбенский мост опустел. Мгла не успела сгуститься, как начала уже медленно редеть. Облака поднимались все выше, купол неба становился необъятным.
В сонной тишине улиц звук шагов разносился четко. Костя Маслов услышал одинокие шаги издалека и сразу угадал их: молодой Брандт (его называли так в отличие от отца, старого Брандта, тоже преподавателя) возвращался, как и он, к витьбенскому мосту. Они остановились и закурили, опершись о перила.
Весь этот вечер Брандт был чрезвычайно оживлен. Он много танцевал с выпускницами и, не стесняясь, отдавал предпочтение все той же черноглазой, с матовым вишневым румянцем во всю щеку. Вообще, чувствовал себя распорядителем бала! Ребята тянулись к нему со всем пылом неискушенных сердец; он и всегда-то представлялся им образцом эрудиции, ораторского искусства и хороших манер, а теперь, когда сбросил с себя отстраняющую мину наставника и держался почти что на равной ноге, их обожание достигло предела.
И было так естественно, что именно он один из всех учителей не захотел распрощаться у дверей школы. Гурьбой они отправились к плотине, растолкали сонного сторожа и покатались на лодках.
Сейчас, в усталой тишине наступившего утра, лицо учителя показалось Косте посеревшим и непривычно печальным.
– Как я завидую всем вам, – внезапно проронил он.
– Вы? Нам? – в безмерном изумлении переспросил Костя.
– Конечно. У вас все впереди. А что может случиться неожиданного в моей жизни? У меня такое ощущение, что она осталась уже за поворотом.
Костя не нашелся, что ответить.
Брандт молча сбрасывал папиросный пепел в шустрый ручей Витьбы, втекающей под державную руку Двины.
– Пуля, им отлитая, просвищет над седою вспененной Двиной, – нараспев проговорил он, уставившись перед собою. – Пуля, им отлитая, отыщет грудь мою: она пришла за мной… Упаду, смертельно затоскую… – Он вдруг оборвал и повернулся к Косте с той надменно-снисходительной усмешкой, к которой они привыкли в классе. – Знаете, чьи это стихи?
– Нет, – сознался Маслов, привычно чувствуя себя школяром, не ответившим урок.
Длинное смугло-бледное лицо Брандта приняло задумчивое выражение.
– Я не вспоминал их с тех самых пор, как уехал из Ленинграда. А ведь они написаны именно об этой реке. Как странно, что я забыл… Это Гумилев, – добавил он другим тоном. – Не слыхали, не проходили… Знаю. Ну а эти помните? Я их читал в классе. Хотя, может быть, и не в вашем.
С тяжким сердцем, гонимый судьбой, как вода,
Мусор и щепки я нес на себе, как вода,
Родину бросил, покорен судьбе, как вода,
Ушел и вспять не вернулся к тебе, как вода.
– Гордый, высокомерный, самовлюбленный Хокани! – отбарабанил Костя, в точности повторяя брандтовы слова.
Тот улыбнулся.
– То-то и оно-то!
И, слегка кивнув, ушел не оборачиваясь.
Было пять часов утра. Война уже началась.
Брандт ошибался: хотя срок его жизни был точно отмерен, ему предстояли еще многие неожиданности.
Самым же неожиданным окажется то, что человек, которому назначено сыграть в его судьбе главную роль, в эти минуты находился совсем недалеко. В двух шагах от моста, под Успенской горкой, стоял деревянный двухэтажный дом, где на первом этаже, возле окна, выходящего на реку, на железной кровати, уйдя темноволосой головой в умявшуюся подушку, под мурлыкающий ход стенных ходиков спал Михаил Георгиевич Стасенко, тридцати трех лет от роду, бывший пограничник. По странному совпадению, он появился в Витебске в одно время с Брандтом; как и тот женился здесь и имел точно такого же трехлетнего сына.
Они никогда не видели друг друга.
Утро двадцать второго июня для Стасенко, начальника Городского Общества спасения на водах, началось, как всегда, рано. В оба широких окна лился отраженный переливчато-солнечный отблеск реки, белые занавески надувались, а стеганое голубое одеяльце сына казалось осколком безмятежного утра.
Лёник проснулся раньше всех, залепетал и, держась за боковую сетку, потянулся к никелированным шишечкам родительской кровати.
Стасенко пробудился тотчас, как привык за шесть лет просыпаться на заставе. На какую-то долю секунды ему даже померещилось, что за окнами не Двина, а Черное море, и что вместо гудка буксирчика он услышит сейчас стонущий вопль муэдзина на турецкой стороне. Он спал всегда очень крепко. Явь и сон путались в его сознании лишь в то мгновение, пока он подымал веки. Но вот глаза раскрылись – светло-карие, зоркие, – и он уже был на ногах.
Потом он умывался, пил чай. Его молоденькая жена Оля, которая жаловалась последнее время на сердце и должна была ехать на курорт (ее отпуск начался два дня назад), надела ради выходного дня новый сарафан из модного сатина-либерти, красный в горошек, и ее обнаженные загорелые плечики светились на солнце.
Узнав о войне, Оля прежде всего спросила: «Как же путевка?» – Ее пухлые губы задрожали.
Она вообще легко плакала. Слезы частыми обильными горошинами прыгали по юным щекам. Михаил подолгу мог разговаривать с ее матерью, обсуждать газетные новости, но к ней относился почти как ко второму ребенку в семье.
– Отложим путевку. Ничего, – только и сказал.
Кругом уже все шумело: война, война. Но, казалось, никто толком не понимал, что же это такое?
Днем Михаил объехал спасательные посты на реке, проверил, все ли в порядке, все ли на местах? С утра он надел сиреневую тенниску, и хотя солнце припекло, но ветер на реке тотчас сушил пот.
Застланный клеенкой обеденный стол к его приходу был уже накрыт. Он ел с аппетитом свекольный холодный борщ и первую молодую картошку, политую подсолнечным маслом, с зеленым луком, огурцами и редиской.
Вблизи дома у них было несколько гряд, но неумелая Оля сыпанула семена редиски так густо, что они заглушили друг друга. Когда Михаил принялся разреживать, у нее тотчас навернулись слезы.
– Зачем же тогда было сажать? Мне жалко. Не рви.
Она была горожанкой, дочерью драматического актера.
– Хорошо, – сказал, усмехаясь, Михаил. – Твою грядку не тронем, а эту я прополю. Посмотрим, что из этого получится.
И, конечно, редиска выросла лишь у него. На следующее утро, понянчив немного Лёника, он сказал жене, не отводя глаз, но по возможности мягко:
– Не хочу от тебя скрывать, Оленька. Вчера я был в военкомате и сегодня уже не вернусь домой. Сейчас иду сдавать дела.
– Но меня тоже вызвали на работу, – растерянно пролепетала она. – В горкомхозе надо выплатить всем досрочно жалование.
– Значит, иди.
К военкомату она его не провожала. Зато Лёник вцепился пальчиками в отцовскую рубашку, и он никак не мог передать его на руки теще.
К вечеру стало известно, что вновь сформированная часть пока что оставлена в Витебске, на фанерной фабрике. Ольга прибегала туда вечерами. Так продолжалось до двадцать восьмого июня; молоденькая женщина уже уверилась про себя, что изменений не произойдет и впредь, а там, глядишь, кончится и эта война!
В воскресенье он назначил ей встречу в тенистом садике у педагогического института – наверно, ему что-то хотелось сказать ей без чужих ушей, даже без их ребенка, к чему-то приготовить, что-то объяснить, оставить наказ.
Она пришла и не дождалась: накануне ночью часть отправили на фронт.
Июль начался в том же вопиющем противоречии безветренных ясных дней с сияющими небесами над гладью Двины, которая еще не успела обмелеть после весеннего паводка, и растерянности, смятения, мучительной тревоги, поспешных сборов и отъездов, а также неурочных совещаний за длинным обкомовским столом, когда на повестке дня стояло уже не выполнение планов или шефская работа, но утверждение будущих партизанских явок и списка подпольщиков. Фашистские армии обтекали Витебск.
Война перестала быть расплывчатым понятием. Над крышами и вдоль дорог кружили вражеские самолеты; гул канонады становился все слышнее.
Словно кровь от сердца при обмороке, вся жизнь отхлынула от центра города к вокзалу. Через Витебск шли безостановочно составы с воинскими частями, то груженные заводским оборудованием, или же полные раненых и беженцев. К чужим эшелонам теперь присоединялись уже и свои: как можно больше вывезти, спасти, не оставить врагу.
Заведующий музеем Валентин Карлович Зейлерт двое суток паковал коллекции фарфора и бронзы, укладывал, мраморные статуэтки между стружками в опорожненные бочки и наспех сколоченные ящики. Ему оставалось лишь добыть разрешение на вагон, довезти поклажу до вокзала и погрузить. Тогда бы от сердца у него отлегло; он всегда слыл человеком долга.
Несмотря на неразбериху, ломовика обещал найти завхоз музея Мартын Петрович Лабоха, а требование на вагон без слов подписал на служебном бланке замороченный человек с помутневшим, почти неживым взором. И вот, уже договорившись на товарной станции, Валентин Карлович скорым шагом поспешал от вокзала через мост, когда кто-то громко окликнул его. Навстречу шел старый Брандт, которого приглашали иногда в музей как эксперта. Валентин Карлович был достаточно знаком с ним, чтобы кланяться при встрече, но те горячие рукопожатия, с которыми кинулся к нему шапочный знакомый, наверно, несколько удивили бы, происходи все это в обычное время. Было недосуг размышлять сейчас над мелочами, и он приписал возбужденный вид встречного знакомца общему нервному подъему.
Между тем старый Брандт – по обыкновению в своем черном, неряшливо сидящем костюме, в старомодных тупоносых ботинках, но при галстуке, держа в руке фетровую шляпу, – подчеркнуто дружелюбно и неуместно шумливо расспрашивал о самочувствии, о здоровье домашних, о новостях. Голос его звучал, как всегда, напористо; водопад слов низвергался клокочуще и неиссякаемо.
Валентин Карлович едва вставил:
– Какие теперь новости! Вот удалось добыть вагон для эвакуации музея. Будем грузить. Семью я вчера еще посадил на какую-то проходящую платформу; надеюсь, что отступление будет недалеким и мы скоро свидимся. А вы когда собираетесь уезжать?
Он повторил этот вопрос дважды, пока запнувшийся Брандт не промямлил, что он, собственно, еще не решил, как-то все слишком неопределенно вокруг…
Зейлерт понял его иначе.
– Я тоже думаю, что город не будет сдан! – горячо воскликнул он. – Но бои-то наверняка разгорятся, и лучше гражданских лиц эвакуировать, ведь так?
Брандт пожал плечами. Из-под лоснящегося отворота пиджака у него выглядывала мятая сорочка. Почему-то именно в этот момент в памяти Валентина Карловича всплыли слухи, будто старуха-жена Брандта была дочерью чуть ли не помощника министра финансов в последнем царском правительстве, а он сам, вынимая из бокового кармана массивную золотую луковицу старинных часов с крышечкой, обмолвился однажды, что это единственный сохранившийся сувенир от отца-посланника… В Витебск они попали в 1936 году.
– Так вы едете или нет? – в упор спросил Зейлерт.
– Сперва переберемся от пожаров к сыну. Решим сообща. Всех благ! Всего наилучшего!
И, приподняв шляпу, старый Брандт прошествовал дальше, сверкая стеклами очков и вставными зубами. Он жил на Рыночной улице, вблизи вокзала…
Именно отсюда, с западной стороны, и полетели немецкие снаряды, сначала срезая верхушки сосен на Юрьевой горке, а пристрелявшись, с попаданием и в центр города.
Первый крупнокалиберный снаряд ударил поблизости от фанерного киоска на Успенской горке – тот вспыхнул, будто подожженный клочок бумаги! Второй угодил в магазин; третий взметнул осколки булыжника перед музеем. Нагруженный остатками ценной клади ломовик было шарахнулся, но возница вскинул кнут, и испугавшись кнута больше, чем взрывной волны, лошадь тяжело поскакала под уклон улицы, к вокзалу. Проходившая мимо женщина была убита тем же снарядом наповал. Истошный вопль маленькой девочки над трупом долго звенел в ушах Зейлерта…
В охваченном пожаром городе всеми своими рупорами прокричало радио, чтобы граждане немедленно покинули вокзал и спешили перебраться на левый берег Западной Двины: фашистские войска подступают к городу в районах Чепино и Марковщины. Отход на Смоленск свободен.
В два часа с минутами последовал приказ: прервать связь, уничтожить телефонную станцию. В мрачном азарте, когда уже нет времени что-то жалеть, аппараты разбивались топорами, провода выдергивались с корнем… А на заводских дворах бочки с нефтью вкатывали прямо в цеха. Через некоторое время над белокаменным, ярко сиявшим в солнечном свете городом стала расползаться чугунно-черная плита копоти и дыма.
Костя Маслов бегом бежал к своему дому. С вечера он дежурил в осоавиахимовской группе и ничего не знал о судьбе родителей. Он вихрем взлетел на второй этаж, толкнул не замкнутую дверь.
– Мама! Папа! Света!
Никто ему не отозвался. Квартира как будто даже и не носила следов поспешного бегства. Обеденный стол был по-прежнему накрыт вязаной скатертью; стулья расставлены по ранжиру; на подушках красовались несмятые накидки. Все так же висела на стене карта полушарий с прохладной синевой морей. Не было только пирамидки чемоданов.
Костя обтер взмокший лоб. «Отход на Смоленск еще свободен!» – пронеслось у него в мозгу. Он выпрямился и постарался сосредоточиться.
Удерживая дрожь рук, с вешалки в прихожей снял теплую куртку, с грохотом, выдвинул ящик комода, достал подвернувшуюся первой подсиненную и накрахмаленную наволочку, уложил в нее, как в мешок, несколько пар трусов, три майки, носки, полотенце. В другом ящике разорвал бумажный пакет, остро пахнущий нафталином, и, подумав, вынул шерстяной свитер. Из буфета достал початый каравай хлеба, нераспечатанную пачку соли и высыпал из конфетной вазочки горсть монпансье. Вновь вернулся от порога, наугад снял с этажерки книгу, сунул и ее в мешок. Еще раз обвел взглядом свой обезлюдевший дом. Отчаянная забубенная мысль осенила его в последний момент. Откинув крышку патефона, он до отказа накрутил ручку и с размаху опустил иглу на щербатый диск. Раздалось шипение заигранной пластинки.
Медлить больше было нельзя. Уже с тротуара он задрал голову и увидел, как споро, весело занялись пламенем тюлевые занавески. А на всю пустую улицу звучала песня:
Три танкиста, три веселых друга…
Он слышал ее, пока не повернул за угол.
Все это напоминало сцену с декорациями, но без исполнителей.
На следующий день с комсомольским батальоном осоавиахимовцев Маслов оборонял Мазурино.
Рассказывали, что первый прорвавшийся немецкий танк на полном ходу шел к памятнику Ленина, но отступавшая по Городокскому шоссе тридцатьчетверка столь же стремительно повернула обратно и врезалась во врага. Хрустнули бронированные бока. Оба танка вздыбились и застыли в смертельном объятии.
Девятого июля рухнул между двумя быками взорванный мост. Когда утром десятого немцы стали наводить на Двине понтоны, с Успенской горки забил одинокий пулемет. Никакой пушечный и минометный огонь не мог подавить его ярость!..
Винтовочные выстрелы звучали в городе еще и одиннадцатого.
Старый Брандт попивал. Ребята тотчас угадывали, когда он входил в класс навеселе: он потирал руки и щурил глаза под очками, золотые передние зубы то и дело обнажались в ухмылке. Тогда он был развязен, оживлен, и всем доволен.
– У вас следующий урок история? Слушайте хорошенько. То, что вам расскажет мой сын, вы не прочтете ни в каком учебнике.
Он произносил это так хвастливо, что только не добавлял: вот какой у меня замечательный сын! А между тем ходили слухи, что они между собою не ладят после женитьбы младшего на скромной витебской учительнице Степановой.
Иногда к концу уроков за Брандтом приходила жена, грузная дама в фетровых ботиках. Темный шарф обрамлял увядшее щекастое лицо с густыми бровями, в которых угадывалось нечто восточное. Сын, – брюнет, удался в нее, тогда как у отца глубокие залысины на лбу переходили в плешивое темя, едва прикрытое рыжеватыми волосами.
Их дом был как замкнутая со всех сторон коробочка: в него почти никому не было доступа. Даже с управдомом старый Брандт переговаривался через цепочку. Из комнат за его спиной несло тогда запахом пыли и затхлости.
Смешанное чувство у тридцати пар глаз, устремленных в упор едва он переступал порог класса, вызывал Лев Георгиевич Брандт! Первые минуты – невосприятие, резкая несимпатичность всего его облика. Язвительность тона, прищуренный взгляд, бьющий сквозь очки, как некий смертоносный заряд, голос, вдруг сбивающийся на воронье карканье, – да они готовы были попятиться от него, отшатнуться, заслониться руками. Но проходило несколько минут. Краснобай размыкал уста. Сирена затягивала прельстительную песнь. Детские сердца так незащищенно доверчивы! Он упивался собственной речью, купался в словах, как селезень в воде, а они были убеждены, что это ради них, из любви к ним, чтоб сделать их умнее, лучше. И были благодарны ему!
Когда от пожаров и стрельбы жители Пролетарского бульвара, – который в просторечье назывался у витебчан Клёниками, – сбежались за толстые стены Покровской церкви, под своды ее подвала, Брандтов не было среди них.
Миновал полдень. Несколько девушек-школьниц поднялись из сыроватого подполья, куда звуки извне доносились глухо, и сначала их ослепило полуденное солнце, горячее небо с длинными хвостами дыма. Потом они услышали утробное урчанье: по бульвару гуськом шли танки. Их бока, тяжелые, как панцири вымерших ящеров, пятнали черные кресты. Это были фашистские танки!
И тотчас они увидели, как из дома № 14 показались оба Брандта. Они шли к танкам, подняв руки, но головы держали высоко и походка их была размеренно-торжественна; старший ниже младшего почти на полголовы.
Поравнявшийся с ними танк притормозил. Оба заговорили по-немецки, их выслушали. Танк пополз дальше. Возвращаясь, старый Брандт бегло взглянул на девочек, прижавшихся к стене.
– Идите по домам. Вас не тронут, – сказал странно бесцветным тоном, словно обращался не к собственным ученицам, а в толпу, где все лица ему равно незнакомы.
Они ничего этого не уловили. Просто еще раз доверились учителям: им было страшно, и те вышли, чтобы их защитить. Что может быть естественнее?!
Но уже через неделю разнеслась весть, что Брандт назначен исполнять должность помощника бургомистра. Его бывший коллега, преподаватель белорусского языка Олесь Петрович Ломоносенко, столкнувшись с ним на улице, машинально произнес: «Здравствуйте, Лев Георгиевич», но тот прошел мимо него, словно не видя, продолжая по своей привычке бравурно бубнить под нос оперный мотив.
Грань была положена. Прежние контакты прекращены раз и навсегда. Всем своим видом старый Брандт показывал, что его недавнее прошлое в этом городе было несерьезным, нечто вроде шутовского маскарада, и лишь теперь начинается настоящее дело.
В это время за несколько сот километров от Витебска, ничего не зная еще о судьбе родного города, вырвавшись из окружения, пробирался литовскими лесами Трофим Андреевич Морудов. Его семья успела выехать из атакуемого с воздуха Каунаса. Поезд добрался до Витебска, – и вновь попал в пылающий город!
Сам Трофим Андреевич, не доходя до города, укрылся в деревне, где жила его тетка.
Через некоторое время в полицию на него поступил донос, и как-то в середине дня, когда он примерял кое-что из довоенной одежды, только что принесенной женою, Морудов увидел в окно, как от околицы движется целый отряд, окружая дома.
– Ну, это за мной, – сказал он жене. – Я могу начать отбиваться, но тогда поплатиться вся деревня.
– Не делай этого, – плача, воскликнули помертвевшие жена и тетка.
Все трое обменялись отчаянными прощальными взглядами.
Морудова схватили и, когда уже повели, у его жены вырвался приглушенный вскрик:
– Иезус Мария!
Начальник полицейского отряда живо обернулся.
– Пани говорит по-польски?
Он отошел с нею в сторону и выслушал, уже внимательно, ту версию, которую пытался рассказать и сам Морудов: горожанин пришел за продуктами к родственникам и застрял по нездоровью.
Поляк-полицейский сделал вид, что поверил. Это была счастливейшая случайность. Он велел отпустить арестованного и на прощание даже показал донос за двумя подписями, чтоб знали, кого впредь остерегаться.
Странное происшествие окружило Трофима Андреевича ореолом некой опасной таинственности: местные власти боялись с ним связываться. А когда он наконец перебрался в Витебск и поступил на завод, который находился в привилегированном положении, так как поддерживал в порядке все городские коммуникации – немцы не без опаски готовились к первой русской зиме, – то деревенские власти и вовсе вздохнули с облегчением: избавились от опасного соглядатая!
Морудов убедился на этом маленьком примере, что не так страшен немецкий черт, как расписывают его сами немцы, если только противопоставить русскую смекалку, убежденность в своей правоте, храбрость да удачливость. А в свою счастливую звезду Морудов верил крепко: ведь он был на родной земле!
Но как изменился город! Он не узнавал улиц, не узнавал людей. Больше не бегали по горбатым витебским улочкам шустрые трамвайные вагоны; фабрики замерли; город погрузился во мрак. Вечерами в уцелевших домах лишь ненадолго зажигались керосиновые лампы или тусклые самодельные коптилки, а то и просто лучины.
Перейдя по временному мосту на правобережье, Морудов был вынужден искать проход к собственному дому. Целые кварталы развалин, остовы железных кроватей! Какое-то зловещее скопище кроватей: на первых, на вторых этажах, на уцелевших перекрытиях. В одном доме повисла над провалом первого этажа печь, и на загнетке – утюг. Электрический утюг, провода которого обуглились, но сам он почему-то даже мало закоптился и в свете дня сиял печальной никелевой звездочкой…
Еще больше изменились люди; их отличал пришибленный, потрясенный вид; Витебск был битком набит карательными отрядами! В подвалах политехникума схваченных горожан пытала контрразведка; в зданиях медицинского и ветеринарного институтов обосновалась не менее опасная и свирепая фашистская комендатура. Буквально каждый квартал держали под неусыпным вниманием карательные отряды абвера. На площади, где ставилась обычно разукрашенная игрушками и цветными огоньками елка, теперь возвышалось иное дерево – сколоченная из толстых плах виселица… Словно по страшному колдовству все в городе переменилось со знака плюс на знак минус – что предназначалось для добра, стало служить злу. Но совесть не хотела с этим примириться!
Морудов почти не встречал знакомых лиц. Те, кто не уехал, были, видимо, схвачены или попали в гетто, откуда мученический путь вел лишь к безымянным могилам на дне Духовского оврага…
И вдруг навстречу, нос к носу, прежний сослуживец. Однако какая перемена! С первых слов тот заявил, что исполняет должность районного бургомистра.
– По стопам старика Брандта? – не сдержавшись, прошипел Морудов. – И много вам платят?
Тот испуганно оглянулся.
– Замолчи, ради бога! И вообще, уходи из города. Я ведь знаю, ты сидеть смирно не будешь, а когда тебя схватят, все подумают, что это я тебя выдал.
– Мне уйти, а город на вас оставить? Не выйдет… – И вдруг переменил тон. – Хватать меня не за что, я человек мирный, цивильный. Недавно на завод устроился. Мастер Ганс Миллер мною доволен.








