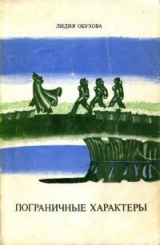
Текст книги "Пограничные характеры"
Автор книги: Лидия Обухова
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Эта картина еще какое-то время сохраняла устойчивость, пока Михаил Стасенко шел и шел навстречу Брандту, последние мгновения видя наплывающее на него удлиненное лицо с тем надменно-отчужденным выражением, которое было присуще бывшему школьному учителю, ныне преуспевающему дельцу под вороньим крылом рейха…
Брандт поднял тяжелые лепные веки, вперил в Стасенко бездумно-высокомерный взгляд и – прошел мимо.
Сделав не более двух шагов, Стасенко четко обернулся, рванул из-за пазухи пистолет и нацелил в сутулую спину. Сырой воздух пронизало желтой вспышкой.
Первоначальный звук был не очень силен, но рикошетом отраженный от каменных развалин он покатился, как шумовой мяч.
Полицаи, даже не успев осознать выстрел, но внезапно выведенные из своей утренней сонливости видом падающего вперед лицом Брандта, затоптались, ловя непослушными пальцами винтовки. Лишь у одного мускулы ног сами собой напряглись, как у овчарки, приученной к охоте за людьми, и он рванулся наперерез Стасенко, который по инерции бежал прямо на него.
И тут голоса мужества, мощные хоры красноармейских полков, в которых не довелось служить Жене Филимонову, духовая музыка праздничных первомайских оркестров и чеканные звуки «Интернационала», начинавшие и кончавшие каждый день Советской страны – вся эта светлая возвышенная симфония зазвучала в сердце вчерашнего школьника. Настал его час стать мужчиной. Он приподнялся, решительно сжимая гранату.
Но в это самое мгновение, словно даже и не очень торопясь, Наудюнас прицелился и пулей сбил с ног прыткого полицая. Тот упал, распластав руки, как подбитая на лету хищная птица.
Потом все четверо растворились в пространстве. Оставалось несколько секунд перед всеобщим переполохом, и они не потеряли их напрасно.
Дед-водонос, движимый неистребимым любопытством, засеменил было поближе к двум трупам, все еще не выпуская из рук пустых вёдер, прежде чем крестьянский инстинкт подсказал ему, что при подобных обстоятельствах надо бы держаться в стороне. Но было уже поздно. Воздух наполнился гулом, шарканьем сапог, командными возгласами. Видя перед собою лишь одну движущуюся цель – все того же злополучного деда, – полицаи кинулись к нему, дав отходящим мстителям еще несколько минут форы.
Не сразу Наудюнас заметил, что Стасенко не последовал за ним к оврагу, а побежал к плотине кружным путем, по улице Стеклова, и что за ним гонится овчарка.
Но собака быстро потеряла след в мокром снегу. Стасенко, нагоняя товарищей, перескочил забор; вчетвером они перебежали чей-то двор, перескочили второй забор и вскоре достигли леса. Здесь Володя присел на пенек переобуть стертую ногу, хотя где-то неподалеку раздавались выстрелы.
Весь день они колесили по лесу, не находя выхода к Двине. Уже в ранних сумерках подошли к опушке и увидали перед собою как на ладони… Витебск! Вновь нырнули за стволы, но теперь уже знали хотя бы направление. Им надо было проскользнуть между белым каменным домом, где помещался пост полиции, и деревенькой, отданной под постой власовцам. Избавление было совсем близко: они видели тот же перевоз с полосой чистой воды и знакомую лодку у противоположного берега. Спеша, спотыкаясь, держа наготове гранаты и пистолеты, стали спускаться под уклон.
Несколько полицаев, наблюдавших за ними сверху, почему-то не делали никаких попыток их задержать, даже не окликнули.
В снежных сумерках они отлично различали и рыбачью халупу, которую покинули семнадцать дней назад, и паренька-лодочника, занятого какой-то домашней работой.
– Эгей, эгей-гей! – заорали ему, размахивая сорванными шапками. – Греби сюда!
– А вы кто?
– Да партизаны!
И еще медленно, ах как медленно и долго переплывала лодчонка Двину, взяв сначала двоих, а потом приехала за оставшимися, потому что была мала. Но теперь их отход уже невидимо страховали партизанские пулеметы.
В деревне Курино первым, кого они встретили, был двоюродный Женин брат Николай Федорович Филимонов. Он шел в новом, только полученном полушубке и с ходу забрал Женю и Михаила Стасенко к себе в отряд. Наудюнас и Кононов отправились дальше, докладывать о выполненном задании.
Друзья расстались. Навсегда.
Любое событие, едва оно совершится, может быть пересказано по-разному.
Поднялась ли сразу стрельба и суматоха, или оба первоначальных выстрела прошли почти незамеченными – настолько незамеченными, что, увидев лежащего ничком Брандта, соседка побежала звать его жену, думая, что с ним случился обморок, а та поспешила с пузырьком валерьяновых капель, – все это нельзя было бы с достоверностью выяснить уже и на следующий день.
Бесспорным оставался голый факт: на улице Стеклова, почти что в центре Витебска, среди бела дня был предан смерти человек, глубоко оскорбивший город своим отступничеством. Ведь он-то был не пришлый, как Родько, никому из витебчан до того неведомый! И хотя бургомистра тоже ненавидели, но наравне с другими, не выделяя из общей саранчовой тучи, без того глубоко личного оттенка, с которым относились к предательству Брандта! Применимо к местным масштабам, Брандт расценивался горожанами почти как враг номер два: чуть ли не тотчас вслед за хромцом Геббельсом…
Для Витебска всегда было характерно некоторое смещение величин; сам город то выходил на аванпост важнейших событий времени, становясь чуть ли не решающей исторической точкой, то столь же неожиданно нырял в тень и долгое время влачил заглохшее существование. Однако его внутренняя жизнь все десять веков была полна скрытым драматизмом.
Так и в 1942 году под лягушечьей корой фашистских шинелей, покрывших живое тело города, сердце его продолжал приглушенно стучать, мускулы невидимо напрягались.
Едва переступив чужую границу, фашисты сразу пустили в ход басню всех конкистадоров – о своей непобедимости. Они упивались этой выдумкой, сделали ее главной нравственной опорой, щитом и фундаментом третьего рейха.
Но каждая акция партизан выбивала камень за камнем из этого фундамента. Только так и надо оценивать выстрел в Клёниках. Как пример, как первоначальный толчок лавины, который заражает своим движением и пробуждает волю к действию.
Когда спустя сутки мертвого Брандта перенесли в народный дом, на его бледном лице лежало еще пятно позднеосеннего дня; не отсвет, а тень этого дня. Тайная двусмысленность. Что-то липкое и злое, что приносили с собою люди, молча проходившие вблизи стола, на котором стоял гроб, вместо цветов обрамленный хмурой гирляндой еловых веток. Выражение лица у покойника не было ни изумленным, ни испуганным. Смерть оказалась быстрой – на ходу и на снегу. Но кожа не переняла свежей белизны последнего земного прикосновения. Серая тень поселилась на сомкнутых выпяченных вперед губах, на полумесяцах бровей, на щеках, созданных для грима – и так долго носивших на себе грим!
Любопытство, но ни капли сострадания в направленных на него взглядах. Любопытство, маскирующее тайную удовлетворенность. Затем смотрящий осторожно потупляет глаза и выбирается прочь подобру-поздорову…
Вдовы не было у гроба. Два дня назад, когда она стояла с ненужной уже валерьянкой на снегу посреди Клёников, большой карательный отряд начал прочесывать дома вдоль бульвара.
Соседка Елизавета Петровна Виноградова, – та самая, которой выстрел показался совсем тихим, а Брандт потерявшим сознание, потому что крови на нем не было видно, застреленного же полицейского в стороне она просто не заметила, – когда к ней ворвались немцы с лающими возгласами «вег, вег!», – кое-как подняла с постели больную сестру и закутала годовалого сына в меховой жакет: первое, что попалось под руку. Во дворе их поставили вдоль стены, стали требовать, чтоб немедленно сознались, кто совершил убийство? Иначе будут расстреливать каждого третьего. Женщины заплакали, они ничего не знали. Этот отряд ушел в следующий дом, но через несколько часов уже другие увели брата и четырнадцатилетнего племянника как заложников.
– Если убийцы не будут указаны, заложников расстреляем.
Всего по Пролетарскому бульвару и соседним улицам схватили пятьдесят человек. Костя Маслов тоже угодил в облаву. Заложников отвели в казармы Пятого полка, которые стали местным концентрационным лагерем, и держали там недели две – изголодавшихся, запуганных, не понимающих, что же с ними будет дальше…
Женщины – матери и сестры – побежали к дочери Степановых. Она твердила всем:
– Я сделаю все, что смогу.
Может быть, впервые за время оккупации люди снова заговорили с ней, она была им нужна. Она никому не поведала, что в ней стучали и днем и ночью, как добавочный пульс, слова одной старухи-нищенки, которой в порыве откровенности она призналась, как страдает от своего одиночества, как мучается им. «Мученье вины не снимает, – сказала та, не принимая ее краюшку хлеба. – Зачем неправедной жизнью живешь?» Сейчас состояние души у Галины Мироновны было самое смутное. За стеной лежал ее мертвый муж. Но и мертвый он распространял вокруг себя зло! Соседки, которых она знала с детства, смотрели на нее испуганно, укоряюще. Она поймала два-три враждебных взгляда, искоса брошенных на ее крошечных детей, словно и они уже, ничего еще не зная о том, были втянуты в круговорот зла.
Материнский инстинкт вернул ей самообладание. Ей нужно было переступить сейчас через свое прошлое – через остатки любви, через пропасть потери. Прежняя жизнь оборвалась, как туго натянутая нить, и она держала в руках лишь ненужные обрывки.
Грудной ребенок заплакал. Она ушла в дальнюю комнату, подальше от трупа, села там, баюкая малыша. В комнате было жарко натоплено, дров они не жалели. А ведь она видела, как другие – заморенные подростки или согбенные старики – волокли, надрываясь, обгорелые балки для своих печурок. Не во всех семьях остались мужчины…
Ну что ж. Теперь и она не богаче других. Скорбное равенство принесло ей минутное успокоение. Но тотчас она подавила острый спазм плача, потому что вспомнила, кем был ее муж! А ведь он еще не был предан даже земле.
Она поднялась и надела пальто. У нее хватило дальновидности впервые за все тягостные годы замужества поступить так, как она должна была поступать всегда или давно: включиться в общую судьбу города. Она отправилась в комендатуру заступаться за заложников.
Ее резон был незамысловат и доходчив. Она знала, к кому обращалась, и не взывала напрасно к справедливости, но твердила, беспомощно моргая карими глазами, что виновные скрылись, это знают все, что у нее двое малюток, и она не хочет, страшится, ужасается, если кровь казненных невинно, по ошибке, в запальчивости и ради мести падет на их маленькие головки. Она боится взрыва ответного мщения.
– Кляйн кофп, – повторяла для убедительности ломано по-немецки, роняя слезы.
Она вышла из комендатуры несколько успокоенная обещанием немцев не казнить заложников, и теперь шла по улице измочаленная волнением, еле переставляя ослабевшие ноги, но впервые без стыда и без вечной заботы спрятать этот стыд…
Наша небольшая повесть окончена. Правда, можно было бы еще рассказать, как Трофим Андреевич Морудов с помощью Ганса Миллера под видом починки электропровода проник в подвалы гестапо, чтобы запомнить их расположение; как Костя Маслов тотчас после похорон Брандта на Семеновском кладбище отпечатал в типографии последнюю листовку и по приказу Михаила Федоровича Бирюлина, ставшего командиром партизанской бригады, вторично покинул город; как в те же месяцы в Витебске сражалась в подполье и мужественно погибла героиня белорусского народа Вера Хоружая – но это был бы совсем новый рассказ.
Владимир Фомич Кононов и Иван Петрович Наудюнас пережили все треволнения войны. Правда, Иван Петрович волочит искалеченную ногу и тяжело опирается на палку, которую называет своим «конем», но оба они здравствуют.
Михаил Георгиевич Стасенко и Евгений Филимонов погибли спустя полгода, девятнадцатого мая 1943 года, в стычке с карательным отрядом. По слухам, труп Стасенко был сильно изрублен, а Филимонов, возможно, отполз в кусты или был просто брошен карателями в беспамятстве, потому что еще трое суток мучился в Красном бору, стонал и звал мать.
Но даже в эти предсмертные трагические часы Женя был лишен злейших из мук – сомнения и неуверенности. Он умирал восемнадцатилетним, умирал, страдая от ран, но совесть его была чиста, а выбранный путь правилен – он умирал за Родину!
ЗЕЛЕНЫЕ ФУРАЖКИ

О ГРАНИЦЕ И ЛИТЕРАТУРЕ
Один человек, пробыв недолго на заставе, вспоминал потом мечтательно: «Какая там тишина! Прямо монастырская, обо всем забываешь».
Простим ему: он попал на заставу солнечным безветренным днем, когда травы источали тепло, а деревья стояли ствол к стволу, будто крепостная стена. Вот и услышал одну тишину. Так же, как мы, очутившись впервые в заводском цеху, прежде всего услышали бы, наверное, шум. А ведь и шум и тишина одинаково многолики для опытного уха.
Граница тиха. Она может оставаться тихой днями и даже годами. Но эта тишина непрочна, потому что может взорваться в любое мгновение. В ней таится тревога, как под пеплом огонь. И в ожидании этого мгновения, – чтоб не пропустить его, чтоб угадать, – живут в постоянном напряжении и собранности рыцари в зеленых фуражках. Их быт в самом деле схож с существованием затворников, но никто не осмелится сказать, что они напрасно расточают свою жизнь! Самоотверженность как норма каждого дня – разве это кому-нибудь по плечу, кроме настоящих мужчин?
Кто-то сказал, что человек может считать себя счастливым, если дни его наполнены трудом и радостями. Труд пограничного командира нескончаем, нет такого времени суток, когда бы он мог считать себя свободным от службы. Но тем больше его радость: знать, что за бревенчатой стеной, в двух шагах от него, ровно и верно бьется сердце жены.
Сколько их, этих молодых женщин, подобно ласточкам, слепившим свое кочевое гнездо то в дремучей Беловежской пуще, то среди каменных глыб Крайнего Севера, то между песчаными барханами, то на высоких берегах Амура! (Ведь знаменитая «Катюша» – это и есть песня о невесте пограничника.)
Мужество пограничниц скромно и неприметно до того решительного часа, когда они становятся рядом с мужьями уже как бойцы. История пограничных войск хранит имена героинь. Однако проходят годы и как бы задвигают память вглубь. Перо летописца способно воскресить многое.
У большинства читающих и пишущих о границе само понятие граница воспринимается экзотически. Это почти верно. Граница – особый мир, и он часто не похож на то, чем живут многие люди.
Однако плохо, что эта экзотика в литературе сразу получила направление дурного штампа. Потому что со словами «пограничный рассказ» сразу возникает в мозгу некая туманная картина: ночь, не слышно шороха, неусыпный часовой, вдруг… – и т. д. Нарушитель задержан, а часовой несет дальше службу, охраняя границу. Самое интересное то, что эта схема абсолютно соответствует действительности, потому что в самом деле все происходит так: ночью на границе очень тихо, а пограничный дозор не спит. Беда лишь в том, что, если взять эту голую схему, она ничего никому не расскажет. Нужна подоплека факта, нужны подробности факта, нужна вся атмосфера, и только тогда этот факт на бумаге воскресает и становится тем, чем он был в действительности.
Кто-то остроумно сказал, что миг поимки шпиона краток, а пограничная жизнь длинна. Дни, недели, годы. Кроме того, помимо чисто военной стороны жизни пограничников имеются и другие стороны. Граница – это действительно особый стиль жизни, свой быт, свои привычки, свои традиции: и большие традиции – воинские, и малые – повседневные. Например, люди в зеленых фуражках, где бы они ни были, ощущают себя общей семьей. Это очень трогательное чувство; оно создавалось не по приказу, его даже никто не пропагандировал, оно естественно вытекает из самого смысла пограничной жизни. Я говорю об этом, потому что сама выросла на границе, и до сих пор у меня сохранилась уверенность, что, где бы я ни была, в любом случае человек в зеленой фуражке придет на помощь.
И вот я думаю, что с точки зрения быта жизнь границы выдвигает тоже свои интересные проблемы в литературе, не похожие на проблемы других областей жизни. Скажем, такую – привыкание к границе. Ее можно назвать адаптацией молодого современного человека к природе, потому что ощущение природы, зоркость к малейшим изменениям ландшафта, понимание повадок зверей, чувство биологического времени просто необходимы для пограничника. И всему этому пограничнику-новобранцу приходится учиться с ходу, немедленно, старательно, ибо это не менее важно, чем чисто военные навыки.
Я довольно часто бываю на заставах, и как раз в пуще один начальник заставы рассказал, что, когда прибывает молодое пополнение, если даже они не горожане, все равно это люди из других частей Советского Союза. А Советский Союз большой. Здесь, в пуще, служат на заставах и степняки, и горцы, и жители пустынь, и парни из Заполярья, так что для них пуща, лес, совершенно незнакомый мир. К миру этому надо не просто попривыкнуть, притерпеться, но и овладеть им, внутренне сродниться настолько, чтобы чувствовать себя хозяином любого положения. Вот мне начальник заставы и рассказывал, как он старается почаще с молодыми солдатами пойти ночью в наряд. Зачем он это делает? Не только для того, чтобы что-то показать, указать этому солдату. Он знает, что непривычному человеку в ночном лесу просто-напросто страшно. В этом нет ничего смешного. Каждый по собственному опыту знает, как в темноте пень похож на волка, треск ветки чудится шагами. Ведь пограничниками не родятся, а становятся. Это и наука, и опыт, и призвание, и даже талант. Мне приходилось видеть действительно талантливых пограничников. Когда ясно, что человек создан для пограничной службы, он в ней чувствует себя, как рыба в воде. Вот одна из возможных тем.
Вторая, выбранная наудачу, – вечная тема любви. На границе она тоже приобретает особую тональность. Начнем с того, что и в мирное время девушка, выходящая замуж за пограничника, идет внутренне на большие жертвы. Она должна подготовить себя к тому, что ей придется бросить учебу, если она где-то учится, потому что на заставе нет институтов и техникумов. Если у нее была любимая профессия, ей от нее нужно отказаться. Есть такой термин: боевая подруга. Так вот он абсолютно точен в применении к жене пограничного командира. Ведь если начнутся военные действия, то жена пограничника берет пулемет и защищает заставу, как это и было двадцать второго июня 1941 года, чему я сама свидетель.
Женщина на заставе не случайный элемент, она полноправный член всей заставской жизни. Женщина на заставе – это и нравственное начало, потому что застава представляет собой как бы замкнутый мужской коллектив, оторванный от внешнего мира иногда на долгие месяцы и даже годы. Хорошая, умная, добрая женщина одним своим присутствием восполняет некий духовный пробел.
И, наконец, кроме таких локальных, что ли, тем, сама атмосфера пограничной жизни, ее антураж тоже не менее интересен, чем, скажем, жизнь на зимовке или где-то, где прокладывается нефтепровод.
Фон заставы может отлично пригодиться для развертывания любого сюжета – психологического, лирического, какого хотите. Возможность поворотов и ракурсов здесь просто неисчерпаема. Конечно, при этом нужно знать подлинные отношения и характеры людей границы.
ВСТРЕЧА ВБЛИЗИ МАЙДАНЕКА
В моем рассказе не всегда будут указаны даты, имена и точные географические названия. Не потому, что героя вымышлены. Напротив, они здравствуют и многие служат на границе по-прежнему. Но иногда тактичнее не злоупотреблять документальностью. Ведь биографии со временем претерпевают неизбежные изменения. Солдаты – сначала после трех лет, а более поздние призывы после двух лет действительной службы – возвращаются домой, к гражданской жизни. Молодые лейтенанты, набравшись опыта, становятся капитанами и майорами, многие достигают и полковничьего звания. Ветераны уходят в запас. Командирские дети, родившиеся на заставах, вырастают и выбирают собственный жизненный путь…
И все-таки многие подлинные имена мною сохранены! Хочется, чтобы читатель вплотную приблизился к живым лицам. Ведь эти люди интересны и значительны именно своими биографиями.
Пограничные типы… пограничные характеры… Бесспорно, профессия накладывает на человека определенные отметины. Но ведь и человек выбирает занятие, опираясь на собственные склонности? Те, кто отдают границе большую и лучшую часть своей жизни, уже неотделимы от нее.
Мне посчастливилось наблюдать таких людей долгий ряд лет в тесной семье заставы и среди содружества отрядного офицерства. Да что говорить! Один вид зеленой фуражки по сию пору вызывает мгновенный всплеск энтузиазма: молодой, надежный цвет!
Ивана Андреевича Павлова мы увидели впервые на писательском совещании в Бресте. Генерал представил его как гостя нашего совещания, и начальник заставы майор Павлов поднялся со своего места в полной парадной форме при орденах, с лицом сосредоточенным и напряженным, как бывало в старину на фотографиях, когда давалась слишком большая выдержка. Видимо, он был слегка смущен и чувствовал себя не вполне уверенно среди чуждой ему стихии.
Остановило мое внимание тогда вот что: генерал сказал, что Павлов командует своей заставой двадцать один год, ее так и называют теперь – павловская. В довоенные времена это был бы рекордный срок оседлости для пограничника! Я ведь знаю, как часто пограничные семьи с малыми детьми и минимальным скарбом снимаются по первому приказу, ускоренно обживая после лесной глухомани Среднеазиатские пески или снежные сопки Заполярья. Каждое такое перемещение требует мгновенной ориентировки командира, а от его домашних – душевной бодрости и умения акклиматизироваться на новой заставе. Собственно, без таких кочевий трудно вообще представить пограничное житье-бытье.
Но вот я вижу перед собой человека с твердым взглядом, размеренного в движениях, сдержанного, благожелательного, на котором так ловко сидит зеленая фуражка, – то есть, наитипичнейшего пограничника, а он, оказывается, выпал из общего закона воинских передвижений!
С Иваном Андреевичем мы разговорились, присев на парапет древнего люблинского замка. День клонился к вечеру; с утра мы проехали по автостраде четверть Польши. Дети по обочинам дорог махали нам вслед руками, а жницы и косари на узких, непривычных нашему взгляду крестьянских полосках, с трудом распрямляя затекшие поясницы, пытались рассмотреть, что это за кортеж пролетает мимо них в голубой бензиновой дымке?
К концу дня мы уже несколько приустали и, отойдя от общей группы, с таким удовольствием смотрели с высоты холма на мирный Люблин с его старыми и новыми кварталами, с зелеными купами садов. В нас еще не улеглась внутренняя тревога: два часа назад из-за поворота на большом плоском лугу, густо покрытом желтыми и голубыми цветами, серым муравейником бараков перед нами вдруг возник Майданек… Частокол ограды и паутина проволоки. Битые дождями зловещие башни цвета темного пепла.
День был пасмурный, прохладный, ветер качал травы.
Когда мы вошли в ворота, мальчик и девочка, которые гуляли между бараками так же беззаботно, как и по чистому лугу, увидав нас, взялись за руки, засмеялись и нырнули в черный зев двери. Оба были светловолосые, у нее – до колен белые гольфы, а у него – перекинутая через плечо ее белая пластмассовая сумочка на длинном ремешке. Эта сумочка и мелькнула, подобно чайке, впархивая в барак…
Наверное, надо было только порадоваться, что для них Майданек стал уже просто музеем.
А когда я вошла внутрь пустого барака, под темные стропила перекрытий, где лампы с глухими колпачками освещали лишь фотографии на стенах, и было так душно, а все вокруг словно одушевленно – даже когда стоишь неподвижно, отовсюду несется треск и всхлипы пересохшего дерева, а уж половицы гремят, как целый оркестр! – то мне пришлось несколько раз сказать самой себе, что я здесь одна, да одна, и бараки эти пусты уже много-много лет!..
Глядя на широкое закатное небо над Люблином, отходя только сейчас от внутреннего смятения, мы говорили, облокотясь на парапет, с майором Павловым обо всем понемногу, как люди, понимающие друг друга с полуслова: ведь общее восприятие прошлого роднит не меньше, чем долголетнее знакомство.
Он не смог или не захотел объяснить подробнее, что приковало его на два десятилетия к одной заставе, почему он отказывался от многих лестных назначений, но мне показалось, Что я угадала это как-то само собой, между слов.
Иван Андреевич дополнил собираемую мною по крупице модель пограничного характера еще одной важнейшей чертой. И в Люблине, и в последующие дни, когда мы вновь пересекли границу и возвратились к не менее трагическим и священным камням Брестской крепости, встречаясь с Иваном Андреевичем лишь мельком, перебрасываясь фразами на ходу, я не могла не поразиться четкому и трезвому мышлению этого заслуженного пограничного командира. Примыкая по возрасту скорее к старшему поколению, он между тем чутко ощущал разницу каждого нового армейского пополнения, и, может быть, потребность глубинно проникнуть в характеры этой новой юности каждый раз заново, не замыкаясь самому в прошлом, чтобы двигаться рядом с ней – или чуть впереди нее! – это и было главной пружиной его многолетней заставской службы.
Откуда я сделала такой далеко идущий вывод? А, знаете, по одной фразе майора.
Только что в зале заседаний выступал старый писатель, который с волнением пытался убедить всех, что сконструировал незыблемую вовеки схему пограничного рассказа – романтически приподнятого, где сущность человека в зеленой фуражке полностью исчерпывается его подвигом.
А Иван Андреевич, выйдя покурить в коридор, сказал:
– Как часто люди продолжают жить в своем времени, не замечая, что оно уже прошло. Ведь и подступы к подвигу меняются.
В этой емкой фразе заключалось столь многое, что, на мгновение даже остолбенев, я посмотрела на него долгим взглядом. Потому что, конечно же, нравственная почва, из которой произрастает готовность к героизму, не остается застывшей. Она подобна атмосфере: каждый следующий день привносит в нее свою новь. Прямолинейность мира все явственнее на наших глазах заворачивается в спираль, которая и есть Дорога Восхождений.
ДЕНЬ НА ЛЕСНОЙ ЗАСТАВЕ
Под туманным осколком луны пуща лежала единым телом, и лишь верхушки деревьев резко и угольно очерчивались.
Ночью у пограничников были свои, особые заботы. Когда наряды в пятнистых маскхалатах и сапогах, крупно обрызганных росой, возвращались на заставу, уже занимался день.
Обширны советские границы, но пути командиров-пограничников постоянно пересекаются. Поэтому мы не удивились, узнав здесь, в сердце Беловежской пущи, что не только начальник заставы Александр Сергеевич Куплевацкий, уралец по рождению, начинал свой солдатский путь на Камчатке, но и его отец.
То были первые годы Советского государства. Деревенский новобранец ждал от армии и воинской науки, и науки жизни: куда идти, в каком сражаться стане? Во что вложить молодую силу? Все это армия щедро давала своим питомцам. Она оказалась университетом для миллионов советских людей разных поколений.
Майор Куплевацкий – человек еще молодой, а служака старый. Во всех его повадках и манерах чувствуется «военная косточка». Он обезоруживающе приветлив, но когда надо – сдержан и даже суров. Майор озабочен не только днем насущным. Так же естественны для него размышления о будущем своих солдат: тех, кто уходит, и тех, кто придет на заставу. Вспоминая отца, вернувшегося из армии человеком достаточно зрелым, чтобы включиться в руководство только что созданным колхозом, Куплевацкий-сын думает о том, с чем уходят в жизнь его солдаты. Он научил их выносливости и дисциплине. Они уносят прекрасное чувство выполненного долга, потому что в течение службы пусть самая небольшая часть страны, но была прикрыта их грудью.
Нравственный вклад в души, конечно, существует. Однако майор задумывается и о том, что армия могла бы давать также стимул другого рода.
Сейчас нет малограмотных призывников: как правило, это юноши со средним образованием. Майор не может смириться с тем, что некоторые из них считают воинскую службу лишь перерывом в их учебе, в стремлении освоить высшую квалификацию. Майор уверен, что армия должна оставаться для молодежи университетом, источником не только военных, но и общих знаний, уже применительно к современным требованиям, школой духовного и физического возмужания.
Об этом мы толковали с майором рано утром, сидя у распахнутого окна.
«ЗВЕРИНЫЕ» РАССКАЗЫ ПОХИЛА
Привезя нас на заставу, шофер Анатолий Похил, солдат второго года службы, получил новое задание.
Накануне научный работник Беловежского заповедника обратился к пограничникам с просьбой посмотреть, не перешли ли границу шесть зубров? Ведь зубры на строгом учете, у каждого свой паспорт и своя кличка. Зубры – великолепный пример того, как человек не только эксплуатирует землю, но и бескорыстно защищает ее живую природу. Обреченные на вымирание браконьерами и несколькими войнами, опустошившими пущу, эти редкие мощные, первобытно красивые звери снова понемногу заселяют леса. Сейчас они – предмет изучения и забот целого научного коллектива.
Анатолий Похил – полтавчанин, ему всего двадцать лет. Он говорит «олэнь» с ударением на первом слоге, по-украински. Даже «зубр» в его произношении звучит мягко. Пуща ему несколько надоела, потому что с детства он привык к привольной украинской степи. Однако не будет ли он впоследствии скучать по пуще, покинув ее?
В лесных следах степняк Толя разбирается отлично.
– Вот олень бегал, – говорит он. – А это след лягушки.
Теперь и мы видим бесформенные отпечатки плоского брюха.
– Здесь мышь копала…
– Вы часто встречаете крупных зверей? – спросили мы у него.
– Часто. Но не очень близко. Вчера рысь дорогу перебежала. Такая длинная кошка. Припала к земле и проскочила.
– Рысь людей не трогает?
– Нет. Если на нее не нападают. Теперь чаще люди зверей трогают, чем звери людей. Правда, с одним солдатом был случай в наряде. Натолкнулся на него зубр, и чем-то он ему, зубру, не понравился. А зубр, когда злится, язык высовывает, он у него синеватый, как будто чернил наелся, и лижет языком ноздри. Тут уж надо за деревьями хорониться. Нашему солдату пришлось с полным вооружением убегать, ведь в зубров стрелять нельзя. А зубр не отстает. Тогда солдат на дерево влез и там отсиживался. Он сам из Ленинграда, городской. Будет и детям и внукам рассказывать, как с зубром сражался…
Мы прошли вдоль контрольной полосы и вернулись на заставу: зубриных следов не оказалось. Похил доложил об этом с нескрываемой радостью: он знал, что научные работники Беловежского заповедника обрадуются этому не меньше.








