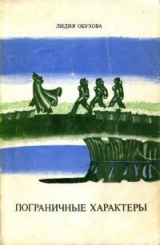
Текст книги "Пограничные характеры"
Автор книги: Лидия Обухова
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Словно отметина раскаленным углем врезался в память тот страшный рейд. Сверху их баржу поливали частым пулеметным огнем вражеские самолеты, а по смертельно опасной дороге между минами вела зигзагами утлая лодка-лоцман… Переправа стала началом долгого пути: госпиталь передвигался на санях, в телегах, грузился в вагоны-теплушки. Путь матери и дочери лежал то на восток, то на запад…
С десяти лет Вера научилась щепать дерево для лубков, стирать бинты, ходить за ранеными, кривыми детскими буквами писать под их диктовку письма. А когда мать добровольцем отпросилась на передовую, то пришлось бинтовать раны и на огневых позициях. «Дочка, у тебя рука легкая», – говорили солдаты.
Вера прошла с полком уже сотни верст и считала себя настоящей пограничницей, хотя ей едва исполнилось тринадцать лет, когда хмурый озабоченный генерал остановил ее. «Здравствуйте», – весело сказала она. Все ее любили, она ни капельки не робела перед генералом. Но тот внезапно возмутился: «Почему не приветствуете по форме?» Суровость тона была вызвана скорее всего сложной обстановкой, постоянным напряжением нервов.
Девочка чуткая, как все дети, не растерялась. «Потому что у меня нет формы и погон». В ее голосе явственно прозвучал укор пополам с надеждой: а вдруг?!
Генерал сдержал улыбку и строгости не убавил. Велел немедля отправиться к дежурному, передать приказ о полной экипировке и вечером явиться, как положено, для доклада.
И вот уже с зелеными погончиками на плечах, с красной звездой на пилотке, осчастливленная Вера стоит навытяжку: «По вашему приказанию боец Белякова явилась!»
Удивительная судьба, не правда ли? Вера Ивановна спустя тридцать лет твердит застенчиво: «Да что вы. Самая обыкновенная. Я ведь подвигов не совершала».
Ее пограничная судьба закончилась в Вене. Наверно, она была единственной, кто горько расплакался девятого мая, в День Победы: «134-й Рущукский полк, который стал для нее семьей, родным домом, готовился к передислокации! «Зато ты вернешься на родину, будешь снова учиться», – утешали ее. Но разлука с друзьями в зеленых фуражках представлялась девочке непоправимой бедой…
Где кончалась история одной пограничницы, начиналась судьба другой.
Выпускница московского техникума связи познакомилась на практике с солдатом погранвойск Иваном Кашириным, его род восходил к яицким казакам. Спустя несколько лет, уже с новенькими лейтенантскими звездочками на погонах, он приехал за своей нареченной и увез Людмилу на первую в их жизни заставу к берегу Керченского пролива. Юг? Красота? Как бы не так! Голая степь, бури на море. В магазине ближайшего поселка одна соленая хамса в бочках, да и та по карточкам (шли трудные послевоенные годы). А на грядках ничего не растет: засыпает песком. Курицу хоть за за ногу привязывай: налетит вихрь, проволочет по камням, так из бедной птицы перо, как из распоротой подушки!
Людмила не просто старалась перетерпеть трудности: она сохраняла постоянную бодрость, была со всеми приветлива и ровна в обращении, словно сразу догадалась, что такой и надлежит быть подруге пограничника.
Их первенцу Андрею не сравнялось и месяца от роду, а его с твердой земли уже перевели на колеса: отец получил назначение на Памир. Ехали в общем вагоне, купейные были тогда редки. Пеленки юная мать стирала глухой ночью, когда туалет был свободен, и сушила над собою до утра. Ей все казалось, что Андрюша так уж мал, слаб… В первый день попутчики не слыхали даже его голоса и не сразу догадались, что за белый узелок лежит на подушке?
В Душанбе стояла изнуряющая жара, но после вагонной тесноты Людмила была рада: их поселили в гостиницу, и она наконец искупала сынка, перегладила пеленки и чепчики. Десять дней в огнедышащем городе показались ей раем.
Когда Каширин получил назначение в Горно-Бадахшанский округ, для его молодой жены это был пока пустой звук. Она легко отнеслась к перспективе двухсуточного переезда в кузове грузовика, потому что рядом с шофером должен сидеть проводник – дорога такая, что того гляди сорвешься с крутой узины!
В горах жара сменилась влажной прохладой, а за следующим перевалом повалил густой снег. Ребенка на ходу закутали в ватное одеяло. Людмила Павловна столкнулась и с первой диковинкой: навстречу им ползла сама собою копна сена. Лишь вблизи она разглядела ослиные копытца и ушастую голову. В горах свой транспорт!
Южный город показался ей огромным орлиным гнездом. Были в нем, конечно, и современные дома, но лицо поднебесного города определяли тогда глинобитные дувалы и постройки из дикого камня. По неопытности она не запаслась ничем в хорогских лавках и потом, на заставе, кроила первые штанишки сыну… отцовской бритвой! Ножницы потерялись еще в вагоне.
Поначалу Людмила Павловна чуть не всякую ночь будила мужа: «Ваня, по-моему, по стене ползет змея!» – «Так спугни ее», – сонно отвечал муж.
Горы суровы, но горы и прекрасны. Застава располагалась в долине реки Пяндж, бурной во время таяния снегов и почти пересыхающей – больше камней, чем воды, – в жаркую пору. И всегда ледяной! Ног не омочишь. Сыновья Кашириных (на Памире родился второй, Дмитрий) только тогда научились плавать, когда отца перевели на западную границу, к веселой речке Систе, заросшей ивняком и черемухой. Но долго еще им мерещились величественные пики, пронзительный ветер, который играл, как на струнах, на жилистых стеблях горных трав, тревожные ночи, когда по сигналу на прорыв границы спешили все, и даже жена начальника заставы брала винтовку. Было ли ей страшно? За себя – никогда. Она твердо знала, что ее место рядом с мужем, в строю пограничников. «А помните, Людмила Павловна, как вы меня из-под снега выкапывали, когда нас лавиной накрыло? – спросил спустя много лет бывший сослуживец мужа, тогда лейтенант, а ныне подполковник. Она не помнила. За семь памирских лет самое необычное превратилось для нее в обыденное.
Поучительная вещь – семейные альбомы! Незамысловатые выцветшие снимки настолько примелькаются взгляду владельца, что – как и в собственном лице – он не ощущает по ним изменений.
Посторонний глаз острее. Простая жизнь Веры Ивановны Беляковой и Людмилы Павловны Кашириной представлялась мне исполненной прекрасного внутреннего смысла.
– Вы не жалеете, Людмила Павловна, о годах, проведенных на границе? – спросила я.
Она покачала головой.
– Конечно, нет. Где бы я еще столько узнала и увидела? Муж все жалеет, что не довелось нам побывать на Сахалине, на Курилах. Так я сыновьям сказала: вы уж извините, ребята, но, если отец соберется, я поеду с ним.
Вера Ивановна тоже никогда не переставала считать себя пограничницей, хотя все эти годы прожила в Москве, скромно работая в рентгеновском кабинете. Она ведет обширную переписку с однополчанами, бесконечно радуется, если удается разыскать еще кого-нибудь, оповещает об этом остальных, готовит общие встречи. Рущукский пограничный полк по-прежнему остается ее родней.
…И неожиданное послесловие. На днях пришло ко мне еще одно письмо, на этот раз с далеких Курил. Что же оказалось? И там служат люди, связанные своей судьбой со славным знаменем Рущукского полка! А сообщил мне об этом уже знакомый нам Виктор Спириденок: он стал командиром и попал куда хотел. Вот что он пишет:
«Здесь много такого, о чем даже не мечтал. Природный мир очень богатый. Например, вчера видел в двухстах метрах от себя сразу четырех медведей. Летом все ручьи забиты красной рыбой. Очень красивые берега, скалы. Есть на острове два действующих вулкана, горячие источники… Наш начальник заставы говорит: «Хоть граница протяженна, а… тесна! Куда бы ни поехал, везде встречаю знакомых».
Вот уж поистине так!
МОРСКАЯ СЛУЖБА
Покинем ненадолго сухопутную границу для морских рубежей.
Борт сторожевого корабля… Море огромно, море безбрежно; любое движение на его обманчиво-мягкой зыби почти неощутимо перед лицом низко склонившегося неба. И все-таки корабль быстроходен, как почти ни одно другое судно! Вижу это по пенящимся отвалам воды за кормой. Неистовствуют снежные буруны, и воздух, уплотнившийся до ощущения певучего металлического листа, расколот стремительностью бега. Мне жаль, что катер не носит особого имени, а лишь порядковый номер. Ему пристало название из эпохи великих географических открытий. Уже разведаны пути по морям, но тяготение юношеских сердец к морю во многом остается прежним. Что море человеку? Только ли символ стойкости и готовности к риску? Ведь любой час жизни на море наполнен, кроме того, и трудом. Море, как и граница, выявляет скрытые возможности характера. Запасы душевной прочности. Молодой человек, до этого имевший о собственной персоне преувеличенно лестное представление, вдруг ощущает себя как бы очутившимся перед кристально четким зеркалом. Мелкие изъяны характера, недоработки воспитания, провалы знаний – все, все становится явным. И тут на помощь самолюбию приходят внутренние силы. Натура подвергается двум мощным воздействиям: извне – от командиров и товарищей, изнутри – из желания совершенствоваться. Три года воспитания характера! Это ли не подлинная школа жизни?
У сторожевого корабля существуют свои изустные предания. Один раз в рыболовном порту он пришел на помощь траулеру во время ночного пожара. В другой принял сигналы «SOS» и не мешкал.
Ощущение постоянной готовности подтвердил мелкий случай. Командиру доложили: справа по борту плавающий предмет. Последовали четкие команды, повторенные штурманом и главным механиком. Корабль был приостановлен, развернулся, изменил курс. Оранжевый надувной поплавок невинно качался на мелкой волне, будто люлька со спящим ребенком. Но подцепили его со всевозможной осторожностью, тянули трос якоря с оглядкой. Появление постороннего предмета в сфере охраняемых территориальных вод чревато любой неожиданностью.
– А вдруг мина? – вырвалось у молодого матроса, который, напрягая мускулы, принимал канат на себя и плечом, и спиною.
– Еще медленнее, – приказывал капитан 2 ранга Очаковский, перегнувшись через борт и следя за бесконечно долгим выуживанием каната. – Следите, чтоб он не соприкасался с бортом.
Дуновение близкой опасности прошло по сердцам, как слабый разряд электрического тока. Все примолкли и насторожились. Скорее, это просто якорь, рыболовное грузило – а если?.. Именно здесь проходит граница, невидимая линия, затерявшаяся в голубой борозде между двумя волнами.
– Цементный кирпич! Грузило! Вот он!
И – разрядка. Живейшее любопытство, предположения: кто оставил? Скорее всего так отметили рыбаки место недавнего траления.
– Бросайте на том же месте обратно, – сказал командир.
Боцман заикнулся было, что надувной поплавок пригодится и в корабельном хозяйстве; стрелять в цели, например. Но приказ был уже отдан, и боцман – молодой, с веселыми щегольскими усиками – оставил надежду на даровое пополнение корабельного имущества…
Командир корабля Роман Яковлевич Очаковский посвятил морской службе уже более четверти века. Глядя на него, чувствуешь, как колеблется книжное представление о «морском волке»: ни лица, иссеченного морщинами, ни сурово нависших бровей. Это подвижный, приветливо улыбающийся моложавый человек. Его черные глаза по-южному горячи. С гипнотическим упорством они нет-нет да и упрутся в клочок почти белесого играющего полуденными искрами морского пространства, что видно из капитанской каюты… Море – привычка. Море – магнит. Море – призвание.
Пытаюсь расспросить, кем из экипажа он доволен, кому из новичков легче сжиться с морской стихией, и есть ли такие, что не могут привыкнуть вовсе? Роман Яковлевич удивлен: не любить море, по его представлению, нельзя. В самом этом слове скрыто уже нечто лестное, манящее и возвышающее человека. Даже морская болезнь – тошнота, укачивание – пробный камень. Тот, кто не хочет болеть, у кого есть характер, тот быстро превозмогает недуг.
– Нет, у меня экипаж весь хороший. И матросами, и мичманами, и офицерами доволен вполне!
…А мне пришел на память сухопутный пограничник, полещук родом, голубоглазый крепыш Гриша Сошнянин. Два года изо дня в день перед его глазами шумело близкое море, а ночами на молу мигал маяк. Раньше моря он никогда не видел. Оно его приворожило. Домой написал, что останется здесь. Мать всполошилась: на Полесье своей воды много, болота, реки в камышовых берегах. Возвращайся, сын!
Гришины желания разошлись надвое: тянет домой, к родным, но и пограничники стали близкими. Как остаться вдруг одному, без солдатского братства, без молчаливых часов наедине с границей, без моря, наконец?
Многие решают эту думу по-своему. Но уходит человек или остается – раз побывал в зеленой фуражке, то уже не избыть ему в душе ярких пограничных впечатлений до конца дней.
ЗА БЕЛОЙ ВЕЖЕЙ

МИРНЫЙ ГОРОД
Брест – один из самых уютных, обжитых городов, какие я только видела. Июньский зной, почти как в августе, умеряется здесь дыханием листьев, близостью двух рек – Западного Буга и Муховца. Это город старых деревьев: улицы его тенисты, как бульвары. Даже узкие мостовые с булыжником, пригнанным друг к другу, как паркет, наполовину прикрыты тенью.
И вот, выйдя из душного вагона, вместо того чтобы броситься в гостиницу под защиту прохладных стен, я пошла бродить по улицам. Проходила их одну за другой. Пестрые голуби клевали на тротуарах; прямо из асфальта поднимался цветущий жасмин. А в сквере, где стоит памятник Мицкевичу, специальной оградой был обнесен редчайший пирамидальный дуб – формой он похож на кипарис, кора почти черная.
И люди вокруг так спокойны, магазинчики так приветливы – даже в подарочном продавались не сувениры вообще, одинаковые от Ялты до Архангельска, а свои, белорусские, брестские вернее (кстати, здесь действительно есть маленькая фабрика сувениров).
Александра Александровна Добеева, вдова офицера, партизанская связная, продавец в магазине, говорит:
– Если стоит в очереди мужчина, я ему заверну как следует – ему в руках нести. А женщина с кошелкой и за листочек не обидится.
Только что зашло солнце. Оно так было похоже на красный корабль с высоким облачным парусом, что сколько я ни вспоминала закатов в своей жизни и северных, и южных – в Литве во время войны, когда на сизом небе гневно горело одинокое, будто вырванное с живого лица око; праздничных закатов на Черном море; величественных в Саянских горах; туманных и росистых в степном Крыму; или же незакатное полярное солнце, такое задумчивое, словно похолодевшее, – но припомнить что-то сходное с сегодняшним высоким солнечным парусом так и не могла.
– А однажды, – продолжала между тем Александра Александровна, – стоит в очереди подросток и говорит, что дал мне пятерку, а я сдачу даю с рубля. И вся очередь тоже приняла его сторону, даже сама засомневалась. Отсчитала сдачу, поверила. А через час он приходит и тихо так говорит: «Тетя, я ведь вам рубль дал. Вот деньги».
Я думаю: «Какая она, эта женщина, тронувшая сердце лгунишки? Какое у нее лицо?» Слышу только голос, низкий, глуховатый. Голос из репродуктора. Потому что это ведется по радио передача городского выпуска брестских новостей.
И вот, оказывается, в умилительно мирном зеленом городе о войне помнят до сих пор каждый день! Живут женщины, вдовы, и о них говорят, что они вдовы. А ведь тому уже минуло более тридцати пяти лет! Помнят, кто был партизаном, и тоже не упускают случая упомянуть об этом, как о звании, не отделимом от человека, пока он жив.
В некоторых городах оставляют на площади разбитый дом – пусть смотрят! Или танк, словно танкисты только что выскочили, – такой он живой и непохожий на памятник. У Бреста есть Брестская крепость. Город несет свою славу, не делая из нее афиши и не привыкая к ней.
Городские известия давно кончились. Спокойной ночи, незнакомая Александра Александровна. Завтра с утра я пойду на те трагические камни, где погиб ваш муж – они никогда не станут для вас музеем!
ЦИТАДЕЛЬ
Брест древен, ему тысяча лет, он старше Москвы. О Берестье – последнем городе перед польской землей – упоминала в 1019 году Ипатьевская летопись. Значит, город уже существовал: тысяча лет – цифра приблизительная, он, может быть, еще старше. Но не моложе.
Брестская крепость, которая здесь называется цитаделью, начала строиться в 1836 году, за год до смерти Пушкина, а окончена в 1841 году, когда на Кавказе убили Лермонтова. Не знаю, почему мне пришли в голову именно эти параллели. Военные мыслят датами битв. Для ученых летосчисление начинается, скажем, с Ньютона или Эйнштейна. Литераторам важнее всего те, чей гений связан с мастерством слова. Слово не самый простой и податливый материал; и сталь, наверное, отливать легче…
Во времена Николая I цитадель возводилась на славу. Двухметровые стены круговых казарм смыкались наподобие крепостной стены: потолки сводчатые, окна глубокие, как бойницы. До пятисот комнат, называемых казематами, которые при нужде могли вместить двенадцатитысячное войско.
Конечно, цитадель оставалась бы неприступной, если б не шла так быстро вперед военная наука. Появилась дальнобойная артиллерия, и крепость превратилась просто в военный городок, хотя усовершенствования велись и позднее. В 1911—1915 годах старшим производителем работ в крепости был тогда еще молодой инженер-капитан Дмитрий Михайлович Карбышев. Судьба генерала Карбышева, превращенного немцами в ледяной столб, стала уже легендой, хотя свидетели тому совсем не старые люди.
Такая же судьба выпала и самой Брестской крепости. Не знаю, дошел ли до генерала слух перед его мученической кончиной, что цитадель, к которой он приложил руки, подобно ему, предпочла погибнуть, но не сдаться.
О беспримерной обороне Бреста написано много. Но главная книга – Сергея Сергеевича Смирнова: то, что, казалось, кануло навеки, он вернул человеческой памяти. Своим пером он поднял крепость из руин, камень за камнем. Отдал почесть мертвым и вернул из забвения живых. Это не только страницы чужих подвигов, но и собственный подвиг писателя.
В первый день войны Брест штурмовала 45-я немецкая дивизия, известная тем, что входила в Париж и Варшаву. Приказ войти в крепость двадцать второго июня к 12 часам дня не казался ее солдатам поначалу слишком сложным: ведь перед ними лежал небольшой пограничный город!
Конечно, им не могло и в голову прийти тогда, что они не возьмут крепости ни сегодня, ни завтра, что они вообще не возьмут ее. Потому что то, что им досталось, было уже не крепостью, а лишь грудой камней; до сих пор в музее лежат кирпичи, оплавленные, как стекло.
Да и в самом городе с одним пулеметом и несколькими карабинами держался дом областного военкомата. Его не только обстреливали – его бомбили и наконец подтянули полевые орудия. Полевое орудие против единственного пулемета! А на вокзале первый бой приняли пограничники контрольно-пропускного пункта. Старшина Баснев занял оборону в подвалах. Не в силах справиться с горсткой отважных, немцы затопили подвалы.
Нет, не просто доставался маленький пограничный город фашистам! И все-таки они еще не знали, что так сопротивляться будет вся страна, а их 45-я дивизия, хоть и переступит советскую границу, но найдет полную и заслуженную гибель в бобруйском котле.
ЗАСТАВА КИЖЕВАТОВА
От лейтенанта Андрея Митрофановича Кижеватова не осталось фотографий. Та, что хранится в Брестском музее, запечатлела совсем юное лицо; петлицы еще без единого знака различия. Начальник девятой заставы был, видимо, совсем не таким. И застава находилась не там, где сейчас. Мы шли на эту новую заставу довольно долго: сначала берегом Муховца, потом через Горбатую кладку (так называется временный мост), потом узкой тропой по самой кромке границы. По пути нам попадались древние осокори – обхватить ствол едва смогут четыре человека! Вокруг цвели бузина и акация. Воздух жужжал пчелами. Мы шли и разговаривали с провожающим меня капитаном о самых разных вещах. Я еще ничего не знала про Кижеватова. «Кижеватовская застава» – это был пока звук, не заполненный содержанием. Да и сама застава показалась прежде всего хорошо возделанным цветником – повсюду клумбы, бордюры, палисадники…
Ни начальника, ни заместителя не было. В канцелярии за столом сидело «третье лицо» заставы – старшина. Он нам не очень обрадовался, потому что у него был ворох неотложных дел. Но мы только попросили по кружке холодной воды и, никому не мешая, прошли в ленинскую комнату. Там я взяла альбом «Дела и дни заставы» и наконец узнала, кем же был Андрей Митрофанович Кижеватов.
Девятая застава раньше располагалась в самой крепости. В первые же часы войны под обстрелом многие погибли, в живых осталось всего семнадцать человек. Начальник заставы Кижеватов приказал бойцам Еремееву и Алексееву прикрывать огнем пулемета Тереспольские ворота.
Немцы приближались спокойно. Они были уверены, что после ураганного обстрела никого из защитников не осталось. Но вот заработал пулемет Григория Еремеева.
У немцев был приказ: защитников крепости с зелеными петлицами в плен не брать, расстреливать на месте. Но пограничники и не сдавались! Окруженный Харченко подорвал себя гранатой; Морозов, когда патроны кончились, прыгнул с крыши дома вниз на врагов… Погиб и сам Кижеватов.
30 мая 1958 года заставе было присвоено его имя. Он посмертно стал Героем Советского Союза.
– Андрей Митрофанович был человеком немногословным и собранным, – сказала о нем Наталья Михайловна Канторовская, участница защиты крепости, жена пограничника. – Его словами были дела. А семью – жену и троих детей – расстреляли немцы в 1943 году за связь с партизанами. К нам приезжал брат Кижеватова, очень похожий на Андрея Митрофановича, с него скульптор и делал портрет.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОДВИГОВ
Первые послевоенные годы не складывались на западной границе мирно. По лесам и болотам рыскали бандиты. Они стремились прорваться за рубеж.
Пограничники пришли на голое место и ежедневно, кроме службы, работали по четыре – шесть часов: построили здания застав, наблюдательные вышки, проложили контрольно-следовую полосу. Приходилось недосыпать; в дождливую погоду не успевали сушить, обмундирование. Но служба шла, как всегда, бдительно и четко. Об этом повествует летопись заставы имени Кижеватова.
В ноябре 1944 года группа лейтенанта Думачева несколько суток искала в лесу следы банды. Бандиты засели в окопах и открыли огонь, но потом бежали, оставив убитых.
В январе 1945 года наряд в составе Чернывского и Михайлова обнаружил след пешехода на контрольной полосе. После доклада на заставу к наряду присоединился инструктор с собакой. Нарушитель открыл огонь, ранил инструктора Гавриша, пытался подорвать пограничника гранатой. Гавриш перехватил гранату на лету и далеко отбросил. Он награжден медалью «За боевые заслуги».
С 1958 по 1960 год на заставе служили братья Ларченко. В морозное утро двадцать первого декабря в густом тумане Владимир Ларченко был в наряде на острове возле погранзнака. В лощине он заметил следы, доложил на заставу и пошел на преследование по глубокому снегу. Задержал двух неизвестных.
В июньскую ночь 1959 года Андрей Верхогляд, освещая фонариком контрольную полосу, увидел вмятину. След в сторону границы! Верхогляд сообщил на заставу и быстро пошел к реке, чтобы отрезать путь нарушителю. Все ближние заставы поднялись по тревоге. Нарушитель был задержан, а Андрей Верхогляд награжден медалью «За отличие в охране государственной границы СССР».
Ефрейтору Антонову пионеры сообщили о подозрительном человеке на территории крепости. Летопись заставы сообщает:
«Обладая пограничным мастерством, Антонов сумел среди сотен людей найти по приметам неизвестного».
Итак, боевая жизнь заставы имени Кижеватова продолжается.
В ЗУБРИНОМ КРАЮ
Пуща берет в плен сразу: вековые деревья, как солдаты, стоят стеной. Мне еще не приходилось видеть сосен и дубов такого обхвата, вернее необхвата. И лесная крепость не покинута, не брошена, как какой-нибудь средневековый замок: она вся в птичьих голосах, в цветении лиловых колокольчиков, в цоканье белок, которых здесь тьма! От полян пахнет земляникой, как от медного таза с вареньем. Все, кто ходил по ягоду, знают особый «эффект»: то нет ничего, то вдруг красно под ногами – ступить некуда. Чуть отвел глаза – ягоды исчезли. Вот ведь – без ног, без рук, а в прятки играют.
Едва мы отъехали от заставы, как старший лейтенант закричал: «Останови!»
Газик проскочил по инерции, потом попятился. На широкой солнечной полосе в глубине просеки пасся олень. Он был спокоен, как большой теленок, шкура отливала медью.
В пуще дороги хороши, как нигде: пограничники бдительно следят за их исправностью. Асфальтовая земля ползет между корневищами, мощными, как слоновьи ноги. Угрюмый папоротник выплескивается на обочину, подобно темной воде. Веет то грибной сыростью, то сухим куреньем смол. Иногда хвойные отступают, и тогда чернолесье смыкает над дорогой ветви, будто девушки соединяют руки в хороводе. Становится почти темно, пока небо вновь не разорвет заросли и от яркого света в глазах не запрыгают по траве голубые пятна.
Второго оленя – лань, мы встретили шагах в двадцати от дороги. Она стояла у изгороди и жевала листья. Мы вышли из машины; маленькая дочка старшего лейтенанта ступала, как и я, на цыпочках. Лань все медлила и лишь шагах в десяти показала нам свой бархатный задик.
Зубры появились тоже внезапно. Они расположились на лужайке возле прямых, как колонны, сосновых стволов. Это было целое семейство. Мать-зубриха, горбатая, пепельно-коричневая, почему-то все время бодала трех зубров-погодков: от первоклассника до, возможно, первокурсника. Они лежали в траве, сбившись в кучу, отмахивались хвостами от оводов и иногда зачем-то подходили к матери. А та их гнала.
Наконец мы рассмотрели: крошечный зубренок, наверное, новорожденный, не больше крупной собаки, лежал у ее ног. Внезапно у подножия второго дерева столбом встала пыль. Вы видели, как валяется лошадь? Точно так же резвился папа-зубр. Когда он встал на ноги, то его величина, мощный загривок и висячая бахрома по шее произвели на нас самое внушительное впечатление. Это был рослый и, возможно, свирепый зверь. Хотя сейчас он находился в кругу семьи и благодушествовал.
Пограничники с зубрами знакомы накоротке. Звери «нарушают» границу: польские зубры заходят к нам и тотчас направляются в вольеры к кормушкам. Закусывать им не мешают, но потом возвращают по принадлежности. Один зубр повадился даже на заставу, к коровьему стойлу. Замечено, что зубры спокойно относятся к автомашинам, но терпеть не могут мотоцикла. Треск вызывает в них ярость, и они кидаются преследовать отвратительную тарахтелку. А скорость зубры могут развить до пятидесяти километров в час, и бежать им не обязательно по асфальту… Но вот коров зубры опасаются. Все видели, как взрослый зубр, столкнувшись с заставской буренкой, позорно удирал, задрав хвост.
Пуща населена зубрами уже довольно плотно: на нашей стороне их голов восемьдесят, у поляков тоже около ста. Из Беловежья зверей расселяют по другим заповедникам. Теперь они обживают Кавказ.
Удивительно, как много могут сделать всего каких-нибудь двадцать лет «мирного сосуществования»! Ведь зубры трагически вымирали. К концу войны их оставалось всего несколько голов. А нужно было так немного: запретить охоту, заготовить сена и подкормить зимой. И вот зубриные добродушные стада бродят ныне по лесу, охотно живут в вольерах и возвращают людям радость созерцания чего-то мощного, первобытно прекрасного, когда и деревья росли выше, и земля была моложе.
САМАЯ ЗАПАДНАЯ МАРИНА
От зубриного питомника мы возвращались дорогами, которые то ныряли в самую глухую чащобу, то выбегали на обочину типичного белорусского озера-болота, где чистая вода сменялась зеленой ряской и буйной зарослью осоки. Зеркало было безмятежно, озеро неглубоко; торчали островки, как шапки из зеленой овчины, и рогатые головы вывернутых с корнем пней.
Свернув, дорога пошла пообочь контрольной полосы. Вспахана она была мастерски: бороздка к бороздке, рубчик к рубчику.
– А если идти и заметать след? – спросила я. – Ну, скажем, палкой восстанавливать борозду?
Я дочь пограничника и знаю, что это весьма трудно. Спросила же на всякий случай. Моя собственная инспекторская проверка: как, мол, вы теперь охраняете границу? Так, как в мое время?
– Наметанный взгляд даже птичий след заметит, – ответил обиженно старший лейтенант, – а растяпа и зубриное копыто пропустит.
Когда мы ходили с его женой Тамарой по ягоды, она тоже все косилась на контрольную полосу: так, по привычке – вдруг что заметит?
Их пятилетнюю дочь я прозвала «самой западной Мариной», потому что ни одна советская девочка с таким именем западнее ее уже не живет. Так же, как в Кушке, есть своя самая южная Таня, а на норвежской границе, под городом Киркенесом, на самом северном клочке нашей земли благополучно здравствует самый северный Юра. Так вот эта «самая западная Маринка», выросшая на заставе, тоже неплохо разбирается в пограничных делах. Целый день она бегает в трусиках по лесу, комар ее не берет. Кожа у нее такая гладкая и смугло-золотая, словно она не девочка, а маленькая ланька.
– Ты не боишься заблудиться, попасть за границу?
– Как же я заблужусь? – с великолепным хладнокровием возразила Марина. – А контрольная полоса?
Маринка – не зубренок, она знает: на контрольную полосу ступить нельзя ни при каких обстоятельствах. Где начинается Польша, она определяет по-своему:
– У Польши дорога белая. Чтоб сразу было видно, где Россия, а где Польша.
Мы подошли к шлагбауму. И в самом деле – от последней нашей черты начиналась дорога другого цвета: это поляки еще не успели покрыть ее асфальтом и просто засыпали мелкой щебенкой.
– Приезжали в гости на заставу пионеры, – сказал старший лейтенант, – так взяли на память по заграничному камешку. А вы не хотите?
– Нет, – ответила я. – Я люблю свои камешки.
Мы ехали вдоль самой границы: березки были еще наши, а елки – уже их.
– Сейчас будет могила, – сказал старший лейтенант. – Смотрите налево. Голубая.
И действительно, я увидела деревянную голубую ограду и пирамиду, увенчанную звездой. В первые часы войны здесь сражался пулеметный расчет. Местные жители говорили, что против целой роты. Когда пограничники все полегли, немцы разрешили похоронить их на месте боя, даже поставить пулемет на могиле. Тогда еще они могли позволить себе такое великодушие; им казалось, что вся Россия лежит перед ними как на ладони. Но после Сталинграда, обозлившись, фашисты разорили могилу. И пулемет бы унесли, если бы его не спрятали раньше местные жители. Сейчас он стоит в приграничном селе Каменюки возле обелиска, тоже став памятником.








