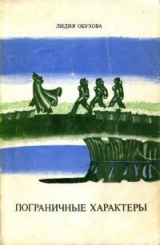
Текст книги "Пограничные характеры"
Автор книги: Лидия Обухова
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
И действительно, первые Сашины слова повергли его в смущение.
– Вы ведь часто видаетесь со старым Брандтом, Иван Францевич?
– Ты осуждаешь меня за это? – прошептал старик.
– Я вам верю, – просто сказал Александр.
Тот с горячностью подхватил:
– Да, да! Верь мне. Я благодарю тебя за эти слова. Если б я мог доказать тебе делом, как мне противны отступники!
– Вы можете, Иван Францевич. Настала и ваша минута послужить Родине.
Дальше они говорили уже так тихо, что, находись в каморке тайный соглядатай, он бы все равно не расслышал ни слова.
Иван Францевич покинул дом задолго до комендантского часа. Он продрог, прячась до глухой ночи между камнями в обледенелых погорелищах. Но у его двух спутников лягушечьего цвета шинели, подбитые ветром, грели еще меньше! В глубокой тени за углом дома, прислушиваясь, не скрипит ли снег под сапогами близкого патруля, Иван Францевич выскользнул из укрытия и прошмыгнул в парадное двухэтажного дома напротив кинотеатра «Спартак», где поселились фольксдейчи.
Выпрямившись и глубоко вздохнув, как человек, который выполнил тяжкий, но необходимый долг, он молча указал на дверь справа. Не открывая рта, оба пожали ему руку. Иван Францевич тотчас повернулся и ушел. Ему предстоял опасный обратный путь через задворки и сугробистые овраги, через замерзшую в нагромождении льдин Двину. До рассвета он должен был очутиться в собственной постели.
Когда прошло время, достаточное, чтобы ему отойти на приличное расстояние, один из ночных путников, требовательно постучал в дверь.
– Из комендатуры. Отворите, – громко сказал он по-немецки, совершенно не заботясь о том, слышат ли его соседи.
Подчинившись командному окрику, полуодетый Брандт отомкнул дверь…
Утром, в хлебной очереди, Костя услышал возле себя шушуканье. Искоса он посмотрел на двух женщин, закутанных в тряпье. Глаза их возбужденно блестели.
– Как тебе это нравится? – прошептала одна.
– Что?
– Старого Брандта укокошили. Прямо в голову… Вот такие дырки!
– Давно пора!
Обе прикусили языки и испуганно оглянулись. Но Костя смотрел в сторону.
В тот же день в типографии он набирал короткое сообщение о «злодейском убийстве».
Молодой Брандт появился в редакции лишь ненадолго. Смерть отца он воспринял как-то замороженно-чопорно: хлопотал о похоронах, но ни слез печали, ни взрыва горя не только Костя, но и Галина Мироновна в нем не заметили.
Не появилось у него и желания прикинуть на невидимых грозных весах собственные проступки, – а жена втайне на это так надеялась! Ведь ее самое весть о гибели свекра заставила прежде всего облиться холодом ужасных предчувствий…
Сенсационное происшествие так и осталось загадочным. По крайней мере, группа Морудова, с которой был связан Костя, ничего об этом не узнала. Районный бургомистр, довоенный сослуживец, был убежден, что это дело рук самих немцев: когда человек становится им бесполезен, его убирают подобным способом. Он говорил об этом Морудову шепотом и все время пугливо озирался; уже больше месяца он не выходил на работу, ссылаясь на болезнь.
– Может быть, они не поладили с Родько: ведь один из них связан с СД, другой с комендатурой: между ними всегда соперничество. Уверяю тебя, это немцы!
Морудов тогда не очень поверил, но когда спустя несколько недель сам его собеседник погиб таким образом – на пустой дороге его догнала и сбила немецкая машина, – ему пришлось призадуматься.
Саша Белохвостиков и Иван Францевич не вымолвили никому ни слова: говорить было нельзя. А когда стало можно, их обоих уже не было в живых: старый музыкант не дожил до конца оккупации, угаснув от голода и болезней, а отважный подпольщик погиб в подвалах гестапо.
Недалеко от Витебска стоял ничем не приметный Лука-хуторок. Изба под старым дубом на пригорке среди болота была покинута обитателями еще до первой мировой войны. А жило там некогда семейство Петра Адамовича Наудюнаса, выходца из Литвы. С женой Эльжбетой и семерыми детьми Наудюнас перебрался в деревню Мармуши, где купил несколько десятин скудной кочковатой луговины. Его третий сын, которого крестили Ионасом, а звали Иваном, зимой возил из лесу дрова, летом пас скот. Подростком его взяли подручным в кузницу – так был широкогруд, крепок мышцами, ловок и сметлив в работе.
Молодая Советская власть, богатая надеждами, увела его из деревни сначала на торфоразработки, где он увидал паровые локомобили; а в 1928 году он уже держал экзамен на механика. Обставлено было все очень торжественно, из Москвы приехала комиссия и поблажек никому не давала: из двенадцати сдававших только двое получили дипломы на бумаге с золотым обрезом. Одним из них как раз и был наш Иван Наудюнас, бывший кузнец, красавец и силач, которого никто еще до той поры не перебарывал.
В двадцать один год, как тогда полагалось, он ушел на армейскую службу; попал в ремонтные железнодорожные мастерские, после армии вернулся в Витебск, где жили его старшие братья. Родители оставались пока в маленьком пригородном колхозе «Мопр».
Иван начал работать машинистом на пуговичной фабрике, но вскоре его как знатного мастера уговорили перейти на деревообделочную, где бездействовал иностранный локомобиль.
Когда он появился в цехе – красноармейский шлем со звездой, косая сажень в плечах! – прежний механик зашипел за спиной, что, мол, починенный локомобиль не протянет и двух дней. Потом накинул две недели, два месяца… Машина работала. Наудюнас не посрамил себя. Хотелось ему покрасоваться и в глазах невесты Надежды, работницы с пуговичной фабрики. Когда он водил ее в кинематограф по воскресеньям, так было приятно видеть и свой портрет среди ударников.
Большая семья Наудюнасов всегда отличалась дружностью. Получив одобрение Надеждиного отца Григория Ларионовича, полного георгиевского кавалера, Иван женился и поселился вместе с родителями и женатыми братьями в собственном доме на Оборонной улице (колхоз «Мопр» преобразовали в совхоз, и старики получили за хозяйство компенсацию).
До 1940 года изменения в жизни Ивана Петровича Наудюнаса заключались лишь в том, что у него родилась дочь Роза да починенный с таким трудом локомобиль пришлось передать на украинский крахмальный завод.
Зеркальной фабрикой окончилась производственная работа Наудюнаса, и началась другая – советская и партийная. Вскоре после освобождения Западной Белоруссии его направили в Ошмяны организовывать сельсоветы. Там он получил первое ранение.
Случилось это так. Уже затемно прибежал местный активист: какой-то прохожий подозрительного вида спрашивал дорогу у его жены. Они тотчас бросились вслед; чужак стал отстреливаться, но его все-таки схватили и привели на заставу. Пограничники перевязали Наудюнаса. Неизвестный оказался крупным шпионом.
Шел март 1941 года. А июнь застал его работником укома маленького литовского местечка Свентянеле.
В воскресное солнечное утро Иван Петрович в майке и шлепанцах вышел на балкон. Он жил соломенным вдовцом и очень скучал без семьи; жена с пятилетней дочкой оставались пока в Витебске.
По дороге на бешеной скорости в круглом облаке пыли кто-то мчался на мотоцикле. Он бездумно следил за приближением мотоциклиста, пока с удивлением не узнал в нем уездного прокурора.
– Ты что, – закричал тот, закинув голову, – не знаешь, что война?!
– Какая?
– Немец на нас напал!
Меньше чем за минуту, по старой солдатской выучке, Наудюнас был одет, проверил пистолет, сунул запасную обойму. Не растерявшись, поставил охрану у единственного общественного здания – на почте. Но связи уже не было. Военком раздал винтовки. Они отходили оврагами на восток и видели, как воинский эшелон с лошадьми немецкий самолет забрасывал на бреющем полете связками гранат.
Пристроившись в хвосте какой-то колонны, обе их машины проехали по узкой дороге через Свентяны и попали в затор; передние шарахнулись обратно – из ржи ударила пулеметная очередь. Но отступать было некуда. С винтовками наперевес, в ожесточенном задоре, с криком «ура!», они яростно скатились в низину…
Через двое суток Наудюнас сдавал привезенные им партийные документы в Витебский обком. Коммунистов спешно рассылали по районам. Его заданием было остановить торфоразработки на Красном болоте, мобилизовать рабочих и колхозников на раскорчевку кустарника и выравнивание поля под аэродром.
Но над неоконченной посадочной площадкой кружили уже вражеские самолеты; когда по ним начали стрелять с земли, они закидали всю поляну бомбами. Контуженый Наудюнас, у которого онемела правая сторона, поковылял обратно к Витебску.
Город пылал. Домой он уже и не пробовал заходить; на улицах показались немецкие передовые части. Берегом пробрался на Поддубье. Ночь провел в кустах, а утром выглянул и увидал сквозь ветки, что по проселочной дороге на Лиозно на танкетках и мотоциклах тянутся фашисты. Дождавшись интервала, Наудюнас перебежал дорогу и, углубившись в лес, встретил блуждавшего, как и он, Леонида Логейко, директора протезного комбината. Логейко потерял ногу в боях на озере Хасан и носил протез собственного изготовления. При своем высоком росте он казался очень худым, а длинный нос его словно вытянулся еще больше.
– Что будешь делать? – спросил он. – Я оставлен в тылу по партийной линии. Присоединяйся.
Наудюнас согласился и принялся прятать партийный билет в голенище сапога. Логейко с сомнением наблюдал за его манипуляциями.
– Опасно держать при себе-то…
Но Наудюнас с неожиданной горячностью заартачился:
– Умирать буду, а с партбилетом не расстанусь ни на минуту!
Логейко не возражал.
Приходилось возвращаться в Витебск.
На Оборонной улице Наудюнас застал лишь погорелище. Жена ушла на фронт, а дочку отправила с дальними родственниками в тыл. Рухнула вся его прежняя жизнь – такая обыденная, незамысловатая, но какая же счастливая, как он понял теперь!
Из осторожности он не стал разыскивать братьев, а спустился в овраг, вымытый Витьбой и густо заросший садами, к домику рабочего Омелькина, знакомого ему еще по пуговичной фабрике. Жена Омелькина Ефросинья Харлампиевна поспешно увела детей. Мужчины заперлись.
– Ну что ж, Иван Петрович, будем пережидать лихолетье? – сказал Омелькин.
– Придется, Лаврентий Григорьевич. Только нашей советской души им не переделать!
– Нипочем, Иван Петрович!
Разузнав у Омелькина о теперешних порядках, Наудюнас отправился на биржу труда. Ему поставили в паспорте штамп. Логейко устроился на старом могилевском базаре в мастерской по ремонту медицинских инструментов; Наудюнас, неподалеку от него, часовщиком.
Немецкие офицеры, которые часто чинили у него часы, торопили:
– Работай шнель, рус. Завтра уходим на фронт!
Так он узнавал о передвижении частей. А часы ходили ровно столько, чтоб владелец их мог выехать из города. Один заказчик случайно задержался и в бешенстве прибежал обратно: «ур» встали.
Внутренне давясь от смеха, но внешне смиренно, Наудюнас сказал:
– Пан, не волнуйся, все исправим. Пойдет твой ур, как танк!
Танк… смелый советский танк, который протаранил врага, защищая памятник Ленина. Он все еще лежал перевернутый на обочине дороги, и немцы любили фотографироваться на нем. Видеть это было нестерпимо.
– Справим поминки по танкисту? – сказал однажды Логейко. Они подложили взрывчатку, которую доставили связные от партизан.
Рвануло так, что от любителей фотографий не осталось мокрого места, а полтанка перекинуло через дорогу…
За месяц до убийства старого Брандта Логейко спросил мимоходом, не говорит ли Наудюнас по-немецки?
– Нет.
– Жаль. Тогда отпадает.
Спрашивать ни о чем не полагалось, но позже, сопоставив факты, Наудюнас заподозрил, что и Логейко подумывал о ликвидации предателя. Весной они расстались навсегда. За Логейко немцы установили слежку и, посоветовавшись, друзья решили, что ему пора уходить. Глухой ночью Логейко и его жена покинули Витебск. Но до партизан они так и не дошли; их след потерялся где-то за Лиозно…
Через две недели Наудюнас увидел, что мастерская часовщика – второго человека из подпольной группы, которого он знал, – тоже закрыта. Что оставалось делать? Не чинить же, в самом деле, немцам часы, ожидая погоды?!
В ближайшую субботу он отправился к Омелькину, которому полностью верил. Они зашли поглубже в огород и, разговаривая шепотом, сели на меже. Там, в картофельной ботве, Наудюнас и ночевал, пока бывший односельчанин Мотыленко не переправил его в лодке через Двину, в партизанский край. Брат Мотыленко был оружейником у батьки Миная…
После январского наступления 4-я армия почти год держала знаменитые витебские ворота – прорыв фронта шириною в шестьдесят километров! Во всех деревнях и местечках на этой территории была полностью восстановлена Советская власть.
Со странным умилением смотрел теперь Наудюнас на самое простое: на советские армейские шинели, на русские вывески, даже на милицейскую форму! Все было мило, привычно, знакомо, словно он проснулся после тяжелого сна.
Здесь, в деревне Долговицы, он и познакомился с двадцатилетним Владимиром Кононовым, а также с его матерью, у которой в доме на Пролетарском бульваре была партизанская явка.
Веселый, умный парень понравился Наудюнасу. Их назначили командирами отделений в одну диверсионную группу, и оба приняли боевое крещение на реке Пудати, целый день отбивая атаку крупного немецкого отряда.
На телеге лесными тропами они добрались до штаба.
– Мы хотим поручить вам очень опасное и ответственное задание, – сказал полковник. – Вы, витебчане, знаете город. Но предупреждаю: риск огромен! Обдумайте все: доверяете ли вы друг другу? Еще не поздно отказаться.
Оба одновременно покачали головами.
После тщательной тренировки – их учили стрелять левой рукой, мгновенно, без размаха, швырять гранаты, действовать холодным оружием – проводники повели их к Витебску.
Стояла поздняя холодная осень 1942 года. Путь лежал через болото, берег которого был сплошь изрыт немецкими блиндажами. Не шевелясь, часами стояли Наудюнас и Кононов в ледяной воде среди сухого камыша, дожидаясь темноты. Перебегали между двумя вспышками осветительных ракет. По Пудати плыли уже первые тарелочки льда. Вода доходила до горла. Но еще труднее стало им в обледеневшей одежде карабкаться по крутому обрыву. Войдя же в густой лес, оба неожиданно потерялись – такая стояла кругом темень! Натыкаясь на стволы, они почти ощупью нашли друг друга. Чтоб хоть чуточку обогреться, разожгли огонек, заслонив его телами. И лишь в последней деревеньке партизанской зоны их пустили на горячую печь.
Следующий день они уже шли через бригады Шмырева. Неожиданно встретили Александра Михайловича Мотыленко, партизанского кузнеца-оружейника.
– Мотылек! – закричал ему Наудюнас, называя ребячьим прозвищем, принятым у них в деревне.
Старые приятели обнялись. Мирным и далеким повеяло от взаимных расспросов. Оба когда-то работали на пуговичной фабрике, в одно время женились на товарках-работницах. Где та фабрика? Где ныне их веселые стриженые комсомолки-жены?..
Последняя остановка на партизанском берегу в маленькой халупе ушла на завершающие приготовления; проверили пистолеты ТТ, взяли с собою по две обоймы и по нескольку гранат, остальное оставили.
Выше и ниже по Двине стоял лед, но здесь вода была чистая. За час до рассвета их переправили в лодчонке на левый берег. Стороной они обошли немецкие заслоны и утром девятого ноября были наконец в Витебске.
Жизнь никогда не баловала Женю Филимонова. Кроме, может быть, первых лет раннего детства, когда он дышал вволю деревенским воздухом, пил сладкую колодезную, воду, гонял босиком по мягкой траве, шлепал по лужам, да невозбранно набивал рот щавелем или зелеными гороховыми стручками. Все беды и огорчения взрослых проходили тогда мимо него. Он даже не понимал, что их избу то и дело посещала смерть: умирали младшие, умер отец. Об отце он помнил очень мало, и вообще окружающее начало оформляться в его сознании лишь с переездом в Витебск, где он пошел в школу.
Они жили в бараке на Задуновской улице. Мать работала прачкой и поломойкой; дети понимали, что требовать от нее ничего нельзя, а Женя рано научился добровольно отказываться даже от тех минимальных поблажек, которые хотела иногда сделать ему Марфа Михайловна.
– Мам, не надо. Лучше Гале.
Сестра, старше его годом, казалась такой слабенькой, заморенной, он жалел ее. Он вообще рос жалостливым: на его мальчишеской совести не было ни одной обиженной кошки, ни одного подбитого камнем воробья. Мать передала ему единственное свое богатство – здоровье, и к семнадцати годам это был крепкий, рослый парень с прямыми темными бровями и ясным взглядом. В его лице сохранилось еще много детской миловидности – и в легко пламенеющих раковинах ушей с оттопыренной мочкой, и в подбородке, похожем на яблоко. Разве лишь щеки начали уже терять пухлость, хотя оставались по-прежнему гладкими, упругими, с тем матовым налетом свежести и чистоты, который сразу рождал сравнение с чем-то майским, росным, едва раскрывшимся для бытия…
Несмотря на простодушие и некоторую наивность, Женя был лишен ребячливости. Привык к испытаниям, и с первых дней войны, не колеблясь ни минуты, стремился только к одному – к активной борьбе. Он знал, что его двоюродный брат Николай ушел к партизанам, – но на этом ниточка и оборвалась! Трудно предпринять что-то в одиночку; Женя это сознавал и высматривал себе напарника. Им вскоре стал Михаил Стасенко, человек старше его ровно вдвое.
Стасенко вернулся в Витебск еще летом сорок первого. Однажды поздно вечером он постучался в дверь своего шурина, который жил на фанерной фабрике. Шурин был тогда безусым пареньком, очень похожим внешне на сестру. Стасенко, серьезный, сдержанный, в его глазах выглядел всегда образцом недосягаемой принципиальности. В нем так заманчиво для юнца сказывалась пограничная косточка! Хотя зять и не носил щегольства ради зеленую фуражку (которую шаловливая Ольга именовала за глаза «капустой»), а сразу перешел на штатский костюм, шурин привык видеть его в недорогой, но безукоризненно чистой трикотажной сорочке с галстуком и в отглаженном шевиотовом пиджаке. Волосы у Стасенко были редкими, и он зачесывал их очень гладко.
Теперь же на пороге стоял растрепанный, давно небритый оборванец, с босыми, сбитыми в кровь ногами, измученный жаждой и голодом. Однако не проглотив еще и куска, он спросил с беспокойством:
– Где Ольга? Жива?
Шурин успокоил: сестра успела уехать вместе с ребенком в эшелоне беженцев дня за четыре до прихода немцев.
– Слава богу! – воскликнул неверующий Стасенко и накинулся на похлебку, хотя проглотил первую ложку с трудом. Горло ему перехватило: до чего же Юрий напоминал сестру этими своими глазами с навернувшейся слезой!
И все-таки через несколько дней он ушел с фанерной фабрики. После окружения и побега из плена он не готовился к неприметному существованию – лишь бы перебедовать! Напротив, как и Женя Филимонов, он искал действия.
Вся жизнь Михаила Стасенко была предельно проста. Ординарными казались те житейские вехи, которыми он шел от дня рождения в воронежском селе Валентиновке – еще до Октября, в крестьянской семье среди скупо нарезанных пахотных полос, – до того, что случилось с ним, спустя тридцать четыре года, в белорусском городе Витебске.
Нет, мы оговорились: не случилось, – в этом глаголе есть нечто пассивное, – он сам с неизбежной последовательностью выбрал из многих возможностей именно эту, а не другую. Так простота обернулась сложностью; будничность судьбы – ее внутренним накалом…
С Женей Филимоновым они подружились, когда Стасенко поселился в том же бараке, на втором этаже, у одинокой молодой женщины. По военному времени это был обычный союз, хорошо маскировавший Михаила под безобидного кустаря: он попросил у Марфы Михайловны Филимоновой швейную машинку и занялся изготовлением шапок-ушанок…
Когда люди ютятся так тесно, как обитатели барака на Задуновской улице, истинная ценность каждого становится ясна довольно скоро: насколько человек живет для себя и насколько для других? Между ними и ежедневным бытием словно проскакивает молния, соединяя со своими ближними или отталкивая от них.
Если в обычное мирное время всеискупающие человеческие качества – отвага, бескорыстие, самозабвенная любовь к Родине – не так уж видны, притушены повседневными заботами и не выставляются напоказ, то теперь лишь они становились важны. Их искали друг в друге, обретая достаточный слух и чутье на внутреннее богатство душ.
Это была и потребность и необходимость.
Собственная личная жизнь только тогда наполняется смыслом, высветляется для самого себя, когда она направлена на других, когда есть ради кого мучиться, жертвовать, напрягать подспудные силы, ощущая от этого не убыль, а прибыль; переполнение собственного существа радостью и удовлетворением…
В том же бараке жили во время оккупации три сестры – Дуся, Люся и Майя. Младшая была незамужней, а две другие носили фамилии мужей.
И вот одна из них, Дуся Мазикова, столкнулась случайно на улице с Наудюнасом, которого знавала до войны.
– Иван Петрович, вы появились? – радостно воскликнула она, ничуть не удивившись его странному виду: в щегольском кожаном пальто, с пилой за плечами.
– Да, Дуся, я. Здравствуй. Нужна мне парочка надежных парней. Есть задание, очень трудное. Не имеешь ли кого на примете?
– Конечно! Очень хорошие, проверенные товарищи. Все никак не можем их переправить… Заходите завтра, а я с ними уже переговорю.
Так Наудюнас и Кононов встретились с Михаилом Стасенко и Женей Филимоновым.
Вступив в черту города две недели назад, наши партизаны столкнулись сразу с непредвиденной трудностью: изготовленные для них документы существенно отличались от тех, которые имели последнее время хождение в Витебске!.
На окраине по Великолукскому большаку, в доме Антона Михайловича Мотыленко, они сравнили чернила и печати и пришли к выводу, что если такие бумаги показать, то уже может не остаться и секунды на то, чтобы выхватить пистолет. Приходилось рисковать вдвойне – жить без всяких документов.
Жена Мотыленко, Людмила, по просьбе Ивана Петровича пошла через весь город к его брату Иосифу: можно ли прийти вдвоем? Брат ответил, что семья как будто не на подозрении, пусть приходят.
Так они и двинулись с топорами и пилой, заглядывая во дворы: не надо ли кому дров порезать?
Лишь на Оборонной улице, где в уцелевшей чужой пристройке приютилась семья Иосифа Наудюнаса, Иван Петрович смог переобуться в собственные сапоги и надеть добротное кожаное пальто.
Шансы их несколько поднялись: ведь немцы встречали людей по одежке. Хорошо одетые люди вызывали у них меньше подозрений: идут трудяги, хотят заработать лишнюю марку…
Пробыв несколько ночей на Оборонной, Наудюнас и Кононов перебрались затем к безотказному Омелькину. Лаврентий Григорьевич помнил прежний разговор о советской душе и рад был помочь.
…Напрасно, ах напрасно глава полицейской службы в Витебске полковник фон Гуттен заявил некогда с такой самодовольной спесью, что если держать местное население в постоянном страхе, то тем самым оно придет в подобающее повиновение!
Рабочий Омелькин не желал повиноваться. Жена его Фруза, мать малолетних детей, не боялась фон Гуттена!
Наудюнас попросил старшую дочь Омелькиных, шестнадцатилетнюю Марусю, показать ему Брандта. Потому что пора это уже открыть – именно он, Александр Брандт, редактор фашистской газеты, и был целью их смелой вылазки.
Брандт весь октябрь пробыл в Германии. Он проехал Восточную Пруссию и Саксонию, был в Кенигсберге, Дрездене. И теперь, ничтоже сумняшеся, выступал с серией публичных лекций и статей на тему о превосходстве арийской культуры над всеми остальными, а также о том, как сытно, необиженно и привольно процветают «восточные рабочие» при скотных дворах немецких помещиков или за проволокой трудовых лагерей…
Наудюнас увидал Брандта впервые со спины: высокий, длинное пальто, несколько сутулые плечи.
Что касается Владимира Кононова, то ему надо было просто не попадаться на глаза: Брандт мог помнить его достаточно хорошо. Как все, кто сталкивался в ранней юности с Александром Львовичем в его первой ипостаси – школьного учителя, Владимир тоже был в свое время пленён блеском плавно текущей речи и всем обликом просвещенного интеллигента. Однако порог разочарования переступил быстрее и легче других. Его твердый внимательный взгляд всегда был направлен вперед, – а Брандт принадлежал прошлому! Вчера еще наставник, сослуживец (потому что Владимир сначала окончил школу, а потом сам вел в ней уроки физкультуры), он разом превратился в угрозу тому целостному миру, в котором обитал Кононов со дня рождения и твердо был намерен жить всегда. Брандт тщился замутить этот ясный Володин мир – Кононов встал на его защиту!
Женя Филимонов, как и Стасенко, Брандта лично не знал, но его сестра Галя до войны училась в Десятой школе и однажды прибежала в слезах.
– Он прошел и не посмотрел… ведь он же наш учитель! Он меня учил…
Женя скрипнул зубами.
– И ты с ним поздоровалась? С фашистским прихвостнем?!
Галя виновато взглянула на него.
– Женик, я забыла. Правду тебе говорю. И про войну, и про все. Я шла, а он сразу навстречу… Я и говорю: «Здравствуйте, Александр Львович!»
Не в силах пережить обиду, Галя снова заплакала, тихо, но так надрывно, что Женя не мог выдержать. Худенькая, почти прозрачная, она, казалось, готова была истаять в этих слезах.
– Неужели ты будешь из-за него плакать? – с силой сказал он.
Галя разняла ладони, которыми прикрывала лицо. Мокрыми глазами посмотрела на брата.
И вдруг оба стали похожи: черты сестры переняли ту же суровость, то же яростное омерзение, которые были написаны на Женином лице.
– Нет, – сказала она медленно. – Я никогда не буду из-за него плакать.
Поутру из дома № 14 по Пролетарскому бульвару, что стоял в Клёниках, первым выходил Мирон Степанов. Он раскрывал ставни. Брандтов тесть был щуплый, подвижной старик, имевший привычку вздёргивать головой, словно осматриваясь: не крадется ли кто-нибудь сбоку? Пригнувшись и что-то удрученно бормоча про себя, он скрывался за калиткой. (Вера, вторая дочь, сказала: «Я не завидую Галине. Она находится между Брандтами, которых боится, и отцом, который проклинает ее за то, что ввела в семью предателя».)
Дом, купленный еще перед войной, был старинным, столетней давности; сруб из крепких почерневших бревен – там, где отваливалась штукатурка, это было хорошо видно. С фасада он казался небольшим – три окошка на улицу, – но в глубь двора достаточно протяженный. Внутри же состоял из пяти или шести маленьких тесных комнат, разделенных продольным коридором; так что у Степановых и Брандтов были как бы две разные половины. Двор тоже был длинный. Кроме дровяного сарая, – где устроили хлев для коровы, – служб во дворе не было, а росло несколько плодовых деревьев и кусты сирени вдоль забора.
Наблюдая эту надоевшую картину день за днем, Кононов не выдержал.
– Может, прямо войдем в дом, да и конец?
– У них собаки, – сказал бывший пограничник Стасенко, никогда не грешивший безрассудством. – Обученная овчарка двух человек стоит.
– Женщины там и дети, – нахмурившись, проговорил Наудюнас, самый старший из четверых.
– Чьи дети? Дети предателя! – Глаза Жени горели бескомпромиссным неведением юности.
– Помолчи. – Наудюнас сказал не строго, а скорее с жалостью. – Вырастут, тогда с них будет спрос. А сейчас – дети.
Брандт выходил из дома ровно без четверти девять; по нему можно было проверять часы. Но в это же время по бульвару обыкновенно шла группа полицаев. Партизаны так и не выяснили: была ли это негласная охрана или случайное совпадение, смена постов?
Также не знали они, охраняют ли его при возвращении? Ведь им надо было укрыться до наступления комендантского часа. Говорят, что иногда он ночевал в редакции…
Рано утром, в четверг двадцать шестого ноября, при довольно тусклом свете, сочившемся в окна, Брандт уже успел побриться и теперь растирался мохнатым полотенцем, с некоторым беспокойством разминая ладонями складки на животе. Он был в отличном настроении; его воодушевляло предвкушение увидеть в сегодняшнем номере свою третью статью о поездке в Германию. Она называлась «Учитель снова побеждает» и начиналась с обращения к истории: еще, мол, Бисмарк, говорил, что войну выигрывает школьный учитель, то есть то, как воспитаны солдаты с малолетства… Он повторил без изменения слова, сказанные в новогоднюю ночь Косте Маслову, что именно всесторонняя подготовка молодого поколения немецкого народа, как интеллектуальная, так и физическая, решает эту войну. А средний-де уровень германского солдата выше, чем у советского.
Слегка кивнув жене, Александр Львович вышел из дому, аккуратно и бесшумно прикрыв за собою дверь.
Утро было бездыханное. За ночь землю покрыл рыхлый неглубокий снежок. Брандт шел в легком тумане, который глушил шаги и шорох голых кленовых ветвей. Ботинки у него были новые, на толстой подошве – единственное, что он привез из поездки в Пруссию. Какое-то странное чувство, которое он считал самоуважением, надменной гордостью, свойственной ему, не позволяло выражать изменившееся положение во внешнем шике. Он упорно донашивал старые довоенные костюмы – серый, повседневный, и синий, в котором сам себе казался изящнее и моложе. Он приучал себя к мысли, что презирает все показное у других, а следовательно, оно недопустимо в нем.
Стасенко и Наудюнас вышли ему навстречу одновременно. Стасенко напрямик, а Наудюнас по дальней, огибающей тропке.
Немигающими глазами следили они за каждым движением слегка ссутулившейся фигуры в драповом пальто довоенного покроя, в серой фетровой шляпе, надетой нарочито ровно, без всякой щегольской небрежности, за покачиванием желтого портфельчика… Владимир и Евгений стояли наготове, пригнувшись в кустах на краю Духовского оврага.
Бесконечно долгим было это движение по пустынному бульвару, осененному тусклым пасмурным рассветом и устланному свежим снегом, словно той самой соломой, на которую предстояло упасть.
Взгляд Стасенко не отрывался от надвигающейся на него фигуры. И нанизанный на этот пронзающе-прямой взгляд Брандт словно бы уже не шел сам по себе к нему навстречу, а сохранял целостное равновесие общей картины: неба, снега, голых кленов и нескольких человек, включенных в смертельно опасную связь – Кононова, собранно притаившегося за развалинами, Наудюнаса и Стасенко, лишь изредка обращавших друг к другу проверяющие взгляды, похожие на мгновенные сигнальные вспышки окон двух противоположных сторон улицы; беззаботно и легко шагавшего Брандта, полного приятной теплотой только что поглощенного завтрака и еще не включившегося полностью в заботы ожидаемого им делового дня; нескольких продрогших полицаев, которые не то чтобы несли постоянный пост у дома Степановых, однако все же были назначены посматривать в оба за этим местом и теперь, не видя ничего подозрительного в двух прохожих, неторопливо брели поодаль за расплывчатым контуром брандтового пальто и желтого портфельчика; Жени Филимонова, переполненного восторженной энергией своих семнадцати лет, бок о бок с Кононовым ощутимо переходящего в эти считанные мгновения грань между мальчиком и бойцом; и, наконец, совершенно неожиданной, почти комической фигуры вынырнувшего впереди их всех неведомого никому старика, который шаркал валенками, норовил перейти дорогу на манер черной кошки и гремел пустыми ведрами.








