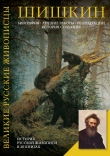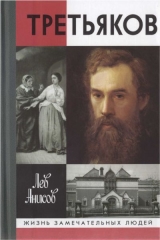
Текст книги "Третьяков"
Автор книги: Лев Анисов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Павел Михайлович ответил тут же. Он был не против ее выбора.
По письму Софьи Михайловны можно судить, что в семье Третьяковых существовали некоторые сложности во взаимоотношениях.
Первым, кому она сказала о том, что секретно помолвлена, был друг Павла Третьякова Тимофей Ефимович Жегин. («Но это только мне она сказала, но своим еще никому», – писал тот из Парижа жене.)
Следом – письмо любимому брату Павлу. «Душа мой Паша», «Милый мой Пашура» – так она называла его.
И несколько другое отношение к брату Сергею. («Откровенно говоря, я не особенно дорожу мнением Сережи, как потому, что отношения наши были всегда далеки и не родственны, так и потому, что взгляды и мнения у него большею частию заимствованы у других».)
В первой половине августа Третьяков едет в Спа навестить мать и сестер. Побывает он и в Лондоне, на Всемирной выставке, где впервые выставлялись полотна русских художников. Были представлены и три картины из его собрания: Клодта, Трутовского и Якоби. По делам заедет в Манчестер и через Париж и Льеж прибудет вновь в Спа, чтобы проводить семейство в Москву.
11 ноября 1862 года состоялась свадьба Софьи Михайловны и Александра Степановича. Венчались молодые в церкви Знамения на Знаменке.
Софья Михайловна переехала к мужу.
Тою же осенью в древнем Новгороде торжественно праздновали тысячелетие России. На торжествах присутствовал государь. Принимая от новгородских дворян хлеб-соль, Александр II произнес:
– Поздравляю вас, господа, с тысячелетием России. Рад, что мне суждено праздновать этот день с вами, в древнем нашем Новгороде, колыбели царства всероссийского. Да будет знаменательный день этот новым знаком неразрывной связи всех сословий земли русской с правительством, с единою целью – счастия и благоденствия дорогого нашего Отечества.
В ноябре государь прибыл в Москву.
На высочайший выход в Большом Кремлевском дворце были собраны все первые персоны города. В Андреевском зале стояло дворянство, в Георгиевском – военные, во Владимирском – купечество.
Под колокольный звон и постукивание церемониймейстерских жезлов царь шествовал по залам своего дворца, приветливо улыбаясь и милостиво заговаривая с присутствующими, – писал современник. – Склонялось перед ним дворянство, тянулась военщина и отвешивало степенные поклоны купечество. Со всех сторон Владимирского зала на Александра II были устремлены взоры седобородых, в длиннополых сюртуках представителей новой народившейся государственной силы. Московский городской голова Михаил Леонтьевич Королев подал хлеб-соль на серебряном блюде… Царь благосклонно принял подношение, поблагодарил, передал адъютанту и, обратясь к голове, спросил:
– Как твоя фамилия?
– Благодарение Господу, благополучны, Ваше Величество, только хозяйка что-то малость занедужила, – серьезно отвечал Королев.
Произошло неловкое замешательство, но Александр II быстро сообразил, что незнакомый с новыми тонкостями галлицизмов голова понял слово «фамилия» в его старинном значении – «семья».
– Ну, кланяйся ей, – улыбнувшись, ответил царь и под влиянием внезапного наития добавил: – Да скажи ей, что я со своей хозяйкой приеду ее проведать.
Милостивые слова государя молниеносно облетели зал и произвели на купечество ошеломляющее впечатление: царь при всех, громко обещал приехать в гости к купцу! Это было неслыханно в истории России.
Государь сдержал слово. В один из декабрьских дней его парные сани остановились у подъезда дома городского головы.
Это было открытое признание правительством значения купечества. Надобно было считаться с силой золота.
Вскоре Королев дал обед в честь министра внутренних дел П. А. Валуева.
«Среди присутствовавших было несколько молодых людей из купечества, – писала газета „Наше время“, – представителей новой эпохи и нового воспитания. Многие из них живали за границей, и человек, не бывавший в их среде, удивился бы, слушая их. Разговор зашел, между прочим, об итальянской опере, и молодые люди говорили о музыке не только с живым интересом, но явно обогащенные специальными знаниями».
В 1862 году Павел Михайлович познакомился с А. А. Риццони, ставшим на долгие годы его другом, поверенным его замыслов.
Живой, подвижный, расчетливый, постоянно влюбленный в кого-то, он обо всем забывал, когда дело касалось живописи.
Исполняя просьбы Третьякова, он обходит мастерские Дюкера и Суходольского, и их картины прибывают в Москву, в Лаврушинский переулок. Навещает брата художника Чернышева, умершего в больнице для умалишенных, в надежде купить для Третьякова «хорошенький этюдик».
«На днях, – писал А. А. Риццони, – был у Клодта, пейзажиста, у него вещь, которая Вам так нравилась, подмалевана и обещает много хорошего».
Выехав в 1863 году за границу и находясь в Париже, Риццони сообщает о всей колонии пансионеров Академии художеств и их работах: «Перов пишет сцену на Montmartre около балагана; Якоби – „Смерть Робеспьера“, Филиппов занят большой картиной».
Тем временем собрание Третьякова пополняется новыми полотнами. Художник А. П. Боголюбов высылает Павлу Михайловичу свою картину «Ипатьевский монастырь».
В. Худяков, исполняя просьбу Третьякова, навещает вместе с литератором, любителем искусств А. А. Андреевым галерею Ф. И. Прянишникова и, отметив «хорошенькие вещи Лебедева, Щедрина, Кипренского, Боровиковского», добавляет: «Во всяком случае, я не против этого приобретения, это ляжет, быть может, все-таки основным камнем русского художества, к которому каждый очень охотно пожелает приложить свою лепту».
В один из дней пришло письмецо от А. К. Саврасова:
«Милостивый государь Павел Михайлович!
Не найдете ли свободную минутку приехать ко мне в мастерскую сегодня или завтра, я Вам покажу несколько рисунков г-на Бочарова. Если пожелаете, можно приобресть из них недорого». (В собрании Третьякова появится картина Бочарова «Вид в римской Кампанье».)
Н. В. Неврев заканчивал для собирателя портрет М. С. Щепкина.
П. А. Суходольский, продавая картину, выторговывал лишний рубль. («Если же Вы согласитесь прибавить еще 50 р., (серебром), то премного обяжете отъезжающего за границу, наперекор судьбы, стало быть, с тощим кошельком».)
Положение художников было грустное.
В. Худяков, сразу после закрытия осенней выставки, писал Третьякову: «На всей выставке распродалось едва ли еще на столько, сколько положили один Вы, исключая тут и царских приобретений… И куда уже после этого думать о развитии художества в России, оно еле-еле может только еще поддерживаться в сыром виде, или в искаженном».
Он же сообщит первым об отказе 14 учеников Академии работать на большую золотую медаль, «…им не позволили своевольничать, – писал он. – Они теперь сплотились в кружок… наняли вместе большую квартиру и хотят работать, помогая один другому, и при нынешних обстоятельствах несчастные, вероятно, догрызутся до хвостов».
Они рвались к самостоятельной жизни в искусстве и мечтали о создании национальной русской школы живописи.
И они искали поддержки.
Поддержки материальной.
И она пришла.
Пришла из Первопрестольной.
18 февраля 1865 года Павел Михайлович примется за письмо к А. А. Риццони, извещая о своем посещении Академической выставки.
«Вот еще какие картины… понравились мне: пейзаж Суходольского – прекрасный и совершенно оригинальный; Соломаткина „Будочники-славильщики“ – прелестная картинка; Юшанова „Проводы начальника“ – очень хорошенькая, и очень недурных несколько жанровых картин Вьюшина, Маринича, Прянишникова и Боброва… Все эти имена… – новые, по крайней мере для меня, – дай Бог им успеха!»
Заканчивая письмо, он добавлял: «Многие положительно не хотят верить в хорошую будущность русского искусства и уверяют, что если иногда какой художник напишет недурную вещь, то как-то случайно, а что он же потом увеличит собой ряд бездарностей. Вы знаете, я иного мнения, иначе я не собирал бы коллекцию русских картин, но иногда не мог, не мог не согласиться с приводимыми фактами, и вот всякий успех, каждый шаг вперед мне очень дороги, и очень бы был я счастлив, если бы дождался на нашей улице праздника».
А в марте у него вырвутся следующие слова:
«Я как-то невольно верую в свою надежду: наша русская школа не последнею будет; было действительно пасмурное время, и довольно долго, но теперь проясняется…»
Глава IV
ЖЕНИТЬБА. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
В один из январских дней отец Василий с амвона неожиданно заговорил о лицах безбрачных. Проповеди его всегда слушали со вниманием.
Лишь недавно он похоронил своего друга, священника В. Лебедева, служившего у Калужской заставы, и сегодня как-то особенно проникновенно говорил о значении дружбы в жизни каждого человека. Всякий раз Павел Михайлович ловил себя на мысли, что слова эти будто обращены к нему. Вот и теперь он даже насторожился, слушая негромкий голос настоятеля церкви.
– Состояние людей неженатых, – говорил тот, – представляет своего рода опасности и неудобства. Прежде всего оно подает повод к жизни нецеломудренной.
Опыт показывает, что люди холостые, привыкнув к такой жизни смолоду, остаются до старости рабами своей страсти, до старости продолжают служить суете. Кроме того, самолюбие, своенравие и раздражительность преимущественно встречаются в людях, ведущих безбрачную и притом одинокую жизнь. Их характер, не смягчаемый необходимостью ежедневных жертв или уступок мужу или жене, приобретает резкий, суровый отпечаток.
Что за священник. Точно в душу заглядывает.
Возможно, и не случайны его слова. Да и сам Павел Михайлович сознавал, что пора обзаводиться семьей.
Была у него такая попытка. О том упоминается в письме Софьи к нему от 7 февраля 1863 года:
«Я не понимаю, милый Паша, почему мнение г-на Р. (мною тебе переданное) могло заставить тебя перестать думать об известной особе! Все нелепые отзывы о тебе могут иметь вес до тех только пор, пока тебя не знают, и потому если ты только познакомился бы с известной особой, – то она, конечно, сумела бы оценить твои хорошие качества».
Завистников всегда предостаточно. Вон, перед женитьбой брата Сергея, сколько неприятностей пришлось пережить молодым. За неделю до венчания Т. Е. Жегин писал жене с возмущением: «Бедный Третьяков очень расстроен, он получил множество писем городской почтой самого невыгодного выражения, а невеста его даже сделалась больна. Вот каков здесь народец (мерзавцы!!!)».
История почти повторялась.
Замученный нелестными отзывами о нем, наверняка передаваемыми понравившейся ему девушке, Павел Михайлович не стал развивать дальнейших отношений с ней. (В дальнейшем он будет оставлять без внимания анонимные пасквили.)
У Софьи пошли дети. Брат Сергей вдовствовал. Николушка рос под присмотром няни и тетки.
С одним разве только Тимофеем Жегиным, другом истинным, можно было душу отвести. Всякий приезд его становился праздником. Шумный, по молодецки озорной, горазд на крепкое словцо, он во всем был сама искренность.
Скучая без Жегина, Третьяков радовался поводу, позволявшему отправиться в далекий Саратов, и был счастлив, когда обоим выпадал случай ехать вместе в Петербург по торговым делам.
А какие озорные порой приходили от него письма!
«Это именно тот самый, который перещеголял всех свиней на белом свете толщиной и делается настоящим гиппопотамом, – изливал Жегин свои соображения относительно одного из соседей Третьякова. – Вы, кажется, член учреждаемого зоологического сада в Москве, предложите-ка на общем собрании членов о приобретении этого зверя. Он акклиматизирован, кажется, плодовит. Заслуга Ваша будет великая».
Едва отворялась входная дверь и с порога раздавался басистый, окающий говор Жегина, в доме начинался радостный переполох.
– Как вы поживали, мой милейший, в праздники? Совсем, поди, на другой манер: счеты, счеты и счеты, – говорил он, обнимая и целуя друга. – А я вот думаю познакомить вас с милыми девицами. Не все же в холостяках ходить.
– А славнейший Тимофей Жегин, видать, совсем перестал ходить в костел, – смеялся Третьяков, подтрунивая над дорогим гостем. (Жегин жил на Немецкой улице против католического костела.)
– Упаси Бог, упаси Бог, – отмахивался тот.
И начинались расспросы, восклицания, перемежаясь с шутками и озорными замечаниями.
Жегин, будучи купцом первой гильдии, женатый на дочери одного из братьев Шехтелей, известных саратовских предпринимателей, немалые деньги вложил в создание общедоступного театра в Саратове, и у Павла Михайловича был повод подтрунивать над ним.
– Вообще-то не видно, чтобы театр кого исправил, – говорил он, пряча лукавую улыбку. – Если на кого не действует учение Евангелия и пример действительного благочестия, то чего же ожидать от театральных вымыслов и призраков?
И оба принимались хохотать.
Впрочем, не забывали и о деле. Любимым детищем Тимофея Ефимовича было Александровское ремесленное училище. О нем хлопотал он в столицах, собрал крупные пожертвования на возведение здания. Не без помощи Павла Михайловича, думается, московские купцы помогли Жегину в этом деле.
Тимофею Ефимовичу на Пасху 1865 года, когда тот вновь напомнил о своем желании познакомить друга с милыми девицами, Павел Михайлович ответит несколько неожиданно: «Хотя о серьезных вещах, самых серьезных в жизни, и не говорят шутя, но из Ваших милых шуток могло бы, может быть, и путное выйти, если б это было ранее, теперь же это невозможно. Я еще на свободе, но морально связан».
Так из письма друга Т. Жегин узнает о намерении Третьякова обзавестись семьей.
Никто, кроме разве еще домашних, не мог знать об этом. Лишь в июле, отвечая отказом на приглашение знакомого H. Н. Лосева посетить его в деревне, Третьяков откроется ему: «С 18-го числа я жених, а невеста моя (Вера Николаевна Мамонтова) живет за 30 верст от города, то, разумеется, стараясь бывать у нее как можно чаще, я не могу и думать поехать к Вам». Лосев не задержал с ответом:
«Должен сказать, что вы вполне архимандрит: мне и в голову не приходило, что умеете влюбляться, да еще вдобавок в молоденькую и хорошенькую и так втихомолку, что ежели бы не Вы мне написали, то я и не поверил бы».
Историю знакомства Павла Михайловича с Верой Николаевной поведала в своих воспоминаниях их дочь В. П. Зилоти: «По вечерам, когда Павел Михайлович был свободен, случайно не шел ни в театр, ни в оперу, стал он бывать у Каминских, где собирались художники и друзья. Познакомился он там с Михаилом Николаевичем Мамонтовым и его женой Елизаветой Ивановной… Они были Павлу Михайловичу симпатичны и он охотно с ними встречался.
Вся Москва в шестидесятых годах увлекалась до безумия итальянской оперой; русской оперы, хорошей, в Москве еще не было; все, кто мог себе позволить, были абонированы в Большом театре. Абонированы были и супруги Мамонтовы: у них была ложа налево в бельэтаже. Каминский же и Павел Михайлович были абонированы вместе в креслах.
И вот как-то Павел Михайлович снизу увидал входившую в ложу Мамонтовых такую красавицу, такую симпатичную, что не удержался и тут же спросил Каминского, кто это.
– А это Вера Мамонтова, сестра Михаила Николаевича. Хочешь, пойдем я тебя представлю?
Павел Михайлович испугался, отказался и предпочел издали, снизу, любоваться Верой Николаевной в продолжение нескольких зим. А рядом с ложей Мамонтовых сидела со своим красивым мужем, Василием Ивановичем Якунчиковым, такая же красавица – старшая сестра Веры Николаевны, Зинаида Николаевна.
Видя восхищение Паши, Александр Степанович решился пойти на хитрость. Это было весной 1865 года. Михаила Николаевича уже не было на свете. Схоронив любимого старшего брата и свою мать, Вера Николаевна поселилась с большим другом своим – Елизаветой Ивановной, вдовой Михаила Николаевича. Изредка они стали бывать у Каминских. Вера Николаевна и сестра ее Зинаида Николаевна славились в Москве как прекрасные пианистки и образованные музыкантши. Они любили иногда исполнять и камерную музыку. Александр Степанович устроил у себя музыкальный вечер, прося Веру Николаевну сыграть, что ей захочется. В то время у нее в руках были (как Вера Николаевна часто выражалась) септет Гуммеля и трио Бетховена… Приглашен был на вечер и Павел Михайлович. Он спрятался в уголок и жадно слушал музыку, которую очень любил. Когда Вера Николаевна окончила играть вторую пьесу, септет Гуммеля, Павел Михайлович попросил Александра Степановича познакомить его с „чудесной пианисткой“ и после первого поклона сконфуженно сказал ей: „Превосходно, сударыня, превосходно“. Вере Николаевне шел двадцать первый год, а Павлу Михайловичу – тридцать третий. Начал он бывать у Елизаветы Ивановны, которую всю жизнь „уважал“ за ее доброту и общественную деятельность, часто просил Веру Николаевну сыграть ему что-нибудь и в начале лета сделал ей предложение. Она просила дать ей немного подумать».
Надо сказать, изданные впервые в Нью-Йорке в 1954 году воспоминания В. П. Зилоти являют собой любопытный документ истории жизни московского купечества того времени.
Мамонтовы были из откупщиков. Дед Веры Николаевны жил под конец жизни в Звенигороде. Там и умер. Глухо поговаривали, что он покончил с собой. Двое сыновей его, одновременно женившись, приехали в Москву богатыми людьми. Отец Веры Николаевны купил большой и красивый дом с садом на Разгуляе. Бог даровал им с женой тринадцать детей. В семье все почитали друг друга.
– Папенька, – рассказывала Вера Николаевна своему суженому, – так любил нас, что заказал в Перми какому-то художнику картину, на которой изображены все члены семьи, а на задней стене попросил в виде фона изобразить висящую картину с написанной на ней семьей брата. Они были очень дружны между собой. Мы так и росли вместе с детьми дяди Вани. Нас иногда путали, чьи мы, да и сейчас мало что переменилось.
– Благодарение Богу, что существуют такие люди, – отвечал Павел Михайлович. – Думается, счастливы те, кто наследует их заветы.
– Папенька ездил по делам в дальние губернии и частенько брал с собой маменьку – «Богородицу» – так он ее звал. Я ведь в дороге и родилась, – улыбалась Вера Николаевна, – под Ряжском, в Рязанской губернии. Так что не москвичка я, – шутливо закончила она свой рассказ.
Жила Вера Николаевна на Разгуляе в чудесном барском особняке с колоннами. Парадная белая мраморная лестница вела в бельэтаж, в угловую комнату, где стоял концертный рояль.
На рояле играли все Мамонтовы, отличавшиеся музыкальным слухом. Вера Николаевна, вместе с сестрами, брала уроки у чеха Риба, служившего органистом в католической церкви. Он привил им любовь к классической музыке. В доме на Разгуляе принимали и Н. Г. Рубинштейна.
Влюбленные, узнавая друг друга, были поражены, как часто оказывались рядом и ничего не знали о том. Так, летом 1862 года почти в одно время они оказались в Лондоне, но и в мыслях не было, что рядом может находиться будущий родной и близкий человек.
Истины ради надо сказать, что Вера Николаевна некоторое время сомневалась, кому отдать руку и сердце.
«Я понимаю твою могучую натуру, которая была до сих пор в тисках и не находила человека, в которого бы могла вылиться твоя любящая сильная сердечная натура! – писал ей из Лондона брат. – Ты не ясно пишешь мне степень чувства к H. Е. и заставляешь меня только догадываться, что оно довольно велико и что ты находишься в неизвестности, что, может быть, другой (П. М.) более достоин сделать тебя счастливой. Ты кончаешь письмо тем, что ты была на обеде у Каминских, что он не потерял в твоих глазах, а скорее выиграл, что заставляет меня думать, что твое решение бродит, – броди-броди и выброди, и испеки хлеб не комом, а такой, чтобы насытил сам собой и мог бы вполне называться даром Божиим!..»
Из воспоминаний В. П. Зилоти узнаем, что еще во время болезни матери, Веры Степановны, вместе с лечащим врачом Захарьиным в дом Мамонтовых приходил и его товарищ – медик Мамонов.
Вера Николаевна и Мамонов почувствовали симпатию друг к другу, но их знакомство расстраивало мать. И дочь скрепя сердце отказала молодому человеку.
Впрочем, судьбе было угодно сделать ее избранницей Павла Третьякова.
В один из приездов на Разгуляй Павел Михайлович сказал невесте:
– Сударыня, я приехал к вам с одним вопросом, на который прошу вас ответить откровенно: желаете ли вы жить с моей маменькой или вам было бы приятнее, чтоб мы жили с вами одни?
– Я сама бы не решилась просить вас об этом, – ответила она, – очень благодарю вас и скажу, что мне было бы, конечно, приятнее жить с вами одной.
– И я очень вам благодарен, сударыня, – произнес Павел Михайлович.
За лето Третьяков присмотрел для маменьки особняк в Ильинском переулке. Александра Даниловна переехала в него, едва возвратилась с дачи. Предложение сына приняла молча, но простить невестке такого решения так никогда и не смогла.
Павел Михайлович заезжал к маменьке каждый день «поздороваться», Александра Даниловна же отныне приезжала в Толмачи редко, лишь в праздники или в свои именины.
Свадьбу играли 22 августа 1865 года в Киреево – имении дяди Веры Николаевны. Он же был посаженным отцом.
Молодые принимали поздравления.
Играла музыка… Гостей угощали шампанским.
После обеда молодожены в сопровождении гостей, с оркестром впереди, пешком отправились в Химки. Они ехали в Петербург и далее – в Биарриц, в свадебное путешествие.
В Биаррице случилось маленькое происшествие.
В один из дней, придя на пляж, Павел Михайлович разделся, вошел в воду и, уплыв на значительное расстояние от берега, перевернулся на спину и лежал, покачиваясь на волнах.
Неожиданно он услышал «alarme». Повернувшись, увидел спешащих к нему обеспокоенных гребцов.
Оказывается, его долго искали, и длительное отсутствие Третьякова взволновало всех на пляже. За исключением Веры Николаевны. Она была спокойна, так как знала с его слов, что он любит уплывать далеко.
Третьякова встретили как героя.
Он же, сконфуженный, убежал в гостиницу.
Ночью, собрав вещи, они с Верой Николаевной отправились в Париж.
– Там легче скрыться, – смеясь, сказал Третьяков жене.
На несколько дней молодожены разлучились. Павел Михайлович отправился по делам в Лондон.
Через день он получил письмо от Веруши.
«4 октября 1865 года.
Уже вторые сутки, как я живу без моего дорогого друга, не знаю, как пройдет завтрашний день для меня, но я чувствую, что долго не видеть тебя для меня невозможная вещь, вот уже к вечеру я чувствую какую-то тоску, а что будет дальше!
Я веду себя благоразумно, а потому прошу тебя, дорогой мой, не беспокойся обо мне, а вообще-то старайся слушаться моего совета. Через час пойду в ванну, недалеко от нас, оденусь тепло, сниму кринолин – этим ты будешь доволен…
Пришла я сейчас в свою комнату, так грустно стало, что не нашла я моего Пашу, и только в мыслях поласкала тебя, но не было достаточно этого, села писать, душа рвется к тебе, не знаю, как дождаться твоего приезда.
Что, думаешь ли обо мне так много, как я о тебе, милый ангел мой? Если думаешь, то не иначе как хорошо, я здорова, благоразумна, потому нечего тревожиться.
Буду с нетерпением ждать тебя, дорогой мой, только не знаю, когда ты думаешь вернуться.
Обнимаю крепко-крепко моего прелестного Пашу, целую его губки, глазки, ручку. Благослови твою Веру…»
Вернувшись в Толмачи, они нашли дом полуопустевшим.
Александра Даниловна с дочерью Надеждой и внуком Николаем переехала в новый особняк. С ними уехали гувернер Коли Карл Федорович Бювло и Василий Васильевич Протопопов – старый служащий Третьяковых.
Сергей Михайлович остался в Толмачах. Радовался возвращению молодых, и было видно: Вера Николаевна пришлась ему по душе. Впрочем, как и всем остальным Третьяковым. Да это было и не мудрено. Молодая жена Павла Михайловича была добра и нежна. К тому же жизнь в многочисленной семье многому ее научила. Она умела найти подход к каждому, уладить любые недоразумения и конфликты и делала все это ненавязчиво и доброжелательно.
Павел Михайлович полюбился сестрам Веры Николаевны. Они звали его любовно Паша-Миша.
– Если бы были живы папенька и маменька, – говаривала не однажды Вера Николаевна супругу, – они бы тоже в тебе души не чаяли.
По настоянию Павла Михайловича Вера Николаевна продолжала заниматься музыкой. В хозяйстве она мало что понимала и не касалась его.
По воскресным дням супруги ходили в церковь.
Стоя в конце церкви на возвышении, слушая старинные напевы, Вера Николаевна частенько подпевала хору. Любила преждеосвященные обедни и рассказывала, как брат ее, Валериан, пел «Да исправится» перед алтарем в трио мальчиков. Впрочем, все Мамонтовы отличались необыкновенным музыкальным слухом.
Познакомились с новой хозяйкой толмачевского дома и художники. Горавский был так поражен красотой Веры Николаевны, что собирался писать ее портрет.
Жегин был по-прежнему дорогим и желанным гостем в доме Третьяковых.
«Вчера вечером в 10 ½ часов я уже сидел с Верой Николаевной и рассказывал все и про все, что в голову только могло вместиться, разумеется, много смеялись, как водится, – писал он жене в Саратов. – Павел Михайлович лежал, он только что возвратился из Костромы и чувствовал себя не совсем хорошо. Сегодня ему лучше. Вера Николаевна благодарит тебя за поклон и посылает тебе таковой же. Что это за барыня, что за прелесть!»
Работы у Третьяковых прибавлялось. Семейное торговое дело росло, открывались отделения и конторы в других городах. Оборот денег позволил организовать собственное промышленное производство. В 1866 году было учреждено Товарищество Большой Костромской льняной мануфактуры с капиталом в 270 тысяч рублей. Директором-распорядителем стал местный купец Константин Яковлевич Кашин, добрый и очаровательный человек. Он поставлял Третьяковым сырье и готовое полотно.
Кашин частенько приезжал в Москву и всякий раз останавливался в Толмачах. Ездил в Кострому и Павел Михайлович. Дорога была не близкая. От Ярославля надобно было ехать по Волге на пароходе, а зимой в возке по льду, и Вера Николаевна всякий раз, провожая мужа, осеняла его крестным знамением трижды на дорогу и всякий раз с нетерпением ждала его возвращения.
– Ледоход скоро, – говорила она, – успеете ли проехать по льду? А вдруг, не дай Бог… – и она умолкала и читала молитву про себя.
В августе Павел Михайлович ездил на ярмарку в Нижний Новгород, обычно к закрытию, помогая В. Д. Коншину, закупавшему там лен и продававшему пряжу.
В октябре 1866 года у молодых появился первенец – дочь Вера.
– У меня теперь две Веры, – радовался Павел Михайлович.
С превеликим торжеством крестили новорожденную.
Отец Василий бережно опускал ее в купель, разукрашенную живыми цветами. Восприемниками стали Александра Даниловна и Сергей Михайлович.
Брат заходил в детскую каждый день.
В сентябре 1867 года Вера Николаевна осталась в Толмачах одна. Павел Михайлович уехал по делам в Париж, но от него часто приходили весточки и подарки.
«Ты меня так обрадовал своим подарком – т. е. розовым великолепным платком, я его надевала на несколько часов, не только сама любовалась им, но даже все были поражены его великолепием. Какой же ты великолепный, добрый муж… Не знаю, папочка, за что это меня так балуют, наверно, причиной всему… ты – такой дорогой, прелестный человек».
«Как нравится тебе выставка – картинное отделение? Наверное, ты очень доволен, что поехал за границу, головушка твоя отдыхает, только боюсь я за глазки твои – днем пристально рассматриваешь выставку, а вечером, наверное, в театре, но все-таки я со всем мирюсь, если ты только получаешь полнейшее удовольствие от всего виденного… – пишет она и добавляет: – Уморительная Верка; ее спрашивают, где Павел Ми<хайлович>? Она показывает на себя. Вера Никол<аевна> тоже в ней сидит. Да ведь это так и есть, Пашечка, она наше родное существо…»
Письма из Толмачей уходили едва ли не каждый день.
Наконец раздавался звонок и родной голос слышался от дверей:
– Верно, верно говорят – в гостях хорошо, а дома лучше.
Он брал дочь на руки, целовал в нос. Борода щекотала ее, и Верочка ежилась, вызывая смех и улыбки родителей.
В воспоминаниях Веры Павловны Зилоти упоминается случай, когда Т. Е. Жегин подарил ей золотые ножницы, и отец, чтобы она нечаянно ими не укололась, подвесил их к люстре, а вместо них подарил другие, с тупыми концами.
«Не вспомню, сколько лет висели эти ножницы у меня над головой, – писала Вера Павловна, – манили, дразнили; а папа часто, видя меня, сидящею, с глазами, устремленными на люстру, тер свой нос платком, постепенно складывая его, и с хитрой улыбкой декламировал: „Зелен, зелен виноград…“ или нараспев поддразнивал: „Взять Верку под сомнение давно бы уж пора“. Мне это казалось тогда очень обидным. Не могу себе представить до сих пор, откуда папа выудил эту фразу; наверное, как театрал, из какой-нибудь оперетки, подставив имя Верка».
По желанию Павла Михайловича вскоре после рождения первенца Вера Николаевна занялась общественной деятельностью. По предложению городской думы она приняла попечительство над женской городской начальной школой.
На деньги Третьякова на Донской улице было построено знаменитое Арнольдовское училище для глухонемых, куда он частенько наведывался, справляясь о ходе дел.
В декабре 1867 года родилась дочь Александра.
Через восемь месяцев, оставив малышей в Толмачах, Вера Николаевна уехала с мужем за границу. Это было их второе совместное путешествие.
Они объездили всю Италию. Были в Генуе, Турине, Милане.
В Риме прожили неделю. С утра до ночи осматривали город, ездили по окрестностям.
– Есть ли на земле другая страна, как Италия? – говорил им Павел Петрович Чистяков, с которым они познакомились в его мастерской. – Чудный, прелестный край, просто рай! А воздух-то здесь, воздух какой, Бог мой! Светлый, серебристый, ясный и свежий, как в самый лучший день нашего мая. Простите за высокопарность, но я просто влюблен в Рим. Всем насладился, все видел и осмотрел – и Помпеи, и Амальери, и остров Капри, где и вам советую побывать. Писал там этюды с натуры, чего всю жизнь добивался. На вершине Везувия завтракали мы с друзьями, – улыбаясь, добавил он. – Какой вид оттуда, просто и не выскажешь!
Уроженец тверской земли, холостяк, преподававший ранее в рисовальной школе на Бирже, он, оказавшись впервые за границей, выполнил много портретов карандашом.
Показал свои картины, этюды и рисунки. Третьякову запомнились две из них: «Нищие дети» и «Римский нищий». Сколько жизненного было в позах, выражении лиц детей и старика.
На мольберте стояла начатая работа.
– Здесь мы все пишем этюды, – говорил Чистяков. – Я вот в пять аршин начал. Корнев до половины написал свадьбу и старается. Тупичев тоже пишет аршина в два картину, Риццони две кончает. Нет, видно, надо было Европу сперва объездить, чтобы сказать, где лучше. А где, спрошу я вас, написаны «Мертвые души» Гоголя, а Помпея и Иванова картина? В Риме, в Риме…