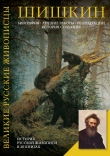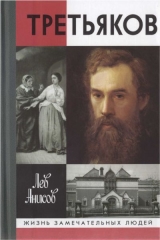
Текст книги "Третьяков"
Автор книги: Лев Анисов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
«Только сохраните ко мне расположение», – как заклинание вырвется у А. С. Богомолова-Романовича.
Через художников Третьяков отныне узнавал о новых работах петербургских живописцев. Полагаясь на их вкус, заказывал полотна, высылал деньги.
Новый, доселе не знакомый мир открывался ему.
Самолюбивые, заносчивые, сдержанные, настырные, мягкие художники, чувствуя искренний интерес, преображались, показывая свои работы. И не столько желание продать картину, сколько представить ее на суд и выслушать суждение о ней угадывалось в их действиях. И только позже наступал торг, начиналась игра, в которой обе стороны проявляли свои актерские способности, свою, внешне упрятанную, жесткость. Одному хотелось продать картину с выгодой, другому – купить и не промахнуться.
Иногда торг длился несколько лет.
Так, увидев впервые картину К. Д. Флавицкого «Княжна Тараканова в темнице во время наводнения» на Академической выставке, произведение, по его словам, делающее честь русской школе, Павел Михайлович торопится познакомиться с художником, чтобы провести переговоры о ее покупке.
«Милостивый государь Константин Дмитриевич!
Так как Вы мне сказали, что около первого марта будет известно, свободна ли Ваша картина, то, считая наши переговоры не оконченными, я полагал бы себя быть обязанным подтвердить Вам, что намерение мое до известного времени не изменилось еще и вот почему: назад тому недели три или более я имел честь обращаться к Вам с вопросом, на который до сего времени никакого ответа не получил; теперь повторяю просьбу, сообщить мне Ваш приятнейший ответ в письме или еще лучше телеграммой, так как я дня через четыре выезжаю на несколько дней из Москвы.
Если мы сойдемся с Вами, деньги Вы получите немедленно и все разом…»
Ответ пришел настороженный.
«На Ваше первое письмо я не торопился отвечать, потому что не мог Вам дать решительного ответа и до сих пор еще не знаю положительного результата. Кроме того, для меня было очень не ясно выражение Ваше в первом письме, где Вы спрашиваете: может ли быть приобретена картина за предложенную Вами цену? Сколько помню, мы при нашем свидании в условиях между собой не сходились, и я Вам тогда же высказал, что, назначив за свою картину пять тысяч руб. серебром, я не отступлюсь ни на один шаг, и потому прошу Вас покорнейше пояснить этот пункт, и сколько возможно скорее, потому что несколько дней уже как я со дня на день жду решительного ответа, и в случае, если картина останется в моем полном распоряжении, я мог бы рассчитывать на Вас, а не на других, изъявивших также свои желания…»
Едва получив письмо, Третьяков взялся за перо.
«За ответ Ваш очень благодарен Вам. Предложенная мною сумма, как Вам известно, три тысячи. Несмотря на большое мое желание иметь Вашу картину в своей галерее, состоящей единственно из русской школы, мне остается только сожалеть о том, что мы никак не можем сойтиться, так как Вы не отступитесь ни на шаг от своей цены…»
Картина все же поступила к Третьякову, но после смерти К. Д. Флавицкого. Брат художника продал ее за 4 тысячи рублей серебром.
Подобные споры коллекционеров и художников о цене картин были неизбежны. В этом смысле примечательны рассуждения П. А. Федотова в ответ на постоянные упреки художникам, что они слишком дорого просят за свои работы:
«Люди подходят на выставке к картине, смеются, объясняют ее друг другу, постоят много что четверть часа и переходят к другим картинам; а многие ли из них подумают: чего стоит художнику то произведение, которым они любовались так недолго. Говорят: художник просит дорого за свою картину; она не велика, хотя и не лишена некоторых достоинств. Не знаю, впрочем, могут быть такие счастливцы, которым воображение сейчас же дает нужный тип. Я не принадлежу к их числу, а может быть, и слишком добросовестен, чтобы игру фантазии выдавать за возможное. Когда мне понадобился тип купца для моего „Майора“, я часто ходил по Гостиному и Апраксину двору, присматриваясь к лицам купцов, прислушиваясь к их говору и изучая их ухватки; гулял по Невскому проспекту с этой же целью. Но не мог найти того, что мне хотелось. Наконец однажды, у Аничкина моста, я встретил осуществление моего идеала, и ни один счастливец, которому было назначено на Невском самое приятное рандеву, не мог более обрадоваться своей красавице, как я обрадовался моей рыжей бороде и толстому брюху. Я проводил мою находку до дома, потом нашел случай с ним познакомиться, волочился за ним целый год, изучил его характер, получил позволение списать с моего почтенного тятеньки портрет (хотя он считал это грехом и дурным предзнаменованием) и тогда только внес его в свою картину. Целый год изучал я одно лицо, а чего мне стоили другие. Но никто из не знающих меня не подумает об этом. Веселая, забавная картинка – и ничего больше. А запроси за нее столько, сколько она тебе самому стоит по труду, по чистой совести, скажут: дорого, и никто не купит, а деньги нужны… Нет, всего выгоднее рисовать солдатиков».
* * *
Картины требовали денег – и немалых, но с чем сравнить те чувства, переполнявшие сердце при появлении в доме новых живописных полотен, и то возбуждение, охватывавшее при внезапном известии, что вот у каких-то дальних родственников художника Сильвестра Щедрина хранится его работа, которую они смогут уступить. Сколько мыслей, чувств рождалось при этом! А вдруг дадут согласие кому-то другому? А вдруг в последний момент решат оставить картину у себя? Как охотник во время тяги, Павел Михайлович замирал и искал возможности ударить наверняка.
* * *
Из москвичей полюбилось Павлу Михайловичу бывать у Николая Васильевича Неврева. Тот жил неподалеку от Краснохолмского моста и был, как и Павел Михайлович, коренным замоскворецким жителем.
Слушать его было одно удовольствие.
– Я ведь так тебе скажу, дорогой Павел Михайлович, – начинал он, – каждый уголок у нас, в Замоскворечье, с малых лет знаю. Все обходил, все облазил. Разве сравнимо что с нашими местами. Весной гомон птичий. Зелень. На Ордынке, близ вашего дома, – с детства помню – на поляне соберется молодежь: купцы, приказчики, девки, поют до ночи. А на рассвете, на берегу Канавы, пастух в рожок дудит. Ворота тесовые скрипят, коровы мычат. Бабы их в стадо гонят. А пасли стадо на лугах, близ Данилова монастыря.
Знал Неврев в Замоскворечье всех, и его знали. Раскланивались с ним, останавливали, заводили разговор. Для всех он, чувствовалось, был своим человеком. Стал он своим и в доме Третьяковых. Бывал у них круглый год и в городе, и на даче. В конце пятидесятых даже ездил с ними в Киев и в Одессу.
Правда, обидчивый был. Чуть что, надуется и след его простыл. Но отходил скоро.
У Третьяковых его любили все. Написал он с превеликой любовью портрет двоюродной сестры Павла Михайловича – Марии Ивановны и отца ее – Ивана Захаровича. Свой же автопортрет подарил старому кассиру Третьяковых Василию Васильевичу Протопопову.
Работал Неврев много. По свидетельству Н. А. Мудрогеля, «все собиратели любили его и старались наперебой купить у него картины, так что Неврев жил сравнительно с другими художниками неплохо: его квартира была из трех комнат с мебелью красного дерева, старинного фасона. Одну из своих комнат он изобразил на картине „Смотрины“, где батька сватает сынка-семинариста за дочку попадьи».
В доме у него хранилось богатое собрание старинных русских костюмов, которые приобретал он как материал для картин на темы из старинного русского быта. Частенько с утра, в воскресные дни, одевался в старинный боярский костюм и так принимал гостей.
Хозяином Неврев был очень приветливым и радушным и гостей настойчиво потчевал кулебякой и наливкой.
Любил и сам в гости ходить.
Третьякова называл «архиереем».
Придет, бывало, к ним в дом и с порога громко спросит:
– А что, архиерей дома? – и, потирая с мороза руки, добавит: – Эх, и студено же сегодня!
Он не прочь был пропустить рюмочку с наливкой, а у Третьяковых за обычным обедом вина совсем не полагалось. Тогда он начинал расспрашивать домашних, не именинник ли кто из них.
– Да, вот, – скажут ему, – у братца нашего троюродного нынче именины…
– Так это же надо его поздравить! – радостно скажет Неврев.
А уж Третьяковы знали, почему гость именинников разыскивает, и приказывали подать вина. Павел Михайлович в таких случаях тотчас забирал свои газеты и книги (он всегда сидел за столом с книгами) и уходил к себе в комнату. Не переносил вина.
Неврев же после обеда обычно оставался, читал вслух книгу. Читал выразительно. Слушала его вся семья.
Известность он приобрел картиной «Торг. Сцена из крепостного быта. Из недавнего прошлого». (За нее он получил первую премию Общества любителей художеств в 1866 году.) Картину купил С. И. Карзинкин. Но потом она ему вдруг не понравилась и он забросил ее на чердак. Полотно разорвалось. Павел Михайлович, который ревниво собирал все, написанное Невревым, напал на след картины и отдал ее на реставрацию.
Пора была такая, когда критика существующих нравов набирала силу в обществе. От того времени, как следствие, остались работы Н. В. Неврева: «Священник, служащий над могилой панихиду» и «Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах многолетие».
Священнослужители были изображены в столь неприглядном виде, что судебный следователь 6-го участка города Москвы решил 31 июня 1868 года послать запрос в Императорскую Академию художеств о картине «Протодиакон…», равно как и о картинах Перова «Сельский крестный ход на Пасхе» и «Чаепитие в Мытищах. Близ Москвы». И были приняты меры к тому, чтобы картины не появлялись на выставках и не воспроизводились в журналах.
А когда на сцене Малого театра поставили драму А. Н. Островского «Шутники», Николай Васильевич написал картину одноименного названия. Следом появились акварель «Купец-кутила» и картина «Купец в публичном доме».
Он словно бы отдавал дань моде.
После покушения Каракозова на государя императора Александра Николаевича в обществе наступило какое-то отрезвление, в том числе и в среде художников.
Археолог граф А. С. Уваров пригласил Николая Васильевича принять участие в устраиваемом Московским обществом любителей художеств конкурсе на историческую тему, предложив ему сюжет для картины – «из жизни Галицкой Руси, когда она стала подвергаться проискам западного латинства».
Вот тогда и обратился Николай Васильевич всерьез к родной истории, стал, можно сказать, первым русским историческим живописцем. Так одна за другой появляются его картины: «Патриарх Никон перед судом 1 декабря 1666 года», «Ярослав Мудрый напутствует свою дочь Анну в замужество французскому королю Генриху», «Присяга Лже-Дмитрия I королю Сигизмунду III на введение в России католицизма».
Изучая отечественную историю, Н. В. Неврев иначе смотрит на происходящие события в России. Минувшее словно оборачивалось днем сегодняшним, и картины на исторические темы были как бы художественным ответом автора на острые вопросы современности. Среди таких «злободневных» работ Н. В. Неврева была, в частности, и его картина «Роман Галицкий и папские послы».
К галицкому князю Роману явились в 1205 году послы папы Иннокентия III с целью расположить его в пользу римской церкви и, таким образом, обеспечить в будущем подчинение русских земель власти римского папы.
Выслушав посла, князь Роман в ответ обнажил меч и закричал: «Таков ли у папы? Доколе ношу его при бедре, не имею нужды в ином и кровью покупаю города, следуя примеру наших дедов, возвеличивших землю русскую».
В конце жизни, после работы над картиной «Эпизод из жизни Петра I», на которой Неврев изобразил государя, заставшего на скамейке в Летнем саду целующуюся пару и узнавшего в страстной особе свою супругу Марту Самуиловну Скавронскую (после крещения именовавшуюся Екатериной Алексеевной), он обратился к допетровским временам, когда крепки были семейные узы, когда верны были люди родительским правилам. Художник пишет картину «Чем были крепки узы брачны», запечатлев один из обычаев супружеской жизни в допетровской Руси, за что был крепко раскритикован В. В. Стасовым. Но Н. В. Неврев лишь усмехнется его нападкам.
Впрочем, мы забежали вперед.
Николай Васильевич еще молод и вовсе не тот «высокий, худой, стройный старик, всегда очень аккуратно и чисто одетый, неизменно мрачно-серьезный и только под влиянием вина приходивший в веселье, общительное настроение, на вопрос о здоровье отвечавший глубоким басом с напускной мрачностью: „Да что мне сделается“», каким запомнил его В. С. Мамонтов, сын владельца имения «Абрамцево».
Ему была свойственна некоторая горячность, он мог неоправданно обидеться, напустить туману, огорчить… Правда, продолжалось это недолго, он вскоре успокаивался.
«Так как я на этих днях отправляюсь в деревню и навсегда, быть может, прощаюсь с Москвою, то прошу Вас, добрый Павел Михайлович, прислать ко мне за находящимися у меня Вашими книгами и бюстом Гоголя… В свою очередь, и Вы распорядитесь доставить мне листки двух томов „Живописной русской библиотеки“, мой станок с сиденьем для снимания пейзажей, лаковую большую кисть и портрет моей личности…
Заочно жму Вашу руку и прощаюсь с Вами, очень может быть навсегда.
Н. Неврев».
Конечно же обида вскоре забывалась, и приветливый Николай Васильевич, войдя в дом Третьяковых, вновь спрашивал басом:
– Что, архиерей дома?
Круг знакомств среди художников расширялся. В старом купеческом доме и Трутнева принимали, и Соколова, и Трутовского, приезжавших из Петербурга. Гости рассказывали о новостях Северной столицы, открывшихся выставках, новых работах знакомых художников. Привозили и оставляли для продажи свои работы. Павел Михайлович, выполняя их просьбы, старался привлекать их к сотрудничеству.
Трутнев, по его просьбе, навестил в Петербурге мастерские Сверчкова и Богомолова, справляясь о новых работах. Побывал у казначея Академии художеств коллекционера Образцова, у которого были вещицы Егорова, Воробьева и Федотова, и попытался кое-что выторговать для Павла Михайловича, правда безуспешно. Хорошо зная уловки, к которым прибегали некоторые художники при продаже своих работ, подменяя оригиналы копиями, И. Трутнев принял контрмеры, помогая еще неопытному собирателю, и известил о том в письме:
«Вчера утром зашел в контору, затворил двери и карандашом пометил Ваши приобретенные картины таким образом, что эти заметки почти не видны и сделаны как будто случайно, в таком виде, как я показал на предыдущей странице по чертежу… Это все сделано незаметным образом для других, а Вы, имея мое письмо, сейчас узнаете оригиналы».
До глубокой ночи просиживал собиратель перед вновь приобретенной картиной.
Живо вспоминался торг с художником. Его голос. Жесты.
Новая работа надолго затеняла другие.
И нехотя гасил он лампу, отправляясь спать. А чуть свет торопился в залу, чтобы рассмотреть работу при дневном свете.
Картины, оказавшись в доме, прочно закрепляли за собой отведенное им место. Павел Михайлович открыл это для себя неожиданно. Однажды, перевесив одну из них, вдруг почувствовал внутреннее беспокойство. Ему точно чего-то недоставало. Успокоился же, когда возвратил картину на привычное место.
И еще он подметил, что иные картины, как и сами художники в жизни, не уживаются вместе. Требуют, чтобы их разместили подалее друг от друга.
Бывая в мастерских, заказывая работы, Павел Михайлович первое время высказывал свое мнение, давал советы. Ему и в голову не приходило, что это может задеть чье-то самолюбие. Художники реагировали по-разному, но старались отвечать тактично.
«В первом письме Вашем Вы писали мне так много замечаний, что трудненько их запомнить, когда пишешь картину; прошу Вас совершенно положиться на художника, и будьте уверены, что каждый из нас, где подписывает свое имя, должен стараться, чтобы не уронить его в своем произведении», – писал H. Е. Сверчков.
«Замечания Ваши в картине я не успел исправить, так и послал на выставку», – сообщал в апреле 1858 года И. Трутнев.
От художников узнавал Павел Михайлович о их знакомых-писателях.
Иван Иванович Соколов, работы и суждения которого боготворил Павел Михайлович еще со времени учебы в Дворянском институте, был знаком с Г. П. Данилевским, Т. Г. Шевченко, Я. П. Полонским, встречался с И. С. Тургеневым, поклонником и собирателем живописи.
Живя летом в Курской губернии, в имении родителей, И. И. Соколов писал портреты крестьян, большею частью украинцев, что сдружило его с К. Трутовским, рисовальщиком, жившим в тех же местах.
Не через Ивана ли Ивановича и узнал Третьяков о Константине Трутовском – замечательном рисовальщике и человеке?
«Боже мой, сколько неразработанных материалов представляет Малороссия художнику, как изображающему сцены, так и видеописцу! – писал К. А. Трутовский в те дни Н. А. Рамазанову. – Всех тянет в Италию; хорошо, конечно, пожить и поучиться там, но не подобает же русскому художнику ограничиваться итальянскими сценами, когда в России есть свои прекрасные виды и сцены». Он стал, по образному сравнению Н. А. Рамазанова, «списателем малороссийского быта». Столько в его полотнах внутренней, задушевной жизни, что забываешь о красках и видишь только живых людей, любящих свой край, древние традиции. Достаточно взглянуть хотя бы на такие его работы, как «Колядки в Малороссии» или «Хоровод в Курской губернии».
Любопытно, как он стал художником. Родители избрали для него военную карьеру, и он был отдан в артиллерийское училище, где сидел за одной партой и дружил с Ф. М. Достоевским. В память о тех давних днях в одном из ранних альбомов Трутовского хранился его карандашный набросок будущего писателя. Его влекла живопись, и он постоянно кого-то рисовал. Особенно удавались ему карикатуры. Умел он схватить смешные стороны оригинала.
Однажды в училище приехал великий князь Константин Николаевич. Все местное начальство сопровождало высокого гостя, пока он знакомился с положением дел. Модный квадратный монокль в глазу великого князя сразу привлек внимание Трутовского, и он тут же принялся за карикатуру. Он так забылся в работе, что вздрогнул, когда над самым ухом неожиданно раздался голос высочайшего гостя:
– А ну-ка, дай мне посмотреть поближе!
Трутовский замер. Ситуация была критической.
Великий князь долго рассматривал рисунок, потом покачал головой и, к радости перепуганного местного начальства, разразился неудержимым хохотом:
– Молодец, право, молодец! Ты же настоящий художник, для чего тебе эта артиллерия? Тебе в Академии художеств надо учиться. Хочешь?
Трутовский, осмелев, но все же срывающимся голосом ответил, что рисовать любит с детства, и его мечта – быть художником и учиться в Академии, но родители рассудили иначе.
– Ну, обещать не обещаю, – сказал великий князь Константин Николаевич, – а попробую тебя туда устроить. Замолвлю словечко кому надо и родителей упрошу не препятствовать твоему желанию. Но за это взятка! Карикатуру я беру себе на память. Согласен? Тогда подпиши ее.
Через неделю Трутовский был переведен в Академию художеств.
Вспоминая далекие годы обучения в Петербургском военно-инженерном училище, говорил и о Федоре Михайловиче Достоевском, который оказал на него глубокое воздействие.
– Он был всегда добр и мягок, но мало с кем сходился из товарищей, – рассказывал К. А. Трутовский. – Всегда сосредоточенный в себе, он в свободное время постоянно задумчиво ходил взад и вперед где-нибудь в стороне, не видя и не слыша, что происходило вокруг него. А молодость всегда чувствует умственное и нравственное превосходство товарища – только не удержится, чтобы иногда не посмеяться над ним. Потому, думается, его и прозвали «Фотий».
Чувствуя, что рассказ его интересен слушателям, Трутовский продолжал:
– Когда Федор Михайлович окончил курс в академических классах, то поступил на службу в Санкт-Петербурге при инженерном департаменте. Жил он тогда на углу Владимирской улицы и Графского переулка.
Как-то встретив меня на улице, Федор Михайлович стал расспрашивать, занимаюсь ли я рисованием, что читаю. Потом советовал мне заниматься искусством, находя во мне талант, и в то же время читать произведения великих авторов.
Пригласил меня навестить его. В первое же воскресенье отправился я к Федору Михайловичу.
Встретил он меня очень ласково и участливо стал расспрашивать о моих занятиях. Долго говорил со мною об искусстве и литературе, указывая на сочинения, которые советовал прочесть, и снабдил меня некоторыми книгами. Яснее всего сохранилось у меня в памяти то, что он говорил о произведениях Гоголя. Он просто открыл мне глаза и объяснил глубину и значение произведений этого писателя. Тогда ведь, скажем, наш преподаватель Плаксин изображал нам Гоголя как полную бездарность, а его произведения называл бессмысленно-грубыми и грязными. Одним словом, Федор Михайлович дал сильный толчок моему развитию своими разговорами.
И, знаете, я рассказывал ему, как то бывает с юношами, с откровенностью о своей первой любви. Я был тогда влюблен в милую девушку Анну Львовну, не стану называть ее фамилии. Но скажу, дома ее звали Неточка.Федору Михайловичу так понравилось это название, что он озаглавил свой новый рассказ «Неточка Незванова». – Трутовский замолчал, но по лицу его видно было, сколь дороги ему эти воспоминания.
– До сорок девятого года, – продолжал он, – я, погруженный в свои художественные занятия, виделся с ним не часто. Посещая изредка Федора Михайловича, я встречал у него Филиппова, Петрашевского и других лиц, которые потом пострадали вместе с ним. О замысле их я не имел, конечно, никакого понятия, так как Федор Михайлович не считал нужным сообщать о своих планах такому юноше, каким я тогда был.
В конце сорок девятого Федор Михайлович как-то заговорил со мной о том, что у него по пятницам собирается общество, там читаются литературные произведения, и звал меня на эти вечера.
Долго не удавалось мне выбраться, но наконец любопытство одержало верх и я решил пойти на одно из этих собраний. Но тут случилось событие, которое помешало мне исполнить мое намерение и в скором времени изменило всю мою жизнь. Я получил известие о смерти матушки. Мне тотчас дали отпуск, и я уехал в Харьковскую губернию, в свое имение. По приезде в деревню я скоро поехал в Харьков и там с ужасом узнал, что все общество было арестовано именно в ту пятницу, когда я собирался туда пойти…
Теснились старые картины в комнатах дома Третьяковых, уступая место вновь приобретенным.
Все чаще, проснувшись среди ночи, Павел Михайлович направлялся с зажженной лампой в галерею. За окном полная луна. Тишина. Лишь слышно, как сторож стучит в чугунку на Ордынке.
А Павел Михайлович все смотрит и смотрит на картины.
Какие художники!
А К. Саврасов, К. А Трутовский, И. И. Соколов, М. И. Лебедев, В. И. Штернберг, М. К. Клодт…
Купец Иван Петрович Свешников вспоминал:
«Захожу раз по делу к Павлу Михайловичу в понедельник, а он по этим дням, когда публику не пускают в его галерею, сам ее обходит. Иду и я в галерею, вижу: стоит Третьяков, скрестив руки, и от картины взора не отрывает. „Что ты, – спрашиваю, – Павел Михайлович, здесь делаешь?“ – „Молюсь“, – говорит. „Как так? Без образов и крестного знамения?“ – „Художник, – отвечает Третьяков, – открыл мне великую тайну природы и души человеческой, и я благоговею перед созданием гения“. И стал он мне разъяснять и указывать на суть дела. Умный человек был и с умными дружбу вел. И вот стала спадать пелена с глаз моих, и то, о чем я смутно догадывался, теперь в картинах яснее увидел. Все стало родственно и дорого мне. Поверите ли: с портретами сдружился и с ними беседовал».