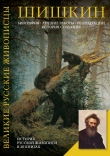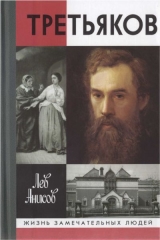
Текст книги "Третьяков"
Автор книги: Лев Анисов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Он читал и «Добротолюбие», но так и не понял Отцов Церкви, учивших, что путь к Богу лежит только через смирение.
«…Вы говорите, что не знаете, во что я верю? – писал Толстой кузине в апреле 1876 года. – Это странно и ужасно выговорить. Я не верю ничему, чему учит религия. И больше того, я не только ненавижу и презираю атеизм, но я не вижу возможности жить и тем более умирать без религии. И мало-помалу я строю собственные верования, но, хотя они и крепкие, эти верования не являются ни определенными, ни утешительными. Когда вопрошает мой ум, они отвечают правильно, но когда сердце страдает и ищет ответа, тогда нет ни помощи, ни утешения…»
В 1878 году он напишет «Исповедь». А через три года – критику догматического богословия.
Как ни удивительно, но именно с его антицерковных работ и начинается его европейская известность.
До этого им, автором «Войны и мира», в Европе не интересовались. Теперь же к нему стали приглядываться, а вскоре крупнейшие лондонские и нью-йоркские издательства принялись печатать почти все его произведения.
Именно в ту пору он начинает «старчествовать». Крестьянская одежда должна была, по его мнению, подчеркнуть его безыскусную простоту, и он носил ее не снимая.
«Перед его злобными насмешками и хулами на величайшее таинство Евхаристии и издевательствами над чудотворными иконами поистине бледнеют те обвинения на Господа Иисуса и те насмешки над Ним, какие были высказаны распявшими Господа иудеями на суде над Ним, и особенно во время распятия: те, по крайней мере, лишь условно отрицали Божество Христа», – писал журнал «Кормчий» в 1901 году, когда Святейший синод отлучил Толстого от церкви.
Перед смертью Толстой посетит Оптину пустынь, но, так и не решившись встретиться с кем-либо из оптинских старцев, уедет.
Старец Иосиф скажет о нем: «У него слишком гордый ум, и, пока он не перестанет доверяться своему уму, он не вернется в Церковь».
Последней книгой, какую читал граф перед своим уходом из Ясной Поляны, была «Братья Карамазовы». Не образ ли Зосимы и навеял ему желание побывать в Оптиной пустыни?
Гостинник отец Михаил рассказывал, как явился Толстой в гостиницу: «Взошел, шапку скинул, положил на стол перчатки и спрашивает: „Вам, может быть, неприятно, что я приехал? Я Лев Толстой, отверженный церковью. Приехал к вашим старцам поговорить с ними…“
Когда Толстой вернулся с прогулки по Оптиной, доктор Маковицкий спросил его:
– Граф, где же вы были?
– Ходил в скит; хотел зайти к старцу; постоял, но не решился.
– Почему же?
– Не решился; ведь я отлучен.
– А еще пойдете?
– Если меня пригласят».
Умер Толстой без покаяния, о котором, похоже, мучительно думал.
И. Н. Крамской еще долго находился под обаянием встречи с графом Л. Н. Толстым. Портрет писателя явно удался, и он был доволен: «Про „Льва Толстого“ спасибо: я знаю, что он из моих хороших, т. е., как это выразиться?.. честный.Я все там сделал, что мог и умел, но не так, как бы желал писать».
Художник, в свою очередь, также произвел впечатление на писателя. Многие современники отмечали сходство художника Михайлова из романа «Анна Каренина» с И. Н. Крамским. «А знаете ли, ведь его Михайлов страх как похож на Крамского!» – заметил И. Е. Репин в одном из писем к В. В. Стасову.
Знакомство Павла Михайловича с Толстым произошло не ранее 1882 года. 4 августа этого года Вера Николаевна писала своей сестре Зинаиде: «<…> люди гостящие, праздные ужасно мозолят глаза Павл<у> Михайлов<ичу>, которому странно, что кому-нибудь надо ехать гостить к другим, – так высоко у него представление о возможности лично одному наполнить свой досуг. Временное общество приятных людей он никогда не отвергает, а зимой даже будет искать общества Льв<а> Ник<олаевича> Толстого для обмена мыслей с таким чудным, глубоким талантом и ратоборцем за правду».
Весной того же года, когда супруги Третьяковы находились за границей, Лев Николаевич бывал в их доме, привозя дочь Татьяну копировать «Странника» Перова.
В 1885 году они уже знакомы. О том можно судить по письму Павла Михайловича к И. Н. Крамскому 1 февраля 1886 года: «На днях был у Ник. Ник. Ге, остановившегося в доме графа Толстого. Оказалось, что Лев Николаевич возвратился в Москву еще на праздник, я его видел, он точно такой же, как был в прошлом году, без перемен и, слава Богу, здоров».
Летом 1888 года Павел Михайлович благодарил Толстого за данные для прочтения «Крейцерову сонату» и «Смерть Ивана Ильича» и просил запрещенную книжку.
Впрочем, он часто спорил с Толстым и отстаивал свои взгляды. Достаточно вспомнить их переписку по поводу работ H. Н. Ге.
В 1890 году H. Н. Ге закончил картину «Что есть истина?», очевидно, написанную под влиянием Л. Н. Толстого («…последние его вещи – „Что есть истина?“, „Распятие“ и другие – являются уже плодом его нового понимания и объяснения евангельских сюжетов, отчасти навеянного ему моим отцом», – писал в своих воспоминаниях сын Л. Н. Толстого Илья Львович).
Ге безоговорочно принял Толстого. Он не мог думать иначе. Насколько близки они были, можно судить по следующему факту. Невестка художника Е. М. Ге в своих воспоминаниях приводит слова Толстого: «Если меня нет в комнате, то H. Н. может вам ответить: он скажет то же, что я». И подтверждение тому один из разговоров H. Н. Ге с учениками, когда он, рассказывая о киевских святынях – мощах, монашенках и монахах, не забыл сказать, что у них «клобук сдавил разум, а губы потрескались от страсти».
Картину «Что есть истина?» сняли с выставки. Ге перевез ее в дом Толстого. Тот принялся хлопотать о том, чтобы она была послана в Америку и была хорошо принята там.
К Третьякову, не приобретшему картину, Л. Н. Толстой отправляет резкое письмо: «Вы собрали кучу навоза для того, чтобы не упустить жемчужину. И когда прямо среди навоза лежит очевидная жемчужина, Вы забираете все, только не ее…» Ему важно, чтобы Третьяков купил картину. Он даже не видит, что противоречит себе. Находя, что галерея Третьякова ненужное дело («Пошел к Третьякову. Хорошая картина Ярошенко „Голуби“. Хорошая, но и она и особенно все эти 1000 рам и полотен, с такой важностью развешанные. Зачем это? Стоит искреннему человеку пройти по залам, чтобы наверное сказать, что тут какая-то грубая ошибка и что это совсем не то и не нужно»), вообще отрицая галереи, он ищет возможности, чтобы картина была куплена Третьяковым.
В Хамовники пришел ответ Третьякова, датированный 18 июня 1890 года:
«…Я знал наверно, что картину снимут с выставки… Я знал также, что картину никто не купит и что, если окажется после, что ее нужно и можно иметь, то я тогда и приобрету, так как приобрел же „Христа в Гефсиманском саду“ через 20 лет почти по написанию его… Я видел и говорил, что тут заметен большой талант, как и во всем, что делает Ге, и только. Я не могу, как Вы желаете, доказать Вам, что Вы ошибаетесь, потому что не уверен, что не ошибаюсь сам, и очень бы был благодарен, если бы Вы мне объяснили более подробно, почему считаете это произведение эпохой в христианском искусстве. Окончательно решить может только время, но Ваше мнение так велико и значительно, что я должен, во избежание невозможности поправить ошибку, теперь же приобрести картину и беречь ее до времени, когда можно будет выставить…
Теперь позвольте сказать несколько слов о моем собирании русской живописи.
Много раз и давно думалось: дело ли делаю? Несколько раз брало сомнение, – и все-таки продолжаю… Я беру, весьма, может быть, ошибочно, все только то, что нахожу нужным для полной картины нашей живописи… Мое личное мнение то, что в живописном искусстве нельзя не признать главным самую живопись и что из всего, что у нас делается теперь, в будущем первое место займут работы Репина, будь это картины, портреты или просто этюды; разумеется, высокое содержание было бы лучше, т. е. было бы весьма желательно».
«Спасибо за доброе письмо ваше, почтенный Павел Михайлович, – напишет Толстой в Толмачи. – Что я разумею под словами: „Картина Ге составит эпоху в истории христианского искусства?“ Следующее: католическое искусство изображало преимущественно святых, мадонну и Христа, как Бога. Так это шло до последнего времени, когда начались попытки изображать его как историческое лицо.
Но изображать как историческое лицо то лицо, которое признавалось веками и признается теперь миллионами людей Богом, неудобно: неудобно потому, что такое изображение вызывает спор. А спор нарушает художественное впечатление. И вот я вижу много всяких попыток выйти из этого затруднения. Одни прямо с задором спорили, – таковы у нас картины Верещагина, даже и Ге „Воскресенье“, другие хотели трактовать эти сюжеты как исторические, у нас Иванов, Крамской, опять Ге „Тайная вечеря“. Третьи хотели игнорировать всякий спор, а просто брали сюжет, как всем знакомый, и заботились только о красоте (Дорэ, Поленов). И все не выходило дело.
Потом были еще попытки свести Христа с неба, как Бога, и с пьедестала исторического лица на почву простой обыденной жизни, придавая этой обыденной жизни религиозное освещение, несколько мистическое. Таковы Ге „Милосердие“ и франц<узского> художника: Христос в виде священника, босой, среди детей и пр. И все не выходило. И вот Ге взял самый простой и теперь понятный, после того как он его взял, мотив: Христос и его учение не на одних словах, а и на словах и на деле, в столкновении с учением мира, т. е. тот мотив, к<оторый> составлял тогда и теперь составляет главное значение явления Христа, и значение не спорное, а такое, с к<оторым> не могут не быть согласны и церковники, признающие его Богом, и историки, признающие его важным лицом в истории, и христиане, признающие главным в нем его нравственное учение.
На картине изображен с совершенной исторической верностью тот момент, когда Христа водили, мучили, били, таскали из одной кутузки в другую, от одного начальства к другому и привели к губернатору, добрейшему малому, к<оторому> нет дела ни до Хр<иста>, ни до евр<еев>, но еще менее до какой-то истины, о которой ему, знакомому со всеми учеными и философами Рима, толкует этот оборванец; ему дело только до высшего начальства, чтобы не ошибиться перед ним. Христос видит, что пред ним заблудший человек, заплывший жиром, но он не решается отвергнуть его по одному виду и потому начинает высказывать ему сущность своего учения. Но губернатору не до этого, он говорит: Какая такая истина? и уходит. И Хр<истос> смотрит с грустью на этого непронизываемого человека.
Таково было положение тогда, такое положение тысячи, миллионы раз повторяется везде, всегда между учениями истины и представителями сего мира. И это выражено на картине. И это верно исторически, и верно современно, и потому хватает за сердце всякого, того, у кого есть сердце. Ну вот, такое-то отношение к христианству и составляет эпоху в искусстве…»
На сообщение Ге-сына о снятии картины с выставки граф лукаво заметил:
– Мира не может быть между Христом и миром.
Примечателен рассказ дочери Толстого Татьяны о встрече с H. Н. Ге и ее восприятии его картины «Распятие»: «Показывал фотографию с своей картины, и меня Христос привел в ужас. Ге говорит, что его заслуга состоит в том, что он сломалтициановского и давинчевского Христа, – это действительно заслуга, но надо было что-нибудь новое поставить на его место. Надо найти такое лицо, которое бы соответствовало учению, которое нас так трогает и умиляет. Надо, чтобы одно гармонировало с другим, а то мы читаем о высоконравственном, полном любви человеке, а нам показывают страшного разбойника…»
«…Его „Христос перед Пилатом“ – озлобленный, ничтожный, униженный, пропойца-раб. Его писал презирающий раба барин…» – заметит Репин.
Картину «Распятие» также не допустили к выставке. И вновь Л. Н. Толстой пишет «задирательное» письмо П. М. Третьякову.
«Не может быть, чтобы Третьяков оставил это так. Я писал к нему задирательные письма, и он должен по крайней мере обидеться и ответить мне в таком тоне…»
Третьяков купит картину, но не изменит своего к ней отношения. Он покупал ее для истории русской живописи, и только.
«В свое время я откровенно сказал Вам о непонимании художественного значения „Что есть истина?“ – писал он Толстому 29 июня 1894 года. – То же самое я сказал и Николаю Николаевичу, когда приобретал картину. За границей картина не имела успеха <…> скорее возбуждала недоумение. Когда я вновь посмотрел на нее по возвращении, то усомнился, можно ли поставить ее в галерею. Никому она из моего семейства и из знакомых, и из художников, кроме, может быть, только Н. А. Ярошенко, не нравится. Спрашиваю время от времени прислугу галереи, и оказывается, что никто ее не одобряет, а осуждающих, приходящих в негодование и удивляющихся тому, что она находится в галерее, – масса. До сего времени я знаю только троих, оценивших эту картину <…> Может быть, на самом деле только и правы эти немногие, и Правда со временем и восторжествует, но когда? В последней его картине много интересного, ужасно талантливого, но это, по моему мнению, не художественное произведение; я это сказал Николаю Николаевичу; я не стыжусь своего непонимания, потому что иначе я бы лгал…»
Среди бумаг и писем, записок и черновиков у Третьякова лежало письмо, адресованное Толстому, помеченное 9 июля 1894 года. Он несколько раз правил его, переписал и только 12 июля отправил в Хамовники.
«Отвечая Вам, глубокоуважаемый Лев Николаевич, забыл прибавить следующее: Вы говорите, публика требует Христа-икону, а Ге делает Христа – живого человека. Христа-человека давали многие художники, между другими Мункачи, наш Иванов (создавший превосходный тип Иоанна Крестителя по византийским образцам). Поленова я не считаю, так как у него Христа совсем нет, но в „Что есть истина?“ Христа совсем не вижу. Более всего для меня понятен „Христос в пустыне“ Крамского; я считаю эту картину крупным произведением и очень радуюсь, что это сделал русский художник, но со мной в этом едва ли кто будет согласен. Будьте здоровы, сердечно любимы Лев Николаевич.
Преданный Вам П. Третьяков».
Третьяков считал «Распятие» картиной, недостойной находиться в одном здании с дамами Лемана. Он высказал это Толстому, чем привел его в негодование. На письмо графа Павел Михайлович отвечал как никогда спокойно:
«…Не я считаю пятном галереи картину „Что есть истина?“ – писал он 26 июля 1894 года. – К ней, как к труду истинного и высокоуважаемого мною художника, я отношусь с должным уважением. Когда я получил и вновь посмотрел на картину, повторяю, усомнился, можно ли поместить в публичную галерею, боясь оскорбить православный русский народ, и опасения мои оказались основательными; повторяю, одобряющих картину вслух – совсем нет, а порицающих и возмущающихся так много, что я опасаюсь, как бы в порыве негодования кто-нибудь не уничтожил ее или не потребовал бы убрать.
Я нахожу, что иметь один экземпляр необходимо и сохранить его и вообще для истории искусства и для будущего суда; но если бы я проникся необходимостью приобрести „Повинен“ и „Распятие“, то ведь поместить-то их в галерею было бы невозможно: они могут только сохраниться в частных руках, а в общественных галереях выставить не позволят».
«Ну, да я знаю, что не убежу вас, да это и не нужно…» – махнет рукой Толстой.
В 1898 году между Толстым и Третьяковым вновь произойдет размолвка. Толстой ратовал за переселение духоборов в Канаду и просил Павла Михайловича помочь им материально, на что Третьяков, учитывая привязанность русского человека к родной земле, зная, что духоборы не испытывали гонений со стороны властей, и не видя причин для их переселения, ответил Толстому резким отказом. Преступно было, по его мнению, переселять русских людей с родной земли.
Что ответил граф Л. Н. Толстой и как отреагировал на последовавшую вскоре смерть П. М. Третьякова, неизвестно.
Глава VIII
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Отец Фудель, священнослужитель одного из московских храмов, в письме на имя обер-прокурора Священного синода К. П. Победоносцева высказал суждение, что не считает возможным, в случае смерти графа Л. Н. Толстого, отпевать его, еретика и отступника, согласно церковному обряду.
Выслушав текст письма от докладчика В. М. Скворцова, оборвав чтение на полуслове, обер-прокурор сказал, энергично жестикулируя рукой с папироской перед самым лицом подчиненного:
– Да позвольте! Что он мудрит: ведь этаким манером рассуждать, то по ком же тогда и петь «со святыми упокой»? Мало еще шуму-то около имени Толстого, а ежели теперь, как он хочет запретить служить панихиды и отпевать Толстого, то ведь какая поднимется смута умов!
К. П. Победоносцев понимал: открытая борьба церкви с Толстым послужит к славе последнего.
Но все больше приходило в Священный синод писем с осуждением действий Толстого. В печати и обществе появились резкие укоризны к церковной власти, которая боится выступать против еретичества.
Наконец, 18 февраля 1901 года К. П. Победоносцев затребовал доклад об учении Л. Н. Толстого, а в двадцатых числах февраля Святейший синод обнародовал в «Церковных ведомостях» послание Греко-российской церкви о графе Льве Толстом.
Отныне граф Толстой был отлучен от церкви, доколе не раскается и не примет ее догматов.
Искал ли Толстой примирения с церковью?
Чем жил он последние годы?
Художник М. В. Нестеров, картину которого «Юность преподобного Сергия» Толстой не принимал и даже советовал «полечиться художнику, хоть травой Кузьмича», так характеризовал писателя в письме к А. А. Турыгину от 31 августа 1906 года:
«„Толстой-старец – это поэма“, – писал я тебе, и это истинная правда, как правда и то, что „Толстой – великий художник“ и как таковой имеет все слабости этой породы людей. В том, что он художник, – его оправдание за великое его легкомыслие, за его „озорную“ философию и мораль, в которых он, как тот озорник и бахвал парень в „Дневнике“ Достоевского, постоянно похваляется, что и „в причастие наплюет“. Черта вполне „русская“. И Толстой, как художник, смакует свою беспринципность, свое озорство, смакует его и в религии, и в философии, и в политике. Удивляет мир злодейством, так сказать…
Лукавый барин, вечно увлекаемый сам и чарующий других гибкостью своего великого таланта…
…Сколько это барское легкомыслие, „блуд мысли“ погубил слабых сердцем и умом, сколько покалечило, угнало в Сибирь, один Бог знает!..»
Отношение к Л. Н. Толстому вполне сложившееся, и, надо думать, художник не сомневался в том, какую реакцию вызовет у Толстого его картина «Святая Русь».
Но об этом он узнал лишь много лет спустя после смерти Л. Н. Толстого. А узнав, признался, что, если бы мнение писателя было известно ранее, его отношение к Толстому резко переменилось бы тогда же.
Впрочем, все по порядку.
21 января 1907 года в газете «Новое время» появилась статья М. О. Меньшикова «Две России», посвященная картине М. В. Нестерова «Святая Русь».
«Она будит давние, заснувшие чувства, – писал М. О. Меньшиков. – Мне кажется, что есть две России – святая и поганая. И святую, неотделимую от Бога и его природы, создал сам народ. Поганая же пришла откуда-то со стороны.
…У иноплеменных иная гордость: у греков – красота, у римлян – сила, у германцев – знания. У нас поэзия расы вылилась в святость, в какое-то сложное состояние, где есть красота, но красота чувства, где есть и сила, но сила подвига, где есть и знание, но знание, похожее на провидение, на мудрость пророков и боговидцев.
У нас не выработалось роскошной культуры, но лишь потому, что интеллигенция наша – наполовину инородческая – изменила народу, отказалась доделать, дочеканить до совершенства народное создание, народное творчество. А сам же народ дал могучее своеобразие духа, дал черту особой цивилизации, отличной от заказных. Он дал нечто трудно объяснимое, но понятное русскому чувству, что звучит в словах „Святая Русь“».
Через два дня М. О. Меньшиков получил письмо от Льва Николаевича Толстого: «Спасибо Вам, Михаил Осипович, за Ваше вступление к фельетону „Две России“. Я заплакал, читая его, и теперь, вспоминая, не могу удержать выступающие слезы умиления и печали. Но умру все-таки с верой, что Россия эта жива и не умрет. Много бы хотелось сказать, но ограничусь тем, что благодарю и братски целую Вас».
Шла внутренняя борьба, спор гордыни с затерянной было в тайниках души, едва ли не с отроческих лет, верою в Бога. Но борьба была настолько скрытой, утаенной, что о ней не догадывались даже близкие. Сын Толстого Лев Львович, к примеру, продолжал считать, что «никто не сделал более разрушительной работы ни в одной стране, чем Толстой… Не было никого во всей нации, кто не чувствовал бы себя виновным перед строгим судом великого писателя. Последствия этого влияния были прежде всего достойны сожаления, а кроме того, и неудачны… Отрицание государства и его авторитета, отрицание закона и Церкви, войны, собственности, семьи – отрицание всего перед началом простого христианского идеала…»
И сам Толстой в своем обращении к духовенству еще 1 ноября 1902 года писал следующее: «Говорят о вредных книгах. Но есть ли в христианском мире книга, наделавшая больше вреда людям, чем эта ужасная книга, называемая „Священной историей Ветхого и Нового Завета“?»
И все же… Бежав из Ясной Поляны, Толстой отправляется в Оптину пустынь и останавливается в монастырской гостинице.
Оптинский послушник, будущий отец игумен Иннокентий со своим товарищем послушником Николаем Тимашевым, был свидетелем того, как ранним утром граф вышел из гостиницы и направился вдоль монастырской внешней стены. Подойдя к скитским воротам, Лев Николаевич остановился. С правой стороны от врат была келья старца Иосифа, с левой – Варсонофия.
«Немного постояв, он повернул возле скитской стены налево, – вспоминал отец Иннокентий, – вышел на тропинку, ведущую на монастырские огороды, прошел огородами и дошел до берега реки Жиздры. Тут он развернул свой складной стул и сел… отдыхая порядочно времени, а потом поднялся и пошел в гостиницу и больше никуда не выходил. А утром 30-го он отправился на станцию Козельск для дальнейшего следования в Шамординский монастырь, где жила его сестра – монахиня Мария».
Уезжая, он расписался в книге посетителей синим карандашом: «Лев Толстой благодарит за прием».
Едва он приехал к сестре Марии Николаевне, они затворились в спальне. Вышли только к обеду, и тогда Толстой сказал: «Сестра, я был в Оптиной, как там хорошо! С какой радостью я жил бы там, исполняя самые низкие и трудные дела; только поставил бы условием не принуждать меня ходить в церковь». – «Это было бы прекрасно, – отвечала Мария Николаевна, – но с тебя бы взяли условие ничего не проповедовать и не учить». Он задумался, опустил голову и оставался в таком положении довольно долго, пока ему не напомнили, что обед кончен. «Виделся ты в Оптиной со старцами?» – спросила сестра. «Нет, – ответил он. – Разве ты думаешь, что они меня приняли бы? Ты забыла, что я отлучен».
Он переживал свое отлучение. Это было ясно.
Перед кончиной Толстой, по мнению некоторых зарубежных исследователей, был на грани примирения с церковью.
Мало кто знает, что со станции Астапово, вскоре после приезда туда Толстого, была отправлена в Оптину пустынь телеграмма с просьбой немедленно прислать к больному графу старца Иосифа.
Старец Иосиф в то время, в силу физической слабости, не мог выходить из кельи, и на совете старшей братии монастыря было принято решение командировать старца игумена Варсонофия в сопровождении иеромонаха Пантелеймона.
Сохранилась редчайшая книжка В. А. Готвальда «Последние дни Л. Н. Толстого», вышедшая в свет в 1911 году. Автор ее, находясь в Астапове по поручению газеты «Копейка», скрупулезно собирал сведения обо всех происходивших тогда близ Толстого событиях. Вскоре ему стало известно, что митрополит Антоний прислал Толстому телеграмму, в которой писал, что он с первой минуты разрыва Льва Николаевича с церковью непрестанно молился о том, чтобы Господь возвратил его к церкви, и что теперь он умоляет его примириться с церковью и православным русским народом.
«Но положение Л. Н. было настолько серьезно, что показать ему эту телеграмму было рискованно, – пишет В. А. Готвальд. – Ослабевшее сердце могло не выдержать волнения».
5 ноября оживленно обсуждалось получение телеграммы от митрополита Антония.
В это же время в Астапово приехали монахи из Оптиной пустыни.
«Возвращаюсь на станцию и, при входе в буфетный зал, невольно отшатываюсь: передо мной вырастают две черные зловещие фигуры. Оказывается, это – игумен Оптиной пустыни о. Варсонофий и иеродиакон той же пустыни о. Пантелеймон, – пишет В. А. Готвальд. – Игумен решительно отказывается отвечать на вопросы и скрывается куда-то, а иеродиакон, напротив, охотно сообщает, что они приехали сюда по поручению Синода, для „увещания“ графа Толстого.
– И надеетесь на успех? – спрашиваю я.
Иеромонах мнется:
– Как вам сказать… Конечно, если Господь его не просветит, то что же мы можем…»
Несмотря на настойчивые просьбы, их не пустили к больному.
«Как я понимаю, Толстой искал выхода. Мучился, чувствовал, что перед ним вырастает стена», – говорил старец Варсонофий позже.
Возможно, окружение Толстого боялось, что он, увидевшись со старцем, попросит исповедовать его и соборовать и, таким образом, откажется от своего вероучения.
Скупые сведения остались о последних часах жизни Л. Н. Толстого. Накануне смерти он произносит: «Ну, теперь шабаш, все кончено!» «Не понимаю, что мне делать?» Мария Николаевна Толстая, сестра писателя, рассказывала об этом более подробно: «„Что мне делать, Боже мой! Что мне делать?“ руки его были сложены, как на молитву».
В. Чертков приводит и другой возглас Льва Николаевича: «„А мужики-то, мужики как умирают!“ Фразу эту он произнес, лежа на спине, слабым, жалостливым тоном и прослезился».
«Так, видно, мне в грехах придется умирать». Возглас, записанный врачами, дополняет вышесказанное: «6 ноября около 2-х часов неожиданное возбуждение: сел на постель и громким голосом внятно сказал окружающим: „Вот и конец, и ничего!“».
Да, его влияние на окружающих было велико.
И в среде художников он находил сторонников. Пытался обратить в свою веру И. Н. Крамского и И. Е. Репина, H. Н. Ге, и В. И. Сурикова…
«Я все еще под влиянием Вашего посещения! – писал И. Е. Репин графу Толстому 14 октября 1880 года. – Много работы задали голове моей… Теперь, на свободе, раздумывая о каждом Вашем слове, мне все более выясняется настоящая дорога художника, я начинаю предчувствовать интересную и широкую перспективу…»
Под влиянием бесед с Толстым Репин чуть было не оставил работу над картиной «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Репин просил Льва Николаевича дать ему сюжет для картины в 1898 году. («Репин все просит папа дать ему сюжет. Он приезжал с этим в Москву, потом писал мне об этом и еще несколько раз напоминал мне об этом, пока я была в Петербурге. Вчера папа говорил, что ему пришел в голову один сюжет, который, впрочем, его не вполне удовлетворяет. Это момент, когда ведут декабристов на виселицу. Молодой Бестужев-Рюмин увлекся Муравьевым-Апостолом, – скорее личностью его, чем идеями, и все время шел с ним заодно, и только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял его, и они пошли так вдвоем к виселице» – из дневниковой записи Т. Л. Сухотиной-Толстой от 4 февраля 1898 года.)
«…Помню, как однажды у себя в „Княжьем дворе“ В. И. Суриков, сыграв что-то на гитаре и отложив ее в сторону, сказал:
– Ну и что же, что Толстого отлучили от церкви! Велика беда! А вот от „Войны и мира“ и „Казаков“ его никто не отлучит, потому что он ведь вот какой! – При последних словах В. И. Суриков раскинул во всю широту руки. – Его не ухватить никакому Синоду. Он один у нас и таким будет не только пока жив, но и когда его в живых не будет. Он – Толстой! – И Суриков опять сделал такое же движение руками», – вспоминал В. М. Лобанов.
Восхищаясь Толстым-писателем, не принимал его взглядов и Репин.
«Льва Толстого я лично хорошо знаю, знаю хорошо и его произведения, – сказал как-то Илья Ефимович своему знакомому А. В. Жиркевичу. – На мой взгляд, Толстой – гений как художник и слаб, когда начинает философствовать, проводить в своих произведениях различные тенденции. Я смотрю, да и многие в обществе того же взгляда, что „Крейцерова соната“ – признак упадка в духовном мире Толстого. Как только он творит без тенденции, он велик, несравненен. Но как только он начинает писать, проводя нарочно какую-нибудь мысль, он заслуживает жалости. Встав в литературных работах на скользкую почву тенденции, Толстой быстро пойдет под гору».
Высказывал свое неприятие обновленного христианства и иронизировал по поводу толстовского проповедничества М. В. Нестеров. Противником Толстого-моралиста был Г. Г. Мясоедов, не любил философствований графа Толстого и И. И. Шишкин.
В среде молодых художников взгляды Толстого на искусство, резкие высказывания о великих художниках вызвали несогласие, однако обаяние таланта было столь велико, что конечно же каждое суждение Толстого о том или ином художнике и его работе запоминалось и передавалось друг другу.
А он ходил по выставкам и бросал:
– По моему мнению, все же лучшей картиной, которую я знаю, остается картина Ярошенко «Всюду жизнь» – на арестантскую тему.
Увидев репинских запорожцев, сказал:
– Сколько потрачено бесполезно Репиным времени, труда, таланта для такой бессодержательной картины. А зачем?
– Я не признаю картинных галерей. В них разбрасываешься, впечатление меркнет. Я предпочитаю им книжку с иллюстрациями, которую можно спокойно перелистывать дома, лежа на кровати, – говорил он своему знакомому А. В. Жиркевичу.
Лев Николаевич приходил в восторг от репинского «Ареста пропагандиста», а картины В. М. Васнецова называл мазней.
«Люди ужасаются на произведения Васнецова потому, что они исполнены лжи, и все знают, что ни таких Христосов, ни Саваофов, ни Богородиц не было, не могло быть и не должно быть, – писал он П. М. Третьякову. – Люди же, ужасающиеся на произведения Ге, ужасаются только потому, что не находят в них той лжи, которую они любят».
Л. Н. Толстой в своих исканиях был близок русским художникам XIX века, как и Ф. М. Достоевский. Два эти писателя оказали огромное влияние на развитие общественной мысли, оба говорили о главном – о духовных недугах России, грозивших ей в будущем исторической катастрофой. Оба искали выход, и каждый видел его по-своему.
Художники прислушивались к литераторам, и все же говорить о том, что русская живопись целиком находилась в зависимости от русской литературы, идей, ею исповедуемых, было бы неверно.