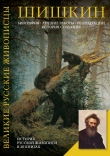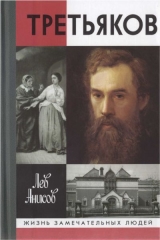
Текст книги "Третьяков"
Автор книги: Лев Анисов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
С детства полюбив народные сказки и песни, Виктор Михайлович с увлечением изучал былины и исследования по русской старине. Поселившись в Москве, он много времени проводил в Кремле и Оружейной палате, подолгу ходил по старинным московским улочкам, знакомясь с достопримечательностями Первопрестольной.
Он обратился к народному фольклору, осознавая, что сказки отображают ту поэтическую нежную душу, какой отличался русский человек. Так появились его картины «Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером Волке».
«Когда он написал свои сказочно-былинные вещи „Витязь на распутье“, „Ковер-самолет“ и „Скифы“, сделанные для Мамонтова, – вспоминала А. П. Боткина, – они были так новы, так увлекательны, так поэтичны, что навсегда привлекли наши симпатии к художнику».
Третьяковым, приходившим в гости к Васнецову, художник показывал «Аленушку», эскизы панно «Каменный век» для Исторического музея, «Три царевны», начатого «Серого Волка»…
Вера Николаевна рассказывала Виктору Михайловичу, как в доме брата ее, где хранилась картина Васнецова «Стычка русских со скифами», старый швейцар дома любил ворчать, выпроваживая детей из столовой: «Ну, чего вы ждете? Приходите завтра и увидите, кто оказался победителем – русские или татары».
Дети Третьяковых души не чаяли в Викторе Михайловиче.
«На одной из передвижных выставок, не слыхав еще тогда имени Васнецова, увидев висящую совсем отдельно его картину „Слово о полку Игореве“, я была очарована, восхищена до внутренних слез, – вспоминала В. П. Зилоти. – Я любила древнюю Русь, а Васнецов рассказывал ее как легенду, как балладу, и я вернулась домой с выставки совсем взволнованная. Это первое впечатление было и осталось самым сильным от эпического таланта Васнецова. Впоследствии любила я и его „Богатырей“, и его „Аленушку“, и „Грозного“, сходящего по лестнице из кремлевских теремов, и многое другое.
Отношения с Виктором Михайловичем в нашей семье были немного иные, чем с другими художниками. Между нашим отцом и Васнецовым чувствовался обоюдный громадный интерес и уважение».
Заходил он в Толмачи невзначай, когда выдавалась свободная минута, перекинуться словечком, послушать музыку.
«Теперь голова моя наполнена святыми, апостолами, мучениками, пророками, ангелами, орнаментами, и все почти в гигантских размерах, – писал В. М. Васнецов в Толмачи из Киева, где расписывал Владимирский собор. – И как бы было хорошо для меня теперь слушать великую музыку. Как бы я рад был теперь приютиться у печки между двумя столиками (мое обыкновенное место) и слушать Баха, Бетховена, Моцарта, слушать и понимать, что волновало их душу, радоваться с ними, страдать, торжествовать, понимать великую эпопею человеческого духа, рассказанную их звуками…»
Третьяковы приезжали в Киев в 1889 году: Вера Николаевна с дочерьми весной, а Павел Михайлович осенью, проездом за границу.
– Талант ваш нашел выход, – говорила Вера Николаевна Васнецову, рассматривая его роспись во Владимирском соборе.
Третьяков особо дорожил мнением Виктора Михайловича и частенько спрашивал его, приобретать ли те или иные картины для галереи, имеют ли они значение для истории русской живописи.
В 1889 году Павел Михайлович приобрел его картину «Иван-царевич на Сером Волке». Когда же В. М. Васнецов возвратился в Москву, Третьяков принялся собирать его эскизы, картоны и акварели к росписи собора. Все, что касалось подготовительных работ, теперь хранилось в галерее: «Радость праведных о Господе. Преддверие рая», «Христос Вседержитель», «Единородный Сын Слово Божие», «Распятый Иисус Христос», «Крещение Руси», «Страшный Суд»…
В 1897 году, едва художником будет окончена работа над «Иоанном Грозным», Третьяков купит ее. («Разумеется, я ее оставляю за собой, тем более что Вы считаете ее ответственным произведением…»)
В декабре 1898 года, на другой день после кончины Третьякова, Виктор Михайлович писал Поленову: «Тяжело, страшно тяжело терять таких людей, как Павел Михайлович. Чувство такое – точно кого-то родного потерял».
* * *
И. Е. Репину было двадцать восемь, когда он закончил «Бурлаков» и стал в одночасье знаменитым.
«Нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не полюбя… Ведь эта „бурлацкая партия“ будет сниться потом во сне, через пятнадцать лет вспомнится! А не были бы они так натуральны, невинны и просты – не производили бы впечатления и не составили такой картины», – высказался о «Бурлаках» Ф. М. Достоевский.
Было ясно: явился новый яркий талант в русской живописи.
В перерыве работы над «Бурлаками» Илья Репин писал конкурсную работу «Воскрешение дочери Иаира», очень близкую по духу и настроению картине А. А. Иванова «Явление Христа народу». В образе Христа, воплощенном Репиным, чувствуется то же величие, что и в картине Иванова.
О картинах «Бурлаки» и «Воскрешение дочери Иаира» говорили, спорили. «Бурлаки» блистали светом, яркостью красок, затмевая все вокруг себя, и производили, по замечанию современника, прямо ошарашивающее впечатление.
Уроженец далекого Чугуева, сын кантониста, недавний иконописец и ученик Академии художеств, Илья Репин оказался в центре внимания любителей искусства.
Среднего роста, худощавый, с длинными кудреватыми волосами, не словоохотливый, он выделялся чрезвычайной наблюдательностью и большим умом, сочетавшимся, по замечанию В. П. Зилоти, с «лисьей очаровательной хитростью и меткостью».
«Несмотря на тайную титаническую гордость духа внутри себя, в жизни я был робкий, посредственный и до трусости непредприимчивый юноша», – скажет он о себе.
Его взгляды в ту пору отличались оригинальностью и категоричностью, что свидетельствует о масштабе личности еще молодого художника. Так, например, он писал в 1872 году В. В. Стасову: «Живопись всегда шла об руку с интеллигенцией и отвечала ее интересам, воспроизводя интересные для нее образы и картины. Со времени Петра I интеллигенция вращается исключительно при дворе, тогда русских художников еще не было, надо было иностранных; они не только удовлетворяли, они даже развивали двор (дрянь продавалась, как всегда). Буду краток. Во время Александра I русские баричи развились до того, что у них появилась национальная гордость и любовь к родине, хотя они были еще баричи чистой крови, но составляли собою интеллигенцию (Пушкин, Лермонтов и пр. и особенно декабристы, по благородству души). Формы для художника (достойные его интереса) были только в Петербурге да за границей. Явилась целая фаланга художников, ярким представителем которой был Брюллов; национальная гордость Николая простиралась до того, что он поощрял русскую музыку в Глинке, русскую живопись в Федотове и даже заказал Брюллову русскую Помпею „Осаду Пскова“; приставал с этим и к архитектору Тону, но, кажется, получил отпор (у деспотов бывают капризные лакеи, которым все сходит). Интеллигенция эта не могла долго существовать, так как она была замкнута в своем аристократическом кругу и относилась с презрением ко всей окружающей жизни, кроме иностранцев; развращается и падает. Выступает другая интеллигенция, это уже на наших глазах, интеллигенция бюрократическая, она уже не спасена от примеси народной крови, ей знакомы труд и бедность, а потому она гуманна, ее сопровождают уже лучшие доселе русские силы (Гоголь, Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Михайлов, Некрасов). Много является хороших картин: начальные вещи Перова („Проповедь в церкви“, „Дилетант“ и др.), Якоби („Арестанты“), Пукирева („Неравный брак“) и пр. Вы их лучше меня знаете. Эта интеллигенция как-то крепко держится Петербурга, вся стремится к одному центру и одним интересам, пути сообщения плохи, она остается замкнутой. А между тем она развивается до мировых воззрений, хочет разумно устроить целую страну (хотя и не имела знаний), начинает борьбу и погибает… и нечаевщина – только вспышки погасающего пожара (впрочем, уже в нечаевщине виден зародыш нового общества).
Теперь, обедая в кухмистерских и сходясь с учащейся молодежью, я с удовольствием вижу, что это уже не щеголеватые студенты, имеющие прекрасные манеры и фразисто громко говорящие, – это сиволапые, грязные, мужицкие дети, не умеющие связать порядочно пару слов, но это люди с глубокой душой, люди, серьезно относящиеся к жизни и самобытно развивающиеся. Вся эта ватага бредет на каникулы домой, пешком да в 3-м классе („каков рай“), идут в свои грязные избы и много, много порасскажут своим родичам и знакомым, которые их поймут, поверят и в случае беды не выдадут; тут будет поддержка. Вот почему художнику уже нечего держаться Петербурга, где более чем где-нибудь народ раб, а общество – перепутанное, старое, отживающее; там нет форм для народного интереса. Судья теперь мужик, а потому надо воспроизводить его интересы».
Его работы «Воскрешение дочери Иаира» и «Бурлаки» вызывали противоречивые впечатления и толкования, что свидетельствовало о некоем раздвоении характера, его внутреннем споре и духовных поисках.
Воспитанный в соответствии с традициями русской православной семьи (его мать была глубоко верующей и прививала сыну любовь к церкви), он хорошо разбирался в тонкостях религиозных сюжетов, религиозной идеи, но абсолютно противоположное настроение преобладало в его работах, например в тех же «Бурлаках», – дух бунтарства, непокорства, протеста против существующего порядка. Возможно, эти черты ему передались от отца-кантониста, умевшего креститься, но, похоже, не связанного тесно с православною церковью (торговые дела отнимали все его время).
Отношения с религией у художника были непростые. Тому свидетельством строки из письма И. Е. Репина к В. В. Стасову, написанные 31 марта 1892 года: «…Да вообще все христианство – это рабство, это смиренное самоубийство всего, что есть лучшего и самого дорогого и самого высокого в человеке, – это кастрация…»
«Стасов делал все возможное, чтобы поднять Репина, – вспоминал скульптор И. Гинзбург, – повысить его кругозор, свести и познакомить его с прогрессивными деятелями культуры.
От такой опеки духовное развитие Репина подвигалось буквально на глазах. Он получил возможность писать портреты выдающихся людей, беседовать с ними, учился у своих новых знакомых, набирался знаний, слушая лекции, посещая собрания и концерты…
Меня всегда поражала замечательная черта в Репине – его работоспособность. Я ничего подобного не видел ни у кого за всю жизнь. Все художники, как правило, любят искусство и служат ему верой и правдой, но Репин был какой-то особенный. Карандаш и альбом были с ним буквально всегда. Сидит ли он на концерте, на каком-нибудь парадном обеде, на собрании – везде вынимает свой альбом и скромно, чтобы никто не видел, садится в уголок и рисует. Для него изучение зримого мира, и в первую очередь человека, было величайшим наслаждением… Он необычайно дорожил временем и не любил пустых разговоров. Беседуя, он неустанно изучал человека, с которым разговаривал. Видели бы вы, что выражали его глаза, когда он наблюдал человека».
Его наблюдательность и умение психологически точно раскрыть собеседника, а самому при этом остаться в тени многие воспринимали как настороженность.
Три года провел Репин за границей – в Италии и во Франции. Летом 1873 года он писал Стасову: «Нет, я теперь гораздо больше уважаю Россию! Вообще, поездка принесет мне так много пользы, как я и не ожидал. Но долго здесь не пробуду. Надо работать на родной почве. Я чувствую, во мне происходит реакция против симпатий моих предков: как они презирали Россию и любили Италию, так мне противна теперь Италия с ее условной до рвоты красотой».
А 26 января 1874 года из-под его пера появятся следующие строки: «Не знаю других сфер, но живопись у теперешних французов так пуста, так глупа, что сказать нельзя. Собственно, сама живопись талантлива, но одна живопись, содержания никакого… Для этих художников жизни не су-шествует, она их не трогает. Идеи их дальше картинной лавочки не поднимаются».
В 1875 году он напишет картину «Парижское кафе» и вскоре приступит к исполнению заказа великого князя Александра Александровича – созданию на былинный сюжет полотна «Садко». (За него он впоследствии получит звание академика.)
Работая по заказу П. М. Третьякова над портретом И. С. Тургенева, И. Е. Репин встречается на квартире писателя с Германом Лопатиным. В 1866 году тот был привлечен к следствию по делу Каракозова. Через четыре года Лопатин похитил из кадниковской ссылки идеолога народников П. Л. Лаврова, помог достать ему паспорт и бежал вместе с ним за границу.
Живой, общительный человек, к тому же прекрасный рассказчик, конечно же вызвал интерес у художника. С любопытством слушал он, как Лопатин пытался освободить из ссылки Н. Г. Чернышевского, но, став жертвой предательства, попал в тюрьму, в Иркутский острог, из которого, после третьей попытки, ему удалось бежать.
Лопатина и Тургенева объединяли общие дела, касающиеся подпольного журнала «Вперед», издаваемого П. Л. Лавровым и субсидировавшегося И. С. Тургеневым.
Общение с революционером конечно же привело к новым знакомствам с русскими политическими эмигрантами. Вскоре И. Е. Репин устанавливает дружеские связи со многими из них. Он переписывался с В. Фигнер, а в конце восьмидесятых – начале девяностых годов напишет портрет революционерки X. Гельфман.
С русскими революционерами он встречался на вечерах, устраиваемых Г. И. Успенским, в доме Полины Виардо, в русской библиотеке, открытой в январе 1875 года по инициативе русских политических эмигрантов.
Художник на какое-то время увлекся идеями новых знакомых. Позже, оказавшись в 1883 году вместе с В. В. Стасовым в Париже, он не пропустит ни одного собрания у социалистов, будет в толпе на кладбище Пер-Лашез, у знаменитой стены, где еще так недавно происходил расстрел коммунаров. А 5 (17) июля 1889 года вместе со Стасовым, Г. В. Плехановым и П. Л. Лавровым И. Е. Репин присутствовал на первом учредительном конгрессе II Интернационала, организованного по инициативе Ф. Энгельса.
Его тянуло в Россию. Особо думалось о Чугуеве. Может, вспоминалось, как в большие праздники, когда семья жила еще в Осиновке, ходили они с маменькой в Кочеток, верст за семь от их дома. Чтобы поспеть к обедне, надо было выйти с восходом солнца. Когда проходили через весь город и солнце начинало уже припекать, с удовольствием входили они в кленовый густой лес под Кочетком и поспевали до начала благовеста.
А по дороге маменька рассказывала истории из жития святых.
После службы явленную икону несли из церкви на колодец. Толпа шла за нею по тенистому лесу, и так все было красочно, незабываемо…
«Я решил ехать в Россию, – писал И. Е. Репин Стасову из Парижа, – надо начать серьезно работать что-нибудь по душе; а здесь все мои дела выеденного яйца не стоят. Просто совестно и обидно, одна гимнастика и больше ничего».
Павлу Михайловичу Третьякову, интересовавшемуся выставкой в Париже, Илья Ефимович писал 23 мая (4 июня) 1874 года:
«…На главной годичной выставке есть такие вещи, что мы единодушно желали бы приобрести их к нам в Россию: первая – Новиля (Невиля) из последней войны, замечательно реальная вещь; вторая – Фирмен Жирар. Обрученная пара времен Людовика XVI идет по аллее, засыпанной кленовыми листьями, в сопровождении родных и знакомых – удивительно изящно исполненная вещь, тонко и правдиво.
Но удивительный народ французы, они об этих вещах всего меньше говорят и почти не пишут, тогда как о других, плохих и часто безобразных или пошлых по своей бездарности вещах они кричат!!! Положим, у них ужасно развит подкуп и рекламерство – это, во-первых, а во-вторых, мы, славяне, все-таки, должно быть, другой народ и никогда не можем жить их жизнью».
Возвратившись в Россию, проездом в Чугуев Репин на несколько дней остановился в Москве. В это время он задумывается, не перебраться ли ему в Первопрестольную. «Выгоду Москвы я разумел только с нравственной стороны, со стороны знакомства с Россией», – напишет он чуть позже В. Д. Поленову. Посетив галерею Третьякова, Репин пришел в восторг. Особенно ему понравились портреты Л. Н. Толстого и И. И. Шишкина кисти Крамского, пейзажи А. И. Куинджи, а также картина В. М. Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу».
В Чугуеве он работал неистово. За год наработано столько, сколько иному хватило бы на многие годы: «Явленная икона» (начатая на родине), «В волостном правлении», «Под жандармским конвоем», «Возвращение с войны», «Протодиакон», «Мужик с дурным глазом», «Мужичок из робких»…
«Никогда я еще не ворочался в столицу с таким запасом художественного добра, как теперь из провинции, из глуши», – писал он в сентябре 1877 года, перебравшись в Первопрестольную.
Представленный им для парижской международной выставки «Протодиакон» не был принят правительственным жюри по цензурным условиям. В Париж уехали «Бурлаки» и «Мужик с дурным глазом».
«Протодиакона» и «Мужика с дурным глазом» в тот год приобрел П. М. Третьяков.
К сюжетам на религиозные темы Репин не обращался. Отныне они будут весьма редки в его работе.
«Часто приходил он с нашим отцом прямо из галереи к нашему семейному завтраку, – вспоминала В. П. Зилоти. – Отношения между отцом и ним были ярким обоюдным восхищением, поклонением, теплотой и стоят совсем особняком в моей памяти. Мы заслушивались и заглядывались на них, сидящих по бокам угла стола. Несмотря на кажущееся спокойствие и сдержанность, в глазах Ильи Ефимовича искрились бесконечный темперамент, энтузиазм и веселая ирония рядом с верой во все прекрасное».
– Вы всегда говорите прямо, – заметил как-то Репин Третьякову.
Павлу Михайловичу не все нравилось в полотнах, над которыми работал Репин. В частности, ему казалась надуманной поза царевны Софьи в картине «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки ее прислуги в 1698 году», и он просил несколько переменить ее.
Картина, возможно задуманная не без влияния Сурикова (тот работал над своими «Стрельцами»), явно не задалась Репину. Он, казалось, искал крови, эффекта.
«Я когда „Стрельцов“ писал – ужаснейшие сны видел: каждую ночь во сне казни видел. Кровью кругом пахнет. Боялся я ночей, – вспоминал В. И. Суриков. – Проснешься и обрадуешься. Посмотришь на картину. Слава Богу, никакого этого ужаса в ней нет. Все была у меня мысль, чтобы зрителя не потревожить. Чтобы спокойствие во всем было. Все боялся, не пробужу ли в зрителе неприятного чувства. Я сам-то свят, – а вот другие… У меня в картине крови не изображено и казнь еще не начиналась. А я ведь это все – и кровь, и казни в себе переживал. „Утро стрелецкой казни“: хорошо их кто-то назвал. Торжественность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казнь.
Помню, „Стрельцов“ я уже кончил почти. Приезжает Илья Ефимович Репин посмотреть и говорит: „Что же это у вас ни одного казненного нет? Вы бы вот здесь хоть на виселице, на правом плане, повесили бы“.
Как он уехал, мне и захотелось попробовать. Я знал, что нельзя, а хотелось знать, что получилось бы. Я и пририсовал мелом фигуру стрельца повешенного. А тут как раз нянька в комнату вошла, – как увидела, так без чувств и грохнулась.
Еще в тот день Павел Михайлович Третьяков заехал: „Что вы, картину всю испортить хотите?“ – „Да чтобы я, – говорю, – так свою душу продал!.. Да разве так можно?“»
Сам Репин не побоялся крови и за окном кельи, в которой находилась царевна Софья, повесил-таки стрельца.
Даже Мусоргский, с любовью относившийся к Репину, резко отозвался о картине.
«Правительница Софья могла и умела делать то, – писал он Стасову, – чего в картине нашего друга я не видел: моя мечта звала меня к толстоватенькой женщине, не раз испытавшей жизнь без прописей, а увидел я петру-схожую бабу злую, но не озлобленную, бабу огромную, но не маленькую, бабу не толстоватенькую, а всю расплывшуюся до того, что при ее огромной величине (по картине) зрителям было мало места – мне казалось… Зачем наш друг, художник первоклассный, не захотел поучиться у современников Софьи прежде предприятия его картины? Если бы она, т. е. Софья, из опочивальни вошла в молитвенную келью и, увидев братнии безобразия, как тигрица кинулась бы к окну и отвернулась, а глаза ее сошлись бы у самой переносицы и застыли и она бы застыла сама с зачугуневшими кулаками, – я понял бы художника, я узнал бы Софью».
Стасов поддержал Мусоргского и подметил главное: «Для выражения Софьи, этой самой талантливой, огненной и страстной женщины древней Руси, для выражения страшной драмы, над нею свершившейся, у Репина не было нужных элементов в художественной его натуре. Не видя всего этого в действительности, Репин вынужден был „сочинять“, он „сочиняет“ позу, выражение, взгляд своих исторических личностей».
Репин писал царевну Софью с матери Валентина Серова. Павел Михайлович Третьяков советовал Илье Ефимовичу 12 июля 1878 года:
«…Если Вы, добрейший и любезнейший Илья Ефимович, остановитесь писать Софью в царской одежде, то, мне кажется, следует ей дать в руку ручное зеркало (иных тогда трудно иметь было, в особенности в монастыре), которое могло бы быть судорожно сжато и опущено; другая рука могла схватиться за стул или иное что; тогда фигура вышла бы еще выразительнее и энергичнее, а то со сложенными руками может быть похоже на позировку.
Простите, что я вмешиваюсь в чужие дела, что же делать, когда они мне близки! а чтобы не забыть, что пришло мне в голову, спешу сообщить Вам на случай, может быть, еще захватит Вас в Москве.
Я полагаю зеркало необходимым потому, что не могла она не посмотреть на себя, похожа ли еще на царицу? а ручные зеркала есть, вероятно, старинные и интересные».
Автор удивительно точных психологических портретов современников, И. Е. Репин в исторических картинах «сочинял» их. И кроме того, какая-то разрушительная нетерпимость действовала в нем в процессе работы.
Это почувствовал и Павел Михайлович Третьяков, писавший по поводу картины «Крестный ход в Курской губернии» 6 марта 1883 года: «В прежнем „Крестном ходе“ была одна-единственная фигура – благообразная девушка, и ту Вы уничтожили; мне кажется, было бы очень хорошо на месте бабы с футляром поместить прекрасную молодую девушку, которая бы несла этот футляр с верою и даже восторгом (не забудьте, что это прежний „ход“, а и теперь еще есть глубоко верующие); вообще избегните всего карикатурного и проникните все фигуры верою, тогда это будет действительно глубоко русская картина! все, что за дьяконом, – в ней это уже есть».
Л. Н. Толстой, посетивший Репина во время работы его над «Крестным ходом», рассказывал:
«Помню, знаменитый художник живописи показывал мне свою картину, изображающую религиозную процессию. Все было превосходно написано, но не было видно никакого отношения художника к своему предмету.
– Что же, вы считаете, что эти обряды хороши и их нужно совершать или не нужно? – спросил я художника.
Художник, с некоторой снисходительностью к моей наивности, сказал мне, что не знает этого и не считает нужным знать; его дело изображать жизнь.
– Но вы любите, по крайней мере, это?
– Не могу сказать.
– Что же, вы ненавидите эти обряды?
– Ни то ни другое, – с улыбкой страдания к моей глупости отвечал современный высококультурный художник, изображавший жизнь, не понимая ее смысла и не любя, и не ненавидя ее явления».
Тем не менее И. Е. Репин был самостоятелен в своих взглядах, и окружающие признавали его право на это.
«Я очень глубоко уважаю Вашу самостоятельность, – писал П. М. Третьяков художнику 10 марта 1883 года, – и если высказываю когда свои мысли или взгляды, то знаю наперед, что Вам их не навяжешь, да и не желаю навязывать! и говорить можно, почему же не говорить: может быть, иногда и верное скажешь».
Публика встретила картину неоднозначно. Были и восторженные восклицания, были и трезвые голоса. Словно бы продолжая мысль П. М. Третьякова, один из чудеснейших русских писателей, Дмитрий Иванович Стахеев, человек глубоко верующий, писал в газете «Новое время»: «Как же можно сказать, что эта картина есть непристрастное изображение русской жизни, когда она в главных своих фигурах есть только одно обличение, притом несправедливое, сильно преувеличенное… Нет, эта картина не беспристрастное изображение русской действительности, а только изобличение взглядов художника на эту жизнь».
Сам Илья Ефимович, через несколько лет устраивая свою персональную выставку и узнав, что цензура вычеркнула «Крестный ход» из каталога и не позволяла упоминать в изданиях, писал Третьякову: «Пожалуй, прикажут убрать с выставки картину. Всегда переусердствуют. Знаю я, как им дорого православие».
Он, за кем отныне окончательно установилась репутация первого художника России и каждая картина которого становилась событием, считал, что духовенство и монархия в России – зло, губители ее. Напомним, еще в июне 1872 года Репин писал из Москвы Стасову: «…Между тем и в Петербурге тек чистый родник народной жизни и портился в вонючей луже монархизма».
Павла Михайловича не заинтересовал первоначальный вариант картины «Не ждали». Репин написал новый вариант этой картины, больших размеров. Появление ее в Петербурге в 1884 году было сенсационным. Не было собрания, на котором картина не обсуждалась бы, не было семьи, где бы не разгорались споры о ней. «Сюжет имел в себе элементы некоторого политического соблазна», – объясняя причину скандального успеха картины, писал современник. Павел Михайлович приобрел это полотно в 1885 году у самого Репина.
Поселившись в Москве, Репин стал часто бывать у Третьяковых и в городе, и на даче.
«После завтрака пошли родители наши на прогулку в знаменитую Липовую рощу, чтоб показать ее Репину, – вспоминала В. П. Зилоти, – взяли с собой и нас, старших девочек. В глубине рощи Илья Ефимович сорвал несколько чудесных темно-лиловых фиалок и незабудок, сложил их в букетик и подал мне, говоря: „Вот это соединение красок необыкновенно красиво и мое любимое сочетание“».
Весной 1885 года на передвижной выставке была выставлена картина И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Сенсация была невероятной, такого, пожалуй, на выставке еще не видели. Так, одна из дам упала в обморок прямо перед картиной. Возбуждение было так сильно, что картину пришлось убрать с выставки и отправить ее владельцу, П. М. Третьякову, но в галерее она была выставлена не сразу, а много времени спустя.
«Иногда в зале дома, а иногда в галерее стояла только что приобретенная Павлом Михайловичем новая картина, покрытая белой простыней, – вспоминала племянница Веры Николаевны М. Н. Морозова. – Однажды, когда мы находились в галерее, Павел Михайлович подозвал нас и открыл простыню, покрывавшую картину, и показал нам ее. Мы онемели от ужаса: это был Иван Грозный, убивший сына, работы Репина. Впечатление было страшное, но отталкивающее. Потом эту картину повесили в маленькой комнатке, примыкавшей к большому залу, и перед ней положили персидский ковер, который был как бы продолжением ковра, изображенного на картине, и, казалось, сливался с ним. Казалось, что убитый сын Грозного лежал на полу комнаты, и мы с ужасом стремглав пробегали мимо, стараясь не смотреть на картину».
Сам Репин говорил Павлу Михайловичу:
– Если бы они, эти ценители, знали, сколько горя я пережил с нею. И какие силы легли там. Ну да конечно, кому до этого дело.
Мысль написать картину явилась едва ли не случайно.
В записках Репина находим следующие строки:
«Впервые пришла мне в голову мысль написать картину, трагический эпизод из жизни Иоанна IV, уже в 1882 году в Москве. Я возвратился с Московской выставки, где был на концерте Римского-Корсакова. Его музыкальная трилогия – любовь, власть и месть – так захватила меня, и мне неудержимо захотелось в живописи изобразить что-нибудь подобное по силе его музыки. Современные, только что затягивающиеся жизненным чадом, тлели еще не остывшие кратеры… Страшно было подходить – несдобровать… Естественно было искать выхода наболевшему трагизму в истории…
Чувства были нагружены ужасами современности. А наша ли история не дает поддержки…
Я упрятывал картину, с болезненным разочарованием в своих силах – слабо, слабо казалось все это…
Но наутро испытываю опять трепет – да, что-то похожее на то, что могло быть… И нет возможности удержаться… Никому не хотелось показывать этого ужаса… Я обращался в какого-то скупца, тайно живущего своей страшной картиной… И вот, наконец, на одном из своих вечеров, по четвергам, я решил показать картину своим гостям, друзьям-художникам… Были: Крамской, Шишкин, Ярошенко, Павел Брюллов и другие. Лампами картина была освещена хорошо, и воздействие ее на мою публику превзошло все мои ожидания…
Гости, ошеломленные, молчали, как очарованные в „Руслане“ на свадебном пиру… Потом долго спустя только шептали, как перед покойником…
Я наконец закрыл картину. И тогда даже настроение не рассеивалось и долго… особенно Крамской только разводил руками и покачивал головой… Я почувствовал себя даже как-то отчужденным от своей картины: меня совсем не замечали или вскользь избегали с жалостью…
„Да, вот…“ – произнес как-то про себя Крамской. Но все глядели только на него и ждали его приговора…»
Через несколько лет с картиной случится беда. Рано утром один из посетителей галереи, молодой человек двадцати пяти лет, кинется на нее с ножом и криками: «Довольно крови!.. Долой кровь!..»
На картине появилось три пореза. Явилась полиция. Начался допрос. Покушавшийся оказался сыном старообрядца, иконописцем Абрамом Балашовым. Полотно спасли благодаря реставратору Д. Ф. Богословскому.
Выставленная на передвижной выставке картина вызвала самые противоречивые отклики.
«…историческая картина постольку интересна, нужна и должна останавливать современного художника, поскольку она параллельна, так сказать, современности… Вот она вещь в уровень таланту! – писал И. Н. Крамской 12 февраля 1885 года А. С. Суворину. – Судите сами. Выражено и выпукло выдвинуто на первый план – нечаянность убийства. Это самая феноменальная черта, чрезвычайно трудная и решенная только двумя фигурами. Отец ударил своего сына жезлом в висок, да так, что сын покатился и тут же стал истекать кровью! Минута – и отец в ужасе закричал, бросился к сыну, схватил его, присел на пол, приподнял его к себе на колени и зажал крепко, крепко, одною рукою рану на виске (а кровь так и хлещет между щелей пальцев), другою поперек за талию прижимает к себе и крепко, крепко целует в голову своего бедного (необыкновенно симпатичного) сына, а сам орет (положительно орет) от ужаса, в беспомощном положении. Бросаясь, схватываясь и за свою голову, отец выпачкал половину (верхнюю) лица в крови. Подробность шекспировского комизма. Этот зверь-отец, воющий от ужаса, и этот милый и дорогой сын, безропотно угасающий, этот глаз, этот поразительной привлекательности рот, это шумное дыхание, эти беспомощные руки! Ах, Боже мой, нельзя ли поскорее, поскорее помочь! Что за дело, что в картине на полу уже целая лужа крови на том месте, куда упал на пол сын виском, что за дело, что ее еще будет целый таз – обыкновенная вещь! Человек смертельно раненный, конечно, много ее потеряет, и это вовсе не действует на нервы. И как написано, Боже, как написано! В самом деле, вообразите, крови тьма, а Вы о ней и не думаете, и она на Вас не воздействует, потому что в картине есть страшное, шумно выраженное отцовское горе, и его громкий крик, а в руках у него сын, сын, которого он убил, а он… вот уже не может повелевать зрачком, тяжело дышит, чувствуя горе отца, его ужас, крик и плач, он, как ребенок, хочет ему улыбнуться: „Ничего, дескать, папа, не бойся!“ Ах, Боже мой! Вы решительно <должны> видеть!!!»