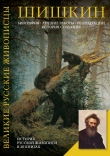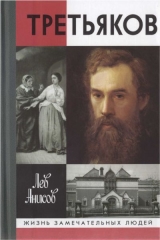
Текст книги "Третьяков"
Автор книги: Лев Анисов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Глава VI
МАСТЕРА
Василий Григорьевич Перов, брюнет изящной наружности, роста выше среднего, любил хорошо одеваться и частенько ходил в коричневой бархатной жакетке.
Прекрасный рассказчик, Перов доводил до слез своих слушателей. Так бывало и в доме Третьяковых, за обеденным столом, стоило Василию Григорьевичу вспомнить что-либо из бурной прошедшей жизни.
Говорил он мягким голосом, серьезно, а все взрослые за столом заливались смехом, особенно Павел Михайлович.
– Некто господин Н., большой любитель искусства и древних вещей, – рассказывал Василий Григорьевич, – приехал раз к одной помещице в ее имение. Старушка-помещица, показывая ему разные разности, обратила его внимание на образ святого Харлампия. Господину Н. показалось странным, что святой изображен в бараньей шапке, а потому он и попросил снять образ, чтобы рассмотреть его. Старушка исполнила его приказание.
«Послушайте, сударыня, – сказал гость, обращаясь к помещице, – какой же это святой Харлампий? Это просто-напросто известный вор и разбойник Емелька Пугачев, о чем и свидетельствует надпись внизу. Вот посмотрите сами!»
Старушка была чрезвычайно удивлена этим открытием. Но спустя минуту совсем рассердилась, задула немедленно все лампадки, проговорив раздраженно: «Ах, подлая его душа! А ведь сколько, если бы вы знали, чудес-то он творил, проклятый каторжник!» – и тут же приказала выбросить на чердак изображение мнимого святого.
Среди московских художников В. Г. Перов был наиболее влиятельным.
Он был из тех, кто рассчитывал только на себя и свой талант. В июле 1864 года В. Г. Перов отправил из Парижа письмо в Совет Императорской Академии художеств о позволении возвратиться в Россию: «…живя за границею почти два года и несмотря на все мое желание, я не мог исполнить ни одной картины, которая бы была удовлетворительна, незнание характера и нравственной жизни народа делают невозможным довести до конца ни одной из моих работ… посвятить же себя на изучение страны чужой несколько лет я нахожу менее полезным, чем по возможности изучить и разработать бесчисленное богатство сюжетов как в городской, так и сельской жизни нашего отечества.
Имею в виду несколько сюжетов из русской жизни, которые я бы исполнил с любовью и сочувствием и, надеюсь, более успешно, чем из жизни народа, мне мало знакомого».
Возвратившись на родину, он поселился в Москве, в доме Резанова, дяди жены, и с увлечением принялся за работу.
«Проводы покойника», «Тройка» (Ученики мастеровые везут воду), «Приезд гувернантки в купеческий дом»… Каждая новая картина вызывала искреннее удивление его талантом.
Перов, уроженец Тобольска, внебрачный сын губернского прокурора барона Г. К. Криденера, ученик Московского училища живописи и ваяния, с самых первых своих работ заставил ценителей и знатоков живописи говорить о себе.
Едва в 1860 году зритель увидел его картину «Первый чин», как тут же появились хвалебные статьи. Его сравнивали с А. Н. Островским и с М. Е. Щедриным, находили, что он – продолжатель Федотова. Критик Мельников в «Светоче», сравнивая двух художников, писал: «Не раз уже перо комика и карандаш художника преследовали и осмеивали эту несчастную слабость наших простых людей гоняться за переходом в высшее сословие… Но, всматриваясь в дело внимательно, кто не сознается, что под комическим складом этой стороны жизни видна и оборотная сторона медали, возбуждающая что-то другое, кроме смеха… Пусть же литература рисует нам эти жалкие типы в сатире, пусть карандаш и кисть осмеивают их в карикатуре, мы будем смеяться, но так, как учили нас Гоголь и Островский». Критик «Светоча» вряд ли знал, что любимым писателем В. Г. Перова с детских лет был Н. В. Гоголь.
В одной из статей, появившейся в журнале «Искусство», говорилось, что сила Перова – в его знании почвы, в его народности, подобно Островскому.
Многие известные литераторы посвящали свои статьи молодому художнику. Среди них был и поэт Я. Полонский.
А стоило появиться в 1861 году на постоянной выставке Общества поощрения художников картине «Сельский крестный ход на Пасхе», как разразилась полемика между В. В. Стасовым и Микешиным. Первый хвалил за верно подмеченные и переданные типы, находил, что искусство должно заняться подобного рода сюжетами; второй писал, что подобное направление убивает настоящее высокое искусство, унижает его, показывая только грязную сторону жизни, что не может служить целью для него, и вообще наговорил немало.
Вмешалась администрация. Академия получила предписание немедленно снять картину с выставки. Павлу Михайловичу, успевшему купить ее, было предписано не давать ее ни на какие публичные выставки.
В. Г. Худяков поспешил отправить письмо в Толмачи: «…а другие слухи носятся, что будто бы Вам от Св. Синода скоро сделают запрос: на каком основании Вы покупаете такие безнравственные картины и выставляете публично? Картина („Попы“) была выставлена на Невском на постоянной выставке, откуда хотя ее и скоро убрали, но все-таки она подняла большой протест! И Перову вместо Италии как бы не попасть в Соловки».
Более нелепого, чем обвинить Перова в безнравственности, придумать было нельзя. Его всегда отличала особая серьезность отношения к основам человеческой нравственности, высшим духовным идеалам и глубоко тревожила мысль об отходе людей от веры. Не в бездуховном ли городе, туманном, никак не различимом, оканчивает свою жизнь молодая утопленница? А ведь известно, церковь считает самоубийство наивысшим грехом. Сколь же надо быть сломленной, духовно ослабшей, чтобы решиться на это. Угрожающая бездуховность города, его гибельное влияние на людей выражены и в картине «Последний кабак у заставы».
И будь зритель более внимателен, он подметил бы много явно не случайного в картине «Сельский крестный ход на Пасхе». И то, что деревенская баба с утратившей лик иконой «Богоматери Умиления» в руках размешена художником в центре картины, и то, что священная книга упала «в грязь лицом», и то, что на хоругви, качающейся над головой оборванного старика, несущего перевернутую икону «Спаса», изображено «Воскресение Лазаря» – прозрачный по своему смыслу знак «воскрешения», пробуждения сознания народа.
Теперь художнику уже не хотелось поучать.
Он не старался картинами будить общественную мысль, что свойственно молодости.
На персональной выставке Перова, организованной в 1870 году Московским обществом любителей художеств, зритель увидел один из лучших в русской живописи психологических портретов «Фомушка-Сыч». А сколько житейски мудрого было в «Страннике».
Простая мысль угадывалась в полотнах: добро в мире от Бога, зло – от человека, живущего без Бога.
Серьезная картина на религиозную тему «Божья Матерь и Христос у житейского моря» возбудила неоднородные толки у публики. Стасов находил ее неудачною по мысли, изображающую воздержание от страстей.
Но мнение критика вряд ли интересовало Перова.
После смерти жены, последовавшей в 1869 году, и кончины двоих детей он на многое смотрел иначе.
«Мне в Перове нравилась не только показная сторона, его желчное остроумие, сколько его „думы“, – писал его ученик М. В. Нестеров. – Он был истинным поэтом скорби. Я любил, когда Василий Григорьевич, облокотившись на широкий подоконник мастерской, задумчиво смотрел на улицу с ее суетой у почтамта, зорким глазом подмечал все яркое, характерное, освещая виденное то насмешливым, то зловещим светом, и мы, тогда еще слепые, прозревали…»
В год смерти жены он написал лишь портрет своего друга – врача Василия Владимировича Бессонова.
На лето 1870 года Василий Григорьевич уехал в Арзамас – город, в котором прошло его детство. Уехал, чтобы отвлечься. Здесь, в Арзамасе, в художественной школе Ступина, он впервые ощутил, что такое человеческая поддержка, человеческое тепло. Ступин, бывая в семье ученика, говорил матери Перова, беспокоившейся за будущее сына: «Ты, матушка, не беспокойся, Васенька не пропадет, – у него талант, из него выйдет художник; это я тебе верно говорю».
Может быть, здесь, в городе детства, он острее поймет, что должно делать художнику в этом мире.
Не мир ли неприметного, доброго в жизни человека, может, и неудачливого в чем-то, отражать ему? Не его ли незатейливые радости и есть поэзия человеческой жизни?
Сколько их – малых, неприметных людей – пришло ему на помощь. И сердце сжималось при одном воспоминании о них, давно ушедших и позабытых всеми.
Забыть ли, как его старая хозяйка Марья Любимовна Штрейтер, у которой он квартировал, будучи учеником Московского училища живописи, ваяния и зодчества, почувствовав приближение своей смерти, жарко молилась за Васеньку, прося у Бога, чтобы не оставил юношу без помощи и после ее кончины.
Зная о безденежье постояльца, Марья Любимовна сдавала ему угол бесплатно и делилась с ним скромным столом.
Тяжкое было время. От переживаний Перов почти перестал работать в классе и дома, карандаш валился из рук. Часто от отчаяния бежал Васенька из дому на кладбище и там предавался горьким думам о безотрадном будущем.
Он тогда и подумать не мог, что кто-то может войти в его положение, что могут найтись добрые люди.
А помощь пришла неожиданно. Выручил учитель Егор Яковлевич Васильев. Пригласил как-то Перова в дом и предложил поселиться у него.
– Я вас-то приглашаю потому, что видел ваши эскизы, – сказал он, – мне кажется, у вас хорошие способности и, Бог даст, со временем из вас выйдет хороший художник-c… У меня квартира казенная, и вы мне никакого убытка не принесете; напротив-с, доставите большое удовольствие своим товариществом…
Ах, Егор Яковлевич, Егор Яковлевич, добрейшая душа. Сам лишенный дарования, он не смотрел завистливо на дарования других и всегда верно мог ценить и понимать людей.
Как Васенька сошел вниз, как надел в швейцарской галоши и фуражку, как очутился на улице, он, право, не помнил. Словно ветром несло его вдоль Мещанской к дому, где он жил. Никого не видел, никого не замечал, будто ничего не существовало кругом, и только войдя уже в комнату, где в кресле у окна сидела Марья Любимовна, он опомнился.
– Что с вами? – спросила она, взглянув в лицо юноши с недоумением.
Васенька принялся бессвязно и бестолково рассказывать, что случилось с ним в то утро, и когда кончил, глаза ее наполнились слезами.
– Неужели моя грешная молитва дошла до тебя, Царица Небесная! – шептала она, набожно крестясь и умильно смотря на висевший перед нею образ. – Ну, мой друг, большей радости и утешения ты не мог принести мне, – прибавила она, задыхаясь.
Через несколько дней ее не стало.
Возвратившись из Арзамаса, Перов написал автопортрет. Ему словно хотелось глубже заглянуть в себя.
В тот же год зритель увидел и его, может быть, лучшую картину «Птицелов».
Тихий, летний день. В густом, старом лесу, укрывшись за деревом, лежит в траве и посвистывает в дудочку старик, по внешности похожий на дворецкого. Внук его, сидящий рядом, ждет-пождет, когда можно бежать за пойманной птицей.
Сколько жизни, искренности, поэзии в картине. Она чем-то сродни рассказам И. С. Тургенева.
Третьяков, может быть, одним из первых увидел в нем тонкого психолога, умевшего на лету схватывать характерные черты лица и переносить их на полотно. Начиная писать чей-нибудь портрет, Перов старался проникнуть в душу этого человека, поймать ее характерную черту, потому так живы его портреты.
К портретам Перов пришел неожиданно. В 1867 году его товарищ по Московскому училищу живописи и ваяния Брызгалов, желая избежать солдатчины, с отчаяния стал просить Перова помочь ему в этом. Перов согласился руководить его работой, и хотя Брызгалов написал чрезвычайно плохо свой этюд «Старик-чистильщик», но все же получил звание художника только потому, что Перов прошел этот этюд с начала и до конца.
Мало того, Брызгалову присуждена была золотая медаль за экспрессию, чего не имел сам Перов. Удивленный успехом, он решил писать картины крупных размеров, а также приняться за портреты в натуральную величину.
Собираясь работать над портретом одного из его постоянных покупателей, Борисовского, он даже отправился в Петербург, в Эрмитаж, и там копировал работы Ван Дейка, Веласкеса и Креспи.
В. Г. Перов был первым из художников, кто понял всю важность создания подобной галереи портретов для истории русской мысли. К Перову присоединились И. Н. Крамской, И. Е. Репин и другие.
Его не только любили, но и побаивались. Звали за глаза «папа» московский. «Работаю я себе мирно однажды, ломаю голову, как бы это справиться с луной, как вдруг И. И. Шишкин и Перов! Я струсил. Ну, думаю, попался. Но он – ничего, расхвалил так, что я уже и нить потерял, что нужно делать и как нужно делать. Словом, приехал „папа“ московский! Кисти в сторону, позавтракали да к Ге. Ну, там уже Перов присмирел и от впечатления не говорил», – вспоминал И. Н. Крамской о работе над картиной «Майская ночь».
Строгость и искренность суждений Перова ценились его товарищами. К нему, как наиболее авторитетному из современных художников, обратился Г. Г. Мясоедов с предложением организовать Товарищество передвижников. Так родилось в ноябре 1869 года известное обращение к художникам петербургской Артели с предложением объединиться. После создания Товарищества Перов, тогда уже профессор Московского училища живописи, ваяния и зодчества, стал представителем нового объединения в Москве, членом правления и казначеем.
В течение шести лет В. Г. Перов много сил отдавал Товариществу передвижных художественных выставок. Его заслуги перед ним несомненны. Однако в 1877 году он вынужден был выйти из Товарищества. Разрыв был неминуем.
«Выхожу я из Общества потому, что не разделяю идеи, которой руководится в настоящее время большинство членов, – напишет он И. Н. Крамскому. – Я не согласен с действиями Общества и нахожу многие из них не только неосновательными, но даже и несправедливыми, а потому считаю себя не вправе быть членом того Общества, которое не могу не порицать.
Шесть лет тому назад первому пришла идея основать Общество г. Мясоедову на основании того, что Академия не совсем справедливо получала большие доходы с произведений художников и при этом считала лишним даже озаботиться послать картину обратно ее автору. Указывая, между прочим, на это обстоятельство, Г. Г. Мясоедов совершенно справедливо сказал: „Отчего сами художники не собирают доходов со своих трудов?“ Вот основа Общества. Многим понравилась мысль его, и составилось Товарищество. Никаких же гуманных иллюзий и патриотических чувств в основе совсем и не было… Решили также посылать иногда картины и в провинцию, если это будет не иначе, как выгодно. Положение художника в России незавидное, а потому и главной целью основателей Общества было если не обеспечить, то по крайней мере сколько-нибудь улучшить его положение. Так думали вначале. Теперь Общество преследует уже другую цель: оно положило своею задачей заботиться не столько о пользе своих членов, сколько старается о развитии или потребности к искусству в русском обществе. Я не спорю, что это цель высокая и прекрасная и была бы совершенно уместна, если бы все члены Общества были одинаково обеспечены в материальном отношении, но, к сожалению, этого далеко нет…
Что наше Товарищество не совсем удачно прививает искусство, доказательством тому может служить то, что провинция все менее и менее дает пользы Товариществу, или, сказать другими словами, в духе некоторых членов, что любовь и потребность к искусству или эстетическая жажда не увеличивается, а скорее уменьшается сравнительно с прежними годами».
У него был свой взгляд на вещи, и он не смущался высказать его. Так, когда П. М. Третьяков приобрел знаменитую туркестанскую серию В. В. Верещагина и не переставал радоваться полотнам, Перов писал одному из адресатов, а именно В. В. Стасову: «По моему мнению, картины г-на Верещагина представляют книгу большого объема, которую нужно сначала разобрать, понять ее смысл, и тогда уже, не увлекаясь ни похвалой, ни порицанием, воздать должное творцу и сотворенному, и, вследствие такого моего взгляда на вещи, я в настоящее время о картинах г-на Верещагина сказать ничего не могу, потому что еще сам не понял ни их смысла, ни их значения в той степени, в какой бы желал понять и уяснить их для себя».
В. Г. Перова поддержал И. Е. Репин. В одном из писем к В. В. Стасову он отчитал прямо-таки критика, принявшегося убеждать его в обратном:
«Оставимте Верещагина, Владимир Васильевич, ибо, несмотря ни на какие доводы, каждый из нас останется при своем. Меня нисколько не пугает совпадение моего мнения с мнением Перова; какое мне дело до него, до его воззрений, хотя и считаю его серьезно и хорошо сделавшим свое дело художником, он имеет свое и очень не маленькое значение в русской живописи; я думаю, что значение его самобытней и национальней значения Верещагина».
В этом было нетрудно убедиться, сравнив картины художников.
Незадолго до выхода из Товарищества передвижников В. Г. Перов напишет картину «Крестьянин в поле». У крестьянина та же поза, что и у Христа на полотне И. Н. Крамского «Христос в пустыне».
Он не уединился, покинув передвижников, нет, сосредоточился на работе в Московском училище живописи и ваяния, где был преподавателем до самой своей кончины. «Летопись Московского училища не может указать более лучшего руководителя молодого поколения художников, чем Перов, – заметил один из исследователей его жизни. – Насколько он был талантлив как художник, настолько же и как профессор. Несколько десятков известных имен можно насчитать среди бывших учеников Перова, которому они обязаны всем своим художественным развитием».
– Чтобы быть вполне художником, – любил повторять Василий Григорьевич, – нужно быть творцом; а чтобы быть творцом, нужно изучать жизнь, нужно воспитать ум и сердце; воспитать – не изучением казенных натурщиков, а неусыпной наблюдательностью и упражнением в воспроизведении типов и им присущих наклонностей.
К Третьяковым Василий Григорьевич приезжал теперь со второй своей женой, Елизаветой Егоровной – молодой дамой, с круглым лицом, карими глазами и удивительно милой улыбкой. С Верой Николаевной они сошлись быстро, обе любили музыку и часто играли в четыре руки. Сам же Василий Григорьевич по-прежнему доводил до слез своими рассказами. Говорил он всегда серьезно, а все заливались от смеха.
– Вот как-то художник, только что получивший серебряную медаль за живопись, приехал в деревню к своему отцу, который был управляющим в большом имении, – начинал он, и трудно было понять, придуман им рассказ или взят из жизни. – Личность отца, – продолжал Перов, – была типична и характерна: он походил на цыгана; был высокого роста и очень тучный, с черной, густой, окладистой бородой и с такими же черными, кудрявыми и лохматыми волосами.
Немедленно по приезде своем сын принялся писать с него портрет, который вскоре был готов. Раз в передней комнате собралось деревенское начальство: бурмистр, староста, сотский, десятский. Явились получить приказания на завтрашние работы. Сенокос начинался.
Художник, желая похвастаться своей удачной работой, вынес им показать изображение своего родителя. Поставил его к стене, на пол, и спрашивает: «Ну, что, братцы, похож ли портрет?» Все пришли в восторг, даже в изумление и говорят: «Вот так портрет! Ну словно живой, только что слова не вымолвит. Ах, ребята, вот-то похоже». Рассматривали портрет с разных сторон, даже щупали его. «Ну а скажите-ка мне, с кого он написан?» – спросил художник, вполне уверенный в разительном сходстве портрета. «Эва! что вздумал спрашивать: с кого написан, – отвечают те. – Уж вестимо, с кого: с твоей болезненной маменьки, Татьяны Дмитриевны», которая, надо сказать, – добавлял Перов под общий хохот, – была худа как щепка и постоянно больна.
У Третьякова, беззвучно сотрясавшегося от смеха, краснело лицо. Он зажмуривался и только молча отмахивался руками.
– Подлинно, как в жизни, – не меняя тона, говорил Перов.
В мастерской у него стояли начатые «Суд Пугачева» и «Никита Пустосвят. Спор о вере».
Знакомство и беседы с историком М. П. Погодиным и литератором В. И. Далем, чьи портреты он писал, привели его к новым замыслам.
Под впечатлением рассказов В. И. Даля о его совместной поездке с Пушкиным в Оренбург, когда поэт собирал материал о Пугачеве, он даже перечитал роман Е. Салиаса «Пугачевцы». Так появились в мастерской эскизы к картине «Суд Пугачева».
На крыльце помещичьего дома сидит Пугачев. Его окружает толпа приближенных. Разбойничьи лица чрезвычайно характерны. Крестьян заставляют присягать на верность атаману. Церемонию присяги производит трясущийся от страха священник. На заднем плане – виселицы, зарево пожара.
Нельзя не согласиться с Л. К. Дитерихсом, заметившим, что, будь эта картина кончена, она была бы хорошим приобретением для русского искусства.
«Никита Пустосвят» – одно из сильнейших произведений во всей исторической живописи русского искусства.
«Вы хотите знать мое мнение о картине Перова с точки зрения человека, несколько разумеющего историю раскола, – писал Н. С. Лесков в письме к Александрову, редактору „Художественного журнала“. – Я полагаю, что с этой точки зрения картина „Никита Пустосвят“ представляет собою удивительный факт художественного проникновения. Раскол у нас считали, а многие до сих пор считают, исключительно делом темных фанатиков, с одной стороны, и упрямых церковников – с другой. Те будто о пустяках начали спорить, а эти и пустяков не хотели уступить. И выходит как будто так, что будь столпы господствующей церкви податливее, то раскола у нас бы и совсем не было. Так это всегда и на картинах писывали: одних изображали тупицами, а других – безучастными формалистами…
Раскол есть дело не фанатиков и не политиков, а это дело неугомонных московских честолюбцев и интриганов, образовавших религиозную партию, у которой были выгоды враждовать с „грамотеями“, ибо эти, при своей образованности, „забирали верх“ при дворах царском и патриаршем… Вожди раскола, поднявшие религиозную распрю из буквенных споров, дорожили этою распрею, как средством возобладать над грамотеями, которых они имели причины ненавидеть и бояться. А потому, что бы им ни уступало правительство и церковь, для них было невыгодно, ибо они не хотели, не могли хотеть примирения, так как оно уничтожало всякое их значение… Первый, кто рассмотрел настоящую суть этой махинации, была Софья, и в остром взгляде ее круглых глаз на картине, при виде безумного азарта Никиты, надо, кажется, видеть именно тот момент, когда она поняла, что тут никакие уступки не помогут, и сказала себе: – Этот слишком далеко метит!..
В картине есть, кажется, лицо, назначенное выражать собой и самую пройдошескую московскую интригу. Мне думается, будто это тот коварный толстяк, который держит Пустосвята за одежду. Всмотритесь в его лицо; не говорит ли он: „Оставь, отче, – мы его вдругорядь доспеем“.
Может быть, я и ошибаюсь, но ведь так чувствуется, когда я всматриваюсь в это жирное, бесчестное лицо с отливом кощунственной набожности и предательского коварства. И потому я гляжу на эту картину как на проникновение в самую задушевную суть исторического момента».
В конце жизни В. Г. Перов все чаще обращался к Евангелию. Так родилась идея воплотить на холсте историю страданий Христа.
Возможно, ему вспоминались слова М. П. Погодина:
– Всю свою жизнь Иисус Христос был верен, как свидетельствуют памятники, ни одною чертою не показал ни в чем противоречия, не обмолвился ни разу ни единым словом, не провинился ни разу ни одним делом, в продолжение своей жизни, несмотря на все искушения, козни, подсматривания и подслушивания, желания врагов и ненавистников поймать и уличить, – кровию, наконец, запечатлел свое учение и, распятый на кресте, воскликнул: «Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят».
Под влиянием, вероятно, болезни Перов в последнее время превратился из веселого и жизнерадостного человека в мнительного и подозрительного.
У него обнаружилась чахотка. Стали ходить слухи, что он долго не протянет.
В 1882 году, перед Пасхой, Павел Михайлович предложил Василию Григорьевичу переселиться к нему на дачу под Москвою, в село Тарасовку; но Перов недолго там пробыл и вследствие усиления болезни принужден был переехать к родным в имение князя Голицына в Кузьминках.
Перед кончиной Перов много читал, особенно по истории раскола.
Он умирал, не дописав «Пугачевцев», «Пустосвята», коими, быть может, собирался высказать сокровенные идеи, к чему пришел в течение всей жизни.
«Весна, май месяц. Мы, двое учеников, собрались в подмосковные Кузьминки навестить Перова, – вспоминал М. В. Нестеров. – Хотелось убедиться, так ли плохо дело, как говорят, как пишут о Перове газеты. В Кузьминках встретила нас опечаленная Елизавета Егоровна. Мы пришли на антресоли дачки, где жил и сейчас тяжело болел Василий Григорьевич. Вошли в небольшую низкую комнату. Направо от входа, у самой стены, на широкой деревянной кровати, на белых подушках полулежал Перов, вернее остов его. Осунувшееся, восковое лицо с горящим взором, с заострившимся горбатым носом, с прозрачными, худыми, поверх одеяла руками. Он был красив той трагической, страшной красотой, что бывает у мертвецов. Василий Григорьевич приветствовал нас едва заметной бессильной улыбкой, пытался ободрить нашу растерянность. Спросил о работе, еще о чем-то… Свидание было короткое. Умирающий пожелал нам успехов, счастья, попрощался, пожав ослабевшей рукой наши молодые крепкие руки. Больше живым Перова я не видел».
Он умер тихо, точно заснул, 29 мая 1882 года.
«Трудно сказать, какую бы физиономию имела наша русская школа не только в области бытового жанра… если бы Перова совсем не было, – заметит художник А. А. Киселев. – Исследуя влияние его на русскую живопись, мы открыли бы <…> бесконечную густую сеть генетической связи с произведениями Перова».
Третьяков до конца дней своих будет разыскивать работы Перова.
Последние из них – «Тающая снегурочка», «Иван-царевич на Сером Волке», «Накануне пострига» – он приобретет в 1896 году у вдовы художника.
* * *
Григорий Григорьевич Мясоедов-старший был из мелкопоместных дворян. Из Тульской губернии. Мальчишкой бежал от отца в Петербург, имея страстное желание стать художником. Примирение с родителем состоялось лишь после того, как сын написал портрет батюшки.
Ну, это, брат, удружил… Просто никогда не ожидал… Теперь забыто все: ты настоящий художник, – сказал отец и расцеловал сына.
Впрочем, долгие годы безденежья не прошли бесследно. Он постоянно помнил это жуткое время.
– Источником существования моего была работа на кондитерскую, где пеклись пряники, – я с товарищами раскрашивал их, – рассказывал он много позже одному из знакомых. – Обедали на Неве, на барке, где давали за шесть копеек щи с кашей без масла и за восемь копеек – с кашей на масле. Жил я, как и большинство студентов Академии художеств, на Васильевском острове, в бедной комнате.
В этой же квартире снимал угол и Ц. Кюи. Они подружились: оба любили музыку. Мясоедов хорошо играл на скрипке. Любимыми композиторами его были классики: Гайдн, Моцарт, Бетховен, Глинка.
– Мажор меня не трогает, в большинстве пустота, – говорил Григорий Григорьевич, – живу лишь, когда слышу правдивый минор, отвечающий нашей жизни.
«В обществе Мясоедов был остроумным, находчивым, интересным, но в то же время едким в крайней своей откровенности, а часто озлобленным, – вспоминал о нем художник Я. Д. Минченков. – В глаза говорил непозволительные по житейским правилам вещи. И надо было знать и понимать его, чтобы не чувствовать себя оскорбленным при некоторых разговорах с ним».
– Все мы лжем и обманываем друг друга во всех мелочах нашей жизни, и когда я говорю правду, то, чувствую, на меня сердятся, обижаются, – рассказывал Мясоедов.
Не щадил он и себя.
– Все люди или глупы, или эгоисты до подлости. Даже те, кого называют святыми какой угодно категории, действуют из эгоизма, конечно. А то, что называют альтруизмом, – просто замаскированный способ ростовщичества: дать и получить с процентами. И я, хоть не глупый человек, а от подлостей не могу избавиться. Живу в обществе, угождаю и лгу ему. В музыке забываюсь, она, исходя из подсознательного, помимо нашей воли, как рефлекс пережитого, есть чистое, неподкупное отражение чувства. Она не лжет, говорит правду, хотя бы неугодную нам, и оттого я люблю ее.
В Академии художеств он был учеником Т. Неффа и А. Маркова. В 1861 году за картину «Поздравление молодых» был удостоен малой золотой медали, а в 1862-м получил большую за «Побег Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе».
«Бориса Годунова», написанного А. Пушкиным во время ссылки в Михайловское, знал едва ли не наизусть.
В 1863 году его отправили пансионером за границу, где он прожил шесть лет. Впрочем, как и В. Г. Перов, он был разочарован поездкой и считал, что «русским художникам никакой нет надобности разъезжать за границу, чтобы знакомиться с древним искусством».
То, что поездка в Италию может принести пользу русскому художнику, по его мнению, являлось сплошным заблуждением: «В Италии искусство мертво, здесь есть только прошедшее и поклонение прошедшему в виде бесчисленных копий с мадонн…»
Он был весьма категоричен в своих суждениях, что естественно для человека, ищущего свой путь в искусстве.
«Я думаю, чтобы итальянщину двинуть вперед, нужно прежде плюнуть назад или сжечь всех Рафаэлей, Карачиев и всю почтенную компанию и начать снова учиться», – рассуждал он тогда, вполне в духе поклонников идей Писарева.
Находясь за границей, Мясоедов все чаще задумывался о том, как сделать так, чтобы художник мог сам получать деньги за свои работы, минуя правила, установленные Академией художеств, которая устраивала выставки, выделяла помещения и продавала картины. Он пришел к мысли основать такое общество художников, которое могло бы существовать самостоятельно, независимо от Академии. Одно обстоятельство натолкнуло его на эту мысль. В 1867 году группа английских художников, потерпевших неудачу на Всемирной Парижской выставке, организовала передвижную выставку своих произведений по городам Англии. Это привлекло внимание Г. Г. Мясоедова, давно интересовавшегося принципами организации выставок.
Возвратившись на родину, он стал часто посещать собрания членов Артели, основанной И. Н. Крамским, и однажды, на одном из них, рассказал о своей задумке. В Артели мысль его приняли холодно. У художников были заказы, Академия художеств давала им возможность выставляться, и сама идея Мясоедова показалась им ненужной.