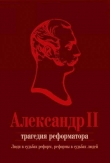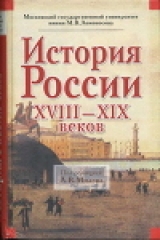
Текст книги "История России XVIII-XIX веков"
Автор книги: Леонид Милов
Соавторы: Николай Цимбаев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 53 страниц)
Особенности российской экономической модернизации.С 1893 г. российская промышленность развивалась невиданно бурными темпами, за неполных семь лет объем промышленного производства более чем удвоился. Подъем сопровождался техническим перевооружением основных отраслей промышленности. Особенно быстро развивались отрасли тяжелой промышленности: металлургическая, машиностроительная, горнозаводская. Их доля в общем объеме промышленной продукции менее чем за десять лет возросла с 30 до 46 %. Успехи экономической модернизации были очевидны. Возрастающая роль России в мировой системе хозяйства вполне соответствовала ее политическому авторитету и военному могуществу.
Однако экономическая модернизация носила ограниченный характер и практически не затронула сферу сельского хозяйства. При Вышнеградском и Витте возросли товарность и экспортные возможности российской деревни, но рост товарной продукции обеспечивался в основном ценой вовлечения в оборот новых земель и роста товарной продукции в силу вынужденных продаж и экономией на питании крестьянского хозяйства. Позиции поместного дворянства оставались непоколеблен-ными, и важнейший вопрос русской жизни – земельный – не был решен.
Противоречивы были политические и социальные последствия экономической модернизации. Ее успех не был успехом частнопредпринимательской деятельности. Государственное покровительство национальной промышленности, стимулируя рост экономики, тем не менее привело к тому, что стихией российских предпринимателей был не свободный рынок, а монопольные права, которые им предоставляло правительство. С особой силой это проявлялось в сфере взаимоотношений труда и капитала. Опираясь на правительственный аппарат, деятели российской промышленности извлекали сверхприбыли из эксплуатации рабочих. За исключением сравнительно небольших групп, сконцентрированных на государственных военных заводах, промышленные рабочие России зарабатывали меньше, чем в любой другой промышленно развитой стране.
Зрелость рабочего движения, совпавшая с периодом модернизации, не была по-настоящему осознана фабрикантами. Особенности становления и развития российского капитализма делали его представителей невосприимчивыми к идеям и практике социального реформизма и компромисса. Следствием этого была радикализация рабочего класса, а несомненная связь самодержавных институтов и капитала способствовала выдвижению рабочими не только экономических, но и политических требований. Ценой экономической модернизации стал возросший антагонизм между промышленным пролетариатом и буржуазией.
В конце 1899 г. российская промышленность ощутила первые симптомы кризиса, который в 1900 г. стал всеобщим, охватив все мировое хозяйство. Для экономики России он оказался особенно длительным и тяжелым. Первым предвестником спада стал европейский денежный кризис, что вынудило Государственный банк, а за ним и частные банки сократить кредиты предприятиям, повысить ставки учетного процента. За этим последовало сокращение товарного кредита, массовые закрытия мелких и средних производств. Предприниматели искали выход в резком снижении заработной платы и в локаутах. Безработица в отдельных отраслях промышленности и в некоторых регионах достигала 40–50 %, что предопределило неизбежность грядущего острого и жестокого социального столкновения.
Кризис выявил неполноту экономической модернизации. Объективная потребность модернизации общества исторически была реализована прежде всего в варианте своего рода точечно-го развития промышленности в районах, щедро обеспеченных минеральным сырьем, рудой, и местах с готовой базой в виде очагов старинного мануфактурного производства. У российского социума, подавляющая часть которого была в цепких объятиях экстенсивного земледелия, не было ни сил, ни средств на повсеместный промышленный прорыв. Слабость крестьянского хозяйства, зажатого историческими судьбами в прокрустово ложе короткого лета, резко ограничивала пахотные возможности индивидуального хозяйства на огромной части государства, не говоря уже о капризах климата, что лишало страну перспективы стремительного и многократного роста урожайности. А только последнее обстоятельство могло бы дать промышленности огромный резерв рабочей силы, позволив ей в конкурентной борьбе достигнуть масштабов, достойных великой державы Европы. Тяжелые вериги аграрного вопроса опосредованно влияли на всю экономику России. В частности, исторически реальный отток населения из сельского хозяйства давал преимущественно неквалифицированную рабочую силу, «расхолаживая» темпы технического прогресса.
Таким образом, бурный подъем экономики конца XIX в., несмотря на беспрецедентные темпы развития, имел исторически ограниченный характер. Развитие производства, структурные изменения в промышленности не сопровождались социальными переменами. Экономическая модернизация оказалась ненужной поместному дворянству, располагавшему всей полнотой политической власти в стране, поскольку ее дальнейшее проведение требовало кардинального изменения существующих социальных отношений, модернизации политического строя. Изменить застой и рутину, царившие в верхах, оказалось не под силу даже энергичным министрам финансов. Бунге, Вышнеградский и Витте не сумели преодолеть косность, некомпетентность и безволие людей, которые решали судьбу России на рубеже XIX–XX вв.
Глава 26. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
§ 1. РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ЭПОХИ ВЕЛИКИХ РЕФОРМ
Оттепель.Смерть Николая I и воцарение Александра II резко изменили характер общественной жизни в стране. Отличавшийся тонкой наблюдательностью поэт Ф. И. Тютчев, который после событий 14 декабря писал: «зима железная дохнула», время, наступившее после 19 февраля 1855 г., назвал «оттепелью».
В обществе, пережившем тридцатилетний застой, с восторгом были восприняты первые шаги нового императора, которые свидетельствовали о стремлении правительства к переменам. Были сняты запреты на выезд за границу, упразднен Бутурлин-ский комитет, было дано дозволение на издание новых журналов – славянофильской «Русской беседы» под редакцией А. И. Кошелева и западнического «Русского вестника», который стал редактировать М. Н. Катков. Важным общественным событием стало чествование в Москве героев Севастопольской обороны, на котором славянофил К. С. Аксаков произнес знаменитый тост во славу общественного мнения. Всеобщей потребностью стало ослабление цензурных запретов и та особая открытость в обсуждении наболевших вопросов, которую именовали гласностью. Гласность и свобода общественного мнения стали символами преодоления николаевской реакции, свидетельством стремления к прогрессивному развитию.
Настроения, которые были характерны для русского общества, хорошо передал И. С. Аксаков: «Кто не был свидетелем этой поры, тому и не представить себе, каким движением внезапно была объята Россия. Откуда ни возьмись, «общественное мнение», – которого и существования не подозревали, и в принципе не признавали, – явилось такою неодолимой нравственной силой, которой никакая в мире живая, личная власть не могла сопротивляться. Словно неистовством вешних вод прорвало плотину, и помчался бурный мутный поток, неся на хребте – вместо льдин и мусора – протесты, укоры, беспощадную критику прошлого тридцатилетия и бесчисленные предположения реформ».
Разночинцы-шестидесятники.Общественное оживление, которое в России сопровождало начало каждого царствования, в это время имело ясно выраженную реформаторскую направленность. Оно охватило не только столичное и провинциальное дворянство, но и разночинную интеллигенцию, роль которой в общественной жизни становилась все заметнее. Со временем эта часть русского общества стала именоваться шестидесятниками, отделяя себя тем самым от людей сороковых годов. По мнению шестидесятников, та полоса русской жизни, когда они играли важную общественную роль, началась в первый день царствования Александр II, 19 февраля 1855 г., и продолжалась до каракозовского выстрела 4 апреля 1866 г. У современников возникло представление о существовании особого явления общественной мысли – шестидесятничества, к которому принято было относить разнообразные стремления к радикальным переменам в политической и социально-экономической областях. Наиболее крайние шестидесятники нередко назывались нигилистами.
Для разночинной интеллигенции был характерен радикализм суждений, нетерпимость к чужим мнениям, неприятие старых бытовых и семейных традиций. Характеризуя шестидесятников, либеральный литератор А. В. Никитенко писал, что они «и не подозревают, какие они сами деспоты и тираны: как эти желают, чтобы никто не смел шагу сделать без их ведома или противу их воли, так и они желают, чтобы никто не осмелился думать иначе, чем они думают. А из этих тираний самая ужасная и тирания мысли».
Вольное слово Герцена. Огромную роль в переломе общественных настроений, наступившем с воцарением Александра II, сыграл А. И. Герцен, Вольная типография которого открыла доступ к свободному слову. В 1855 г. Герцен приступил в Лондоне к изданию альманаха «Полярная звезда», названием которого он утверждал преемственную связь и свое «кровное родство» с декабристами. Вслед за тем, в 1856 г., он стал печатать «Голоса из России», где находили место самые разные материалы, написанные на злобу дня. В 1857 г. совместно с Н. П. Огаревым А. И. Герцен стал издавать газету «Колокол», где события, происходившие в стране, «ловились на лету» и тотчас же обсуждались. «Колокол» имел в России множество тайных корреспондентов, среди которых были И. С. Тургенев, К. Д. Кавелин, бр. К. С. и И. С. Аксаковы, А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин. Он был самым информированным изданием, влияние которого распространялось на правительственные круги. Чтение «Колокола» входило в распорядок дня Александра II. Первоначальная программа издателей «Колокола» была выражена призывом: «Освобождение слова от цензуры! Освобождение крестьян от помещиков! Освобождение податного состояния от побоев!»
Герцен призывал к единению всех передовых людей, и либералов-идеалистов прошлого царствования, и разночинной молодежи: «Не завидуя смотрим мы на свежую рать, идущую обновить нас, а дружески ее приветствуем. Ей радостные праздники освобождения, нам благовест, которым мы зовем живых на похороны всего дряхлого, отжившего, безобразного, рабского, невежественного в России».
При начале издания «Колокола» Герцен верил в просвещенную инициативу дворянства, полагал, что Александр II станет преобразователем, подобным Петру I, и подчеркивал, что предпочитает «путь мирного, человеческого развития пути развития кровавого». Его поддерживал Огарев, который возлагал надежды на самодержавную инициативу: «В наше время Петр Великий с неутомимой деятельностью и гениальной быстротою уничтожил бы крепостное право, преобразовал бы чиновничество и возвысил бы значение науки. Тогда бы Россия отдохнула и ожила бы к новой, великой умственной и промышленной деятельности, правительство блистательно стало бы в уровень с современной задачей русского развития».
Либеральные идеи.Издания Герцена создали свободную трибуну для всех слоев образованного общества. Помимо настоятельных призывов к отмене крепостного права самые разные авторы писали в них о необходимости ослабления цензуры, об искоренении административного произвола. Чичерин обличал аристократию и утверждал, что «государство нуждается не в аристократах, а в людях». Ему принадлежало программное положение российского либерализма: «Надобно, чтобы каждый человек мог сознавать себя гражданином, призванным содействовать общему делу, а не рабом, могущим служить только орудием чужой воли; надобно, чтобы он не трепетал за каждое смело сказанное слово, а мог бы свободно высказывать мнение, которое считает полезным для отечества, не боясь быть за то призванным в III Отделение или сосланным в отдаленные губернии. Не прав мы желаем, ибо во всем полагаемся на царя, а просим только позволения возвысить голос и обсуждать то, что ближе всего касается нашего сердца, – благоденствие нашего Отечества».
Его единомышленник Кавелин убедительно доказывал, что «при казенном управлении никакая отрасль промышленности хорошо идти не может», и выступал за развитие свободного предпринимательства. Чичерину принадлежал знаменитый призыв: «Либерализм! Это лозунг всякого образованного и здравомыслящего человека в России. Это знамя, которое может соединить около себя людей всех сфер, всех сословий, всех направлений». Либеральные идеи требовалось облечь в форму конкретных мер, которые, по мнению Чичерина, «необходимы для благоденствия России». Он перечислял их: свобода от крепостного состояния; свобода общественного мнения; свобода книгопечатания; свобода преподавания; публичность всех правительственных действий; публичность и гласность судопроизводства.
Все это звучало ново и способствовало распространению либеральных и освободительных идей в России, куда герценов-ские издания проникали почти беспрепятственно.
Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов.Наряду с издателями «Колокола» большую роль в демократизации общественных настроений играли Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов, ведущие сотрудники некрасовского журнала «Современник». На страницах подцензурной печати они развивали идеи общинного социализма со смелостью, которая была недоступна распространенной тогда «обличительной литературе», понимавшей гласность как сведение счетов с отдельными представителями местной администрации. Чернышевский считал, что Россия могла учесть богатый опыт западноевропейского развития и, основываясь на нем, разумно использовать сохранившиеся общинные традиции крестьянства. У русского народа в середине века появились определенные преимущества при выборе путей социального развития. «Те привычки, проведение которых в народную жизнь кажется делом неизмеримой трудности англичанину и французу, существуют у русского как факт его народной жизни».
Добролюбов обличал «темное царство» социального неравенства, ждал наступления «настоящего дня» и почти открыто проповедовал борьбу против «внутреннего врага». Его литературно-критические статьи напоминали читателям о заветах Белинского. Пафос добролюбовских статей, их разночинский радикализм вскоре стали поводом для разрыва между шестидесятниками и либералами-идеалистами. Крупные русские писатели, прежде постоянно сотрудничавшие в журнале – И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров, – прекратили печататься в «Современнике» и перешли в «Русский вестник», который наиболее последовательно выражал взгляды либеральной общественности.
Герцен вступился за «людей сороковых годов», что привело к долгой полемике между «Колоколом» и «Современником». Эта полемика отражала неопределенность, характерную дляпредреформенных лет, когда инициатива освобождения крестьян принадлежала правительству, а радикальная общественность проявляла нетерпимость и неумение найти основу для совместных действий. Герцен верил в Александра II, а Чернышевский исподволь пропагандировал неизбежность крестьянской революции. В 1859 г. Чернышевский ездил в Лондон для встречи с Герценом, но результатом их объяснений стало дальнейшее расхождение их позиций.
Противоположные тенденции наблюдались в либеральной среде, где происходило сближение позиций западников и славянофилов, идейной основой которого стала формула Б. Н. Чичерина: «В настоящее время в России потребны две вещи: либеральные меры и сильная власть». Либеральная общественность признала преимущество самодержавной инициативы, отказалась от попыток самодеятельности и пошла на сотрудничество с правительством.
После 19 февраля 1861 г. произошла радикализация общественных настроений. Первоначально Герцен приветствовал освобождение крестьян, назвав Александра II Освободителем. Однако детальный разбор положения в сочетании с известиями о расправах над крестьянами дали основание Н. П. Огареву сделать вывод: «Старое крепостное право заменено новым. Вообще крепостное право не отменено. Народ царем обманут». В крестьянских волнениях весны 1861 г. Герцен и Огарев видели «начальный рев» будущей бури и призывали разночинную молодежь «заводить» нелегальные типографии для ведения революционной агитации. Обращаясь к студентам, изгнанным из университетов, Герцен выдвинул лозунг: «В народ! К народу!» Этот призыв был услышан и лег в основу образа действий шестидесятников.
Программный характер приобрели слова из статьи Огарева, где, отвечая на вопрос, что нужно народу, автор писал: «Земля, воля, образование». Огаревский совет народу и разночинной молодежи звучал просто и понятно: «Шуметь без толку и лезть под пулю вразбивку нечего; а надо молча сбираться с силами, искать людей преданных, которые помогали бы и советом, и руководством, и словом, и делом, и казной, и жизнью, чтоб можно было умно, твердо, спокойно, дружно и сильно отстоять против царя и вельмож землю мирскую, волю народную да правду человеческую». Исходя из представлений о близости крестьянского выступления, Огарев разрабатывал планы создания общероссийской революционной организации.
Заметно оживилось студенческое движение. Восприимчивая и отзывчивая часть общества – студенчество отстаивало свои корпоративные права и одновременно демонстрировало солидарность с крестьянством. Политическую окраску приобрела панихида, устроенная казанскими студентами в апреле 1861 г. по крестьянам, расстрелянным в селе Бездна. Возле церкви собралось несколько сот учащихся, к которым с речью обратился профессор университета А. П. Щапов. Он говорил, что безд-ненские крестьяне «разрушили своей инициативой наше несправедливое сомнение, будто народ наш не способен к инициативе политических движений». Он обращался к погибшим крестьянам: «Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую желали приобресть в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра, – эта земля воззовет народ к восстанию и свободе». Свою речь он закончил словами: «Да здравствует демократическая конституция!» Отданный под надзор полиции, Щапов был позднее обвинен в связи с «лондонскими пропагандистами» и сослан в Сибирь.
В середине 1861 г. были введены «Временные правила», имевшие целью ограничить доступ в университеты. Отменялось освобождение бедных студентов от платы за обучение, запрещались студенческие сходки и депутации. В ответ студенты Петербургского, Московского и Казанского университетов прекратили занятия. 25 сентября в Петербурге студенты провели первую в России уличную демонстрацию. Студенческие волнения были серьезно восприняты правительством. Были проведены аресты вожаков студенчества и массовые исключения из университетов, наряду с этим уволены в отставку некоторые чиновники Министерства просвещения, что дало возможность молодежи осознать свою силу.
Выразителем ее настроений стал Н. Г. Чернышевский. Его идеи были изложены летом 1861 г. в прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», где содержался обращенныйк крестьянам призыв не губить себя до времени и ждать, когда «доброжелатели» объявят, что «пора, люди русские, доброе дело начинать». От имени «доброжелателей» сообщалось: «Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят… А мы все люди русские и промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли». Авторство прокламации по доносу провокатора было приписано Чернышевскому, его арестовали и посадили в Петропавловскую крепость. Через два года без всяких юридических доказательств он был осужден на каторжные работы.
Прокламационная кампания.Именно Чернышевский и его единомышленники стояли в центре прокламационной кампании, которая охватила Россию. Авторы прокламаций верили в близость крестьянской революции. Они обращались к разным слоям населения с призывами неповиновения властям, предсказывали неизбежное народное восстание, предотвратить которое, как говорилось в листке «Великорусе», «патриоты не будут в силах и должны будут позаботиться только о том, чтобы оно направилось благотворным для нации образом». В лондонской типографии Герцена была напечатана прокламация «К молодому поколению», автор которой Н. В. Шелгунов утверждал, что если царь не согласится на глубокие преобразования, то «вспыхнет всеобщее восстание» и восставшие «придут к крайним мерам». Молодому поколению предлагалось составлять «кружки единомыслящих людей», искать союза с народом и солдатами. В духе идей «крестьянского социализма» прокламация утверждала, что России «нужен не царь, не император, не помазанник Божий, не Горностаева мантия, прикрывающая наследственную неспособность; мы хотим иметь главой простого смертного, человека земли, понимающего жизнь и народ, его избравший. Нам нужен не император, помазанный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина, получающий за свою службу жалованье».
Огромное впечатление на современников произвела прокламация «Молодая Россия», появившаяся летом 1862 г. Ее автором был московский студент П. Г. Заичневский. Прокламация утверждала неизбежность революции «кровавой и неумолимой», которая «должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка». Будущее страны «Молодая Россия» представляла как «республиканско-федеративный союз областей», состоящих из самоуправляющихся общин. Экономической основой будущего строя должны были стать земледельческая община и общественная фабрика. Заичневский разделял взгляды французского революционера О. Бланки, исповедовал тактику заговора и обещал от имени революционеров истребить императорскую партию и пролить, если потребуется, «втрое больше крови, чем пролито якобинцами». «Молодая Россия» обещала: «Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком: да здравствует социальная и демократическая республика Русская; двинемся на Зимний дворец истребить живущих там».
Власти не сумели установить авторство Заичневского и охотно приписывали ее кровожадный экстремизм всему освободительному движению. Провокационные призывы «Молодой России» совпали с грандиозными пожарами в Петербурге, что дало возможность обвинять в поджогах студентов-нигилистов и дискредитировать представителей передовой общественности. В июне были закрыты журналы «Современник» и «Русское слово», запрещены воскресные школы, служившие для агитации в народе, учреждена следственная комиссия по делам о политических преступлениях. Наряду с Чернышевским были арестованы Н. А. Серно-Соловьевич, Д. И. Писарев, ряд видных шестидесятников должен был эмигрировать.
Первая «Земля и воля».Неудачей закончилась попытка объединения подпольных кружков, разбросанных по стране. Начатая по инициативе Чернышевского, она привела к созданию общества «Земля и воля», которое осенью 1862 г. заявило о создании Русского центрального народного комитета. Им руководили вожак студенческой молодежи Н. И. Утин и редактор радикально-разночинного журнала «Русское слово» Г. Е. Бла-госветлов. Взгляды участников организации совпадали в желании общественных перемен, но в остальном были различны. Н. А. Серно-Соловьевич говорил: «У нас такая разноголосица, что нет двух человек, согласных в принципах или цели». Деятели «Земли и воли» через Герцена и Огарева вели переговоры с польскими революционерами о возможности совместного выступления. Весной 1863 г., по их расчетам, в России ожидалось крестьянское восстание. Когда эти надежды рухнули, общество, так и не раскрытое властями, объявило о самороспуске.
Оказать содействие польским повстанцам в 1863 г. радикальные шестидесятники не смогли. Создатель тайной офицерской организации А. А. Потебня перешел на сторону восставших, был схвачен и расстрелян. Провалилась попытка М. А. Бакунина доставить морем в Польшу оружие и добровольцев. Авантюрой был «казанский заговор», когда группа поляков и русской молодежи попыталась поднять восстание в Казанской губернии. Заговор был раскрыт, его организаторы казнены. Выступления Герцена против «гнусного умиротворения» Польши были отвергнуты подавляющим большинством российского общества и привели к полному падению влияния «Колокола». Мало кто разделял позицию Герцена: «Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимость Польше, потому что мы хотим свободы России».
Либеральная оппозиция.Первые признаки общественного спада стали заметны в 1862 г., когда правительство обрело уверенность в том, что разрозненные крестьянские выступления не перерастут в общероссийское крестьянское восстание. Тогда же выявилась неудача радикальной прокламационной кампании. Изменение общественных настроений сказалось на позиции либералов, группировавшихся вокруг «Русского вестника». В их среде возникает идея обратиться к Александру II с просьбой о введении в стране конституционного правления и даровании политических свобод. Эта мера должна была, как считали Катков, Тургенев и их единомышленники, успокоить студенческую молодежь, смягчить дворянское недовольство крестьянской реформой и способствовать дальнейшей европеизации России. Сбором подписей под обращением занимался британский подданный А. Бенни, чья неумелая конспирация дала основание подозревать его в связях с III Отделением.
Много дальше либерально-западнической редакции «Русского вестника» шел издатель славянофильской газеты «День» И. С. Аксаков. В январе 1862 г. во время московских дворянских выборов он выдвинул проект самоупразднения дворянства как сословия. Он исходил из того, что после «великого дела 19 февраля» дворянство утратило старое сословное значение и потому должно вернуться в «земство», где произойдет его соединение с народом. В форме обращения дворянства к правительству Аксаков писал: «Дворянство, убеждаясь, что отмена крепостного права непреложно-логически приводит к отмене всех искусственных разделений сословий, считает долгом выразить правительству свое единодушное и решительное желание: чтобы дворянству было позволено торжественно, пред лицом всей России совершить торжественный акт уничтожения себя как сословия; чтобы дворянские привилегии были видоизменены и распространены на все сословия в России». Против этих последовательно либеральных идей бессословности выступили Чичерин, Кавелин, Катков. Правительство сочло необходимым официально отвергнуть предложение Аксакова.
Под влиянием аксаковского призыва в феврале того же года тверское дворянское собрание приняло постановление, в котором констатировало несостоятельность правительства. На экстренном собрании тверских дворян, говорилось, что осуществление реформ невозможно путем правительственных мер: «Свободные учреждения, к которым ведут эти реформы, могут выйти только из самого народа, а иначе будут одною только мертвою буквою и поставят общество в еще более натянутое положение». Тверские дворяне заявляли об отказе от своих сословных привилегий, требовали уравнения всех сословий и, идя в своем либерализме дальше Аксакова, выступали за созыв «собрания выборных всего народа без различия сословий». Одновременно они повторяли общелиберальные пожелания создания независимого суда, преобразования финансовой системы и введения гласности в административном управлении. Тверские мировые посредники приняли решение руководствоваться в своей деятельности не указаниями правительства, а постановлением дворянского собрания. Возникло дело о «тверских посредниках», по которому 13 человек было посажено в Петропавловскую крепость. Тверской адрес 1862 г. стал высшей точкой либеральной оппозиционности эпохи Великих реформ.
Точку зрения И. С. Аксакова и тверских либералов разделяли немногие. Против либеральных толков о конституции, связанных с инициативой Бенни, выступил Самарин. Он перечислял необходимые для России преобразования: прекращение полицейского гонения раскольников, веротерпимость, гласность и независимость суда, свобода книгопечатания, упрощение местной администрации, преобразование налоговой системы, доступ всех сословий к просвещению. По его словам, «все это не только возможно без ограничения самодержавия, но скорее легче совершится при самодержавной воле». В глазах Самарина именно самодержавная инициатива выступала ускорителем прогрессивного развития России. Выгодная и понятная дворянскому меньшинству, конституция, по его мнению, могла лишить самодержавие его «народного» характера, посеять рознь между образованными классами и простым народом.
Позиция славянофила Ю. С. Самарина была близка его давнему оппоненту западнику К. Д. Кавелину. Он писал: «Мы уверены, что если бы каким-нибудь чудом политическая конституция досталась теперь в руки дворянства, то это была бы, конечно, самая горькая ирония над нынешним жалким его состоянием; она обнаружила бы вполне всю его несостоятельность и скоро бы пала и была забыта, как много конституций в Европе, не имевших твердых оснований в народе».
Дворянский конституционализм. Главным объектом каве-линских нападок была не провалившаяся инициатива Бенни, а возродившиеся в дворянском обществе планы конституционного ограничения самодержавия, которое, как считало большинство дворян, провело крестьянскую реформу с нарушением их прав. При этом, как правило, главная вина возлагалась на либеральную бюрократию.
К губернским дворянским съездам начала 1862 г. был приурочен выход в Лейпциге брошюры А. И. Кошелева, который обрушивался на бюрократию, «источник происшедших, настоящих и будущих бедствий для России». В традициях славянофильства он требовал созыва Земской думы «в Москве – в сердце России, поодаль от бюрократического центра». Политические идеалы Кошелева были использованы представителями консервативно настроенного дворянства. Вожди крепостнической фронды Н. А. Безобразов, В. П. Орлов-Давыдов, А. П. Платонов выступали с притязаниями на ограничение самодержавия и были убеждены, что правительство, отменив крепостное право и тем самым лишив помещиков собственности и важных привилегий, должно поступиться частью своей власти. Они мечтали об «исправлении ошибки 19 февраля 1861 года» и отстаивали идею узкосословной дворянской конституции. В новых исторических условиях он повторяли олигархические дворянские проекты начала XIX в. Их целью было закрепление преобладания дворянства в политической жизни страны. Взгляды дворян-конституционалистов выражала газета «Весть», выходившая с 1863 г.