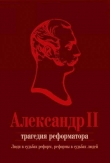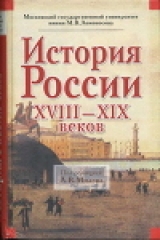
Текст книги "История России XVIII-XIX веков"
Автор книги: Леонид Милов
Соавторы: Николай Цимбаев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 53 страниц)
Аграрные проекты декабристов не могли преодолеть глубокий социальный антагонизм, который существовал в российской деревне. При сохранении помещичьего землевладения проблема крестьянской собственности на землю не имела решения, удовлетворяющего крестьян.
С наибольшей полнотой в программных документах декабристского движения были разработаны вопросы государственного устройства, гражданских прав и политических свобод. «Конституция» и «Русская правда» предусматривали упразднение сословий, свободу слова, печати, совести и собраний, равенство граждан перед законом. Признавалось право на общественные объединения. Избирать и быть избранными могли граждане мужского пола, имевшие постоянное место жительства и собственность, недвижимую или движимую. Имущественный ценз был, как в проектах Сперанского, указанием на принципы раннего буржуазного общества.
В решении вопроса будущего государственного устройства Пестель и Муравьев решительно расходились. «Конституция» учитывала европейский и американский правовой опыт и сложным образом пыталась соединить его с традицией российской государственности. В противовес Пестелю руководитель Северного общества был последовательным сторонником федерализма. Под впечатлением успешного функционирования федеративных принципов в малых странах Европы и на Американском континенте он считал возможным примирить эти принципы с екатерининским постулатом, согласно которому пространство России и ее величие диктуют необходимость сильной монархической власти. Он размышлял о том, какой образ правления приличен русскому народу: «Народы малочисленные бывают обыкновенно добычею соседей – и не пользуются независимо-стию. Народы многочисленные пользуются внешнею независимостью, но обыкновенно страждут от внутреннего утеснения и бывают в руках деспота орудием притеснения и гибели соседних народов. Обширность земель, многочисленное войско препятствуют одним быть свободными; те, которые не имеют сих неудобств, страждут от своего бессилия. Федеральное или Союзное правление одно разрешило сию задачу, удовлетворило всем условиям и согласило величие народа и свободу граждан». Муравьев надеялся соединить федеративные принципы с «величием народа». Он не придавал значения национальному вопросу и желал не «свободы народов», а «свободы граждан».
Муравьев знал государственно-правовые принципы Уставной грамоты 1820 г. и использовал их в своих планах. «Конституция» (ее полное название – «Конституционный Устав России») предусматривала деление страны «в законодательном и исполнительном отношении» на тринадцать держав и две области. Характерны названия держав, отражающие историко-географический принцип: Ботническая, Волховская, Балтийская, Западная, Днепровская, Черноморская, Кавказская, Украинская, Заволжская, Камская, Низовская, Обийская, Ленская. Две особые области – Московская и Донская. Каждая из держав должна была иметь свою столицу, где располагалось «правительное собрание» с широкими полномочиями, среди которых было право: «Учреждать налоги для собственного управления державы и потребностей оной, как-то: дорог, каналов, строений, издержек на правительственное собрание, плату чиновников исполнительной власти, на судебную часть и прочее, зависят от правительственного собрания каждой державы».
Четко были прописаны права союзного Народного веча, которое должно было состоять из Верховной думы и палаты народных представителей, избираемых достаточно сложным образом. Народное вече облекалось «всею законодательною вла-стию». Оно имело право издавать законы, определять правила судоустройства и судопроизводства, «распускать правительные собрания держав в случае, если б оные преступали пределы своей власти», избирать правителей держав, объявлять войну. В его компетенцию входили «налоги, займы, поверка расходов, пенсии, жалованья, все сборы и издержки, одним словом, все финансовые меры», а также «все меры правительства о промышленности и о богатстве народном».
В сфере федеративных отношений Муравьев предусматривал необходимые ограничения полномочий между державами и органами центральной власти, используя для этого механизм разделения властей. Менее ясны его представления о взаимоотношениях союзного Народного веча и императора. Муравьев считал монархическое правление полезным для России. Всю полноту верховной исполнительной власти он предоставлял императору, власть которого передавалась по наследству. Видя в императоре «верховного чиновника российского правительства», Муравьев наделял его полномочиями верховного надзора над всеми союзными и местными органами законодательной и судебной власти. Император имел право «останавливать действия законодательной власти», назначать и смещать судебных чиновников, как «верховный начальник сухопутной и морской силы», он ведал вопросами внешней политики, император был неподсуден и фактически неподотчетен.
В противовес Муравьеву Пестель усматривал в федеративном устройстве «пагубнейший вред и величайшее зло» для России. Первым из русских политических писателей Пестель дал определение федеративного государства и указал «общие невыгоды федеративного образования»:
«1. Верховная власть по существу дела в федеративном государстве не законы дает, но только советы… Ежели же область не захочет повиноваться, то дабы к повиновению ее принудить, надобно междоусобную войну завести.
2. На верховную же власть будут области смотреть, как на вещь нудную и неприятную, и каждое областное правительство будет рассуждать, что оно бы гораздо лучше устроило государственные дела в отношении к своей области без участия верховной власти. Вот новое семя к разрушению.
3. Каждая область, составляя в федеративном государстве, так сказать, маленькое отдельное государство, слабо к целому привязано будет и даже во время войны может действовать без усердия к общему составу государства.
4. Слово «государство» при таком образовании будет слово пустое, ибо никто нигде не будет видеть государство, но всякий везде только свою частную область; и потому любовь к Отечеству будет ограничиваться любовью к одной своей области».
Пестелю принадлежит знаменитая формула: «Россия есть государство единое и неразделимое». Эти слова он поставил в заглавие специального параграфа первой главы «Русской правды». Здесь он объявлял Российское государство «единым и неразделимым, отвергающим притом совершенно всякое федеративное образование, устройство и существование государства». Отвергал он и право народов, населяющих Россию, пользоваться «самостоятельною политическою независимостью», считая его мнимым и несуществующим и полагая, что для них будет полезнее, когда они «соединятся духом и обществом с большим государством». Он предусматривал одно исключение: политическое самоопределение Польши.
Примечательно, что серьезная критика робких попыток насаждения федерализма на русской почве принадлежала именно Пестелю, наиболее последовательному политическому противнику Александра I, убежденному стороннику революционных преобразований.
В своем проекте Пестель высказывался за республиканское правление, считая, что всякая монархия кончается деспотизмом. По Пестелю, будущая Российская республика состояла из десяти больших областей, которые делились на округа. Была продумана централизованная система законодательной и исполнительной властей, которая включала однопалатное Народное вече и избираемую им Державную думу из пяти человек, которые должны были осуществлять верховное правление. Православию следовало стать «господствующей верою великого государства Российского», что не отменяло свободу совести. Предполагалось, что по достижении совершеннолетия российские граждане будут приносить присягу на верность Отечеству. Деление на сословия упразднялось, все сливались в единое сословие – гражданское. Все граждане России наделялись политическими правами «без всякого изъятия». Гарантировались свобода елова, печати, собраний, занятий и передвижений, неприкосновенность личности и жилища. Запрещались любые общества, «хоть открытые, хоть тайные, потому что первые бесполезны, а вторые вредны». Предусматривалась цензура нравов.
Государственный проект Пестеля – это жесткое, почти тираническое правление, не имеющее иной санкции, кроме успешного революционного переворота. Предложенный им вариант – централизованное государство, православная русская республика – был разновидностью политической утопии, тогда как конституционный проект Никиты Муравьева был свободен от пестелевского радикализма и утопизма.
Для осуществления государственных идей «Русской правды» Пестель полагал возможным создание Временного правительства, которое он наделял диктаторскими полномочиями. В российской политической мысли именно Пестель первым выдвинул идею революционной диктатуры.
Военная революция.Настойчиво стремясь к осуществлению своей политической программы, Пестель проявлял большую активность в разработке планов конкретных действий. По его инициативе Южное и Северное общества вновь вернулись к идее военной революции. Их руководители думали начать выступление – военную революцию или вооруженный мятеж – в Петербурге. Части гвардии и флота должны были установить контроль над правительственными учреждениями, арестовать императорскую фамилию и вынудить Сенат «обнародовать новый порядок вещей». По всей России армейским полкам следовало поддержать перемену власти. Выступление намечалось на лето 1826 г.
Одновременно Васильковская управа Южного общества, где главную роль играли Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин, думала об аресте императора во время смотрачастей Южной армии, что дважды откладывалось по настоянию Пестеля, не верившего в успех, а в 1825 г. не состоялось из-за отмены смотра.
Внезапная смерть Александра I в Таганроге создала новую политическую ситуацию – междуцарствие. При тогдашних путях и средствах сообщения власти далеко не сразу приняли решение о наследовании престола великим князем Николаем Павловичем. Шли сложные переговоры между Петербургом, где находился он и высшие правительственные учреждения, Варшавой, где жил Константин Павлович, не желавший ни приезжать в столицу, ни вновь подтверждать свое отречение, и Таганрогом, в котором находились некоторые влиятельные сановники. Вся Россия присягнула новому императору Константину.
В обстановке династической неопределенности находившиеся в Петербурге члены тайного общества решили действовать. У Рылеева шли ежедневные совещания, где Трубецкой настаивал на выступлении гвардейских частей во имя введения представительного правления. Обсуждался состав Временного революционного правительства, куда намечались без их ведома Сперанский, Мордвинов, Ермолов, Киселев.
Решение действовать было принято после того, как на 14 декабря была назначена переприсяга, т. е. присяга новому императору Николаю I, что не могло не вызвать недоумения в простом народе и в армии. На этот день декабристы назначили свое выступление.
Трубецкой написал «Манифест к русскому народу», который намечалось объявить от имени Сената. В нем провозглашалось «уничтожение бывшего правления» и излагалась программа ближайших преобразований: «отмена крепостного права, равенство всех сословий перед законом, гласность судопроизводства, свобода слова, печати, уничтожение рекрутской повинности и военных поселений». Манифест предусматривал «учреждение порядка избрания выборных в палату представителей народных, кои долженствуют утвердить на будущее время имеющий существовать порядок правления и государственное законоположение».
Гвардии полковник Трубецкой, имевший немалый военный опыт, предложил действовать исходя из имевшегося в наличии небольшого числа офицеров-заговорщиков и с учетом солдатской психологии. Подняв одну гвардейскую часть, он думал повести ее с развернутыми знаменами и под барабанный бой к казармам другой части, затем третьей и четвертой. Он был уверен, что солдаты, не осведомленные о подлинных причинах происходящего, примкнут к своим выступившим товарищам, и верил в конечный успех. План Трубецкого показался более молодым заговорщикам чересчур медленным, и было принято предложение Рылеева, по которому офицеры-участники заговора должны были действовать в своих воинских частях, чтобы поднять их и собрать на Сенатской площади. Рылеев переоценивал влияние тайного общества среди гвардейских офицеров и не понимал действия на солдат команд старших офицеров. Назначенный «диктатором восстания» Трубецкой не протестовал, но 14 декабря на Сенатскую площадь не явился.
14 декабря 1825 г. и его последствия.Декабристское каре возле памятника Петру Великому составили прибывшие первыми солдаты гвардейского Московского полка, которых привели А. А. Бестужев и Д. А. Щепин-Ростовский, матросы Гвардейского экипажа под командованием Н. А. Бестужева и гвардейские гренадеры. Всего их было около трех тысяч. От руководителей выступления требовались решительные действия, но, прибыв на Сенатскую площадь, они узнали, что в Сенате пере-присяга уже совершилась. Несколько часов они бездействовали, что дало возможность властям собраться с силами.
После первоначальной растерянности Николай I приступил к решительным действиям. Он сохранил контроль над большей частью гвардии и, что определило исход событий 14 декабря, над гвардейской артиллерией. Восставших солдат пытался уговаривать генерал-губернатор Петербурга М. А. Милорадович. Герой 1812 г. был убит декабристом П. Г. Каховским. Декабристское каре дважды атаковал конногвардейский полк. Дважды кавалеристов встречали нестройные залпы, направленные поверх их голов, и дважды конногвардейцы отворачивали назад: солдаты и с той, и с другой стороны не желали проливать кровь. Боясь, что «бунт сообщится черни», Николай I приказал стрелять картечью. Декабристское каре было рассеяно, военная революция в Петербурге потерпела поражение. В городе начались аресты.
Зная о неудаче 14 декабря, С. И. Муравьев-Апостол и члены Васильковской управы 29 декабря 1825 г. подняли восстание Черниговского полка. Они полагали бесчестным не выступить, когда выступили их товарищи на севере. К этому времени Южное общество было обезглавлено, 13 декабря были арестованы Пестель и Юшневский. В столкновении с правительственными войсками батальоны Черниговского полка, встреченные картечью, были рассеяны.
Следствие и суд над декабристами должны были показать обществу решимость нового императора покончить с крамолой. События 14 декабря Николай I, как и многие представители дворянского общества, понимал как следствие конституционно-реформаторских заблуждений александровского времени. Сразу после событий об этом с полной определенностью писал В. А. Жуковский: «День был кровавый, но то, что произвело его, не принадлежит новому царствованию, а должно быть отнесено к старому». Арестованные по всей стране члены тайных обществ и лица, косвенно причастные к движению, свозились в Петропавловскую крепость, где у них брали подробные показания. Полагая, что честь офицера и дворянина требует умения держать ответ, они откровенно рассказывали о своих планах. Почти все они не были причастны к событиям 14 декабря, не были повинны ни в военном мятеже, ни в нарушении присяги. Чаще всего их обвиняли в умысле на цареубийство или в знании об этом умысле, что большей частью было произвольной натяжкой.
Сто двадцать один человек был предан Верховному Уголовному суду. Над судебным делопроизводством немало потрудился Сперанский, разбивая осужденных на разряды по степени виновности. По приговору суда оставленные вне разрядов Пестель, Муравьев-Апостол, Рылеев, Бестужев-Рюмин и Каховский были повешены. По словам их единомышленника Александра Муравьева, «они искупили преступление, наиболее ненавистное для толпы: быть проводниками новых идей».
Большинство декабристов было осуждено в каторжные работы, некоторые наказаны без суда заключением в крепость или ссылкой. Из солдат, участвовавших в выступлении, был создан сводный полк, направленный на Кавказ, многие из них были подвергнуты телесным наказаниям. Суровость приговоров потрясла русское общество, навсегда испортила репутацию Николаю I.
По своим политическим представлениям члены тайных обществ были наиболее радикальной частью либерально-реформаторского движения, которое восходило к александровскому реформизму и конституционализму. Но для российского общества принципиальное значение имели не декабристские проекты преобразований, но избранный Пестелем и его соратниками способ достижения политических целей – военная революция. День 14 декабря потому навсегда вошел в общественное сознание, что это был, говоря словами декабриста Г. С. Батенькова, «первый в России опыт революции политической».
Дворянское общество, многие представители которого не скрывали своего сочувствия осужденным и разделяли их политические стремления, в целом отвергло декабристскую попытку добиться насильственного переворота. Осведомленная А. А. Оленина записала в дневнике: «Освободить родину – прекрасно, но проливать реками родную кровь есть первейшее из преступлений… Тот, кто увлекаясь пылкостью воображения, желает дать свободу людям, не понимающим силы слова сего, а воображающим, что она состоит в неограниченном удовлетворении страстей и корыстолюбия, тот, наконец, кто, ослепленный мнимым желанием добра, решается, для собственного величия, предать родину междоусобию, грабежу, неистовству и всем ужасам бунта, тот не должен носить священного имени Русского».
Для самих декабристов опыт 14 декабря был горьким. Они переживали его как личную и национальную трагедию, и когда их позднее пытались поздравлять с годовщиной выступления, отвечали, что «14-е декабря нельзя ни чествовать, ни праздновать; в этот день надо плакать и молиться». Они не усомнились в верности своих основных программных положений, но в своем большинстве отвергли путь военной революции. Как писал позднее декабрист А. П. Беляев, «я и теперь сознаю в душе, что если б можно было одной своею жертвою совершить дело обновления Отечества, то такая жертва была бы высока и свята, но та беда, что революционеры вместе с собой приносят преимущественно в жертву людей, вероятно, большею частью довольных своей судьбой и вовсе не желающих и даже не понимающих тех благодеяний, которые им хотят навязать против их убеждений, верований и желаний… Я вполне убежден, что только с каменным сердцем и духом зла, ослепленным умом можно делать революцию и смотреть хладнокровно на падающие невинные жертвы».
Поражение декабристов оказало глубокое воздействие на российское общество. Надолго было скомпрометировано стремление к политическим преобразованиям, идущее не от верховной власти и ее самодержавной инициативы, но от радикального меньшинства. Более чем на полвека освободительное движение рассталось с республиканской идеей. Главный урок александровского времени, урок 14 декабря – необходимость соизмерять политические идеалы и реформаторские проекты с выработанными десятилетиями политическими навыками и общественными традициями, с уровнем развития народа.
Глава 20. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в.
§ 1. ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Крушение «старого порядка» в Западной Европе и Россия. Последнее десятилетие xviii в. прошло под знаком Французской революции, в ходе которой была свергнута династия Бурбонов, казнены король и королева, лишены привилегий и собственности аристократы, большая часть которых вынуждена была эмигрировать. Крушение старого режима означало торжество третьего сословия, приход к власти буржуазии. События Французской революции оказали громадное влияние на ход европейской и мировой истории. Революционная Франция вела войны с коалициями европейских монархов, отстаивая идеалы свободы, равенства и братства. В этих войнах получала закалку французская армия, выдвигались талантливые военачальники, среди которых первое место по праву занимал Наполеон Бонапарт.
В 1799 г., совершив государственный переворот, Наполеон стал первым консулом, а спустя пять лет, в 1804 г., провозгласил себя императором Франции. Военный гений Наполеона, в распоряжении которого находилась отлаженная военная машина, стал залогом успешных завоевательных походов, когда свергались неугодные правительства, перекраивались европейские границы. Конечной целью Наполеона было утверждение французской политической и экономической гегемонии в Европе. Его главным соперником была Англия, чей флот господствовал на море и чье промышленное и торговое превосходство губительно действовало на французскую экономику. Остальные европейские государства так или иначе были вовлечены в англо-французское противостояние. Европа вступила в период наполеоновских войн, где России было отведено особое место. Европейские дела, как и прежде, оставались главным направлением внешней политики России в начале XIX в. В системе европейских международных отношений российская дипломатия, опиравшаяся на общепризнанную мощь русской армии и на внутриполитическую стабильность, которая резко контрастировала с потрясениями, происходившими в других странах континента, играла роль главного противовеса агрессивной наполеоновской политики.
При Екатерине II российская дипломатия избегала прямого военного участия в защите старого порядка. Императрица прежде всего была озабочена тем, чтобы не допустить проникновения передовых идей в Россию, в чем и преуспела. Российское общество осталось равнодушным к революционному призыву Радищева, расправа с Новиковым и его единомышленниками дискредитировала просветительские идеи. На исходе екатерининского правления Россия виделась оплотом старогорежима, на который с надеждой взирала европейская аристократия.
Внешняя политика Павла I была принципиально иной. Проследить ее внутреннюю логику невозможно. Сначала он послал русские войска в Центральную Европу, где они, даже руководимые А. В. Суворовым, не имели успеха. Обвинив в вероломстве своих союзников, англичан и австрийцев, император отозвал войска и взял курс на сближение с первым консулом Франции. Отношения с Англией обострились до такой степени, что английский посланник в Петербурге поддерживал заговорщиков 11 марта.
Внешнеполитические приоритеты Александра I. Воцарение Александра I изменило характер российской внешней политики. Как и в екатерининские времена, ее стали отличать последовательность и целеустремленность, что не исключало гибкости и тактической изворотливости. Александр I был лучшим дипломатом своего времени. Его наставницей была Екатерина II, он учился у А. А. Безбородко и А. Р. Воронцова. Именно в сфере внешней политики внук сдержал обещание следовать «законам и сердцу» бабки. Ни на минуту не забывая о собственной безопасности и о необходимости поддержания устоев самодержавия, Александр I умело проводил политику, которая в конечном счете соответствовала национальным интересам России и привела страну к вершине ее европейского могущества.
Свою главную задачу молодой монарх видел в борьбе с «революционной заразой», которую для него символизировали императорская Франция и Наполеон. Здесь царь был принципиален и тверд, хотя нередко ему приходилось встречать непонимание и преодолевать изоляционистские настроения даже в ближайшем своем окружении. В Негласном комитете В. П. Кочубей доказывал, что России не стоит «беспокоиться тем, какой оборот примут дипломатические дела Европы». Сходные суждения высказывали канцлер А. Р. Воронцов и, позднее, А. А. Аракчеев. Александровская внешняя политика, особенно после Тильзита, резко осуждалась и широкими кругами дворянства, императора упрекали в слабости, в излишней уступчивости Наполеону. Современники ошибались. Обстоятельства иногда вынуждали Александра I идти на компромисс с французским императором, но о подлинном согласии не могло быть и речи. В нарастании русско-французских противоречий, которые в конце концов привели к кампании 1812 г., не последнюю роль играла личная вражда Александра I и Наполеона. Из борьбы с величайшим полководцем нового времени русский царь вышел победителем, чему в немалой степени способствовала его умелая внешняя политика.
Природный дар дипломата Александр I продемонстрировал уже в первые часы своего царствования. В суматохе дворцового переворота он не забыл отдать приказ о прекращении движения казачьих частей, которые Павел I направил на поиски дороги в Индию. Бессмысленная демонстрация враждебности к Англии была оставлена. Озабоченный своим укреплением на престоле, Александр I проводил осторожную внешнюю политику, авантюры были не в его характере. Он исповедовал «свободу рук», что было разновидностью политики нейтралитета, уклонялся от участия в обязывающих военных союзах и коалициях. Помирившись с Англией, царь заявлял, что стремится к европейскому миру. Он не порвал с Францией, с которой в 1801 г. в Париже была подписана секретная конвенция о необходимости совместно решать немецкие и итальянские дела. Однако Наполеон быстро сумел отодвинуть Россию на второй план, обещав свое покровительство южногерманским государствам – Бадену, Вюр-тембергу, Баварии, чьи правители прежде ориентировались на Россию. В 1803 г. им был оккупирован Ганновер, что нарушало нейтралитет Северной Германии. Одновременно наполеоновская дипломатия стремилась разрушить русско-турецкое сотрудничество, провоцируя беспорядки и военные угрозы на Ионических островах, где были расположены русские войска.
Александр I и его ближайшее окружение вынуждены были пересмотреть политику «свободных рук». Возглавлявший ведомство иностранных дел канцлер А. Р. Воронцов был убежден, что «поправление внутреннего состояния государства важнее, конечно, для нас, всяких новых приобретений». Одновременно он был убежден в необходимости тесного союза с Англией для противостояния наполеоновской угрозе. Его всецело поддерживал брат С. Р. Воронцов, занимавший пост посла в Лондоне. Антинаполеоновские настроения выражали и «молодые друзья» императора, среди которых наибольшим влиянием во внешнеполитических вопросах пользовался Адам Чарторый-ский. Они были убеждены в неизбежности войны с наполеоновской Францией и в необходимости тесного союза с Англией. Чарторыйский, занимавший пост товарища министра иностранных дел, верил, что данный политический курс приведет к восстановлению независимости Польши, что, разумеется, было иллюзией.
Противниками активного участия в европейских делах были такие влиятельные вельможи, как Ф. В. Ростопчин, П. В. За-вадовский, Н. П. Румянцев, А. Б. Куракин. Они полагали, что англо-французские противоречия лежат вне национально-государственных интересов России, что Наполеон вовсе не является олицетворением революционного начала и военное вмешательство в европейские дела обременительно для российских финансов.
Россия и антифранцузские коалиции 1805–1807 гг.Внешнеполитические разногласия в правящей среде были разрешены Александром I, для которого отказ от политики «свободных рук» был в значительной степени вынужденным и диктовался усилением наполеоновского могущества. Наполеон буквально провоцировал русского царя, которого недооценивал, считая безвольным и слабым. В 1805 г. Россия наряду с Англией, Австрией, Швецией и Неаполитанским королевством составила третью антифранцузскую коалицию. Для Александра I участие в коалиции было средством воспрепятствовать наполеоновской гегемонии в германских землях, в какой-то мере он разделял взгляды Чарторыйского, который мечтал о создании федерации славянских народов, где роль «старшего брата» играли бы поляки.
Стратегические планы, разработанные союзниками, оказались бесплодными. Адмирал Нельсон победил при Трафальгаре, что вынудило Наполеона отказаться от мысли о вторжении в Англию. Однако на суше третья коалиция потерпела сокрушительное поражение. Наполеон действовал быстро и решительно. В октябре 1805 г. австрийская армия была окружена в Ульме и капитулировала. 2 декабря 1805 г. в битве под Аустерлицем (Моравия) союзные русско-австрийские войска под общим командованием М. И. Кутузова были наголову разбиты. Александр I был при армии и под огнем, но продемонстрировал полное отсутствие качеств военачальника. Общественное мнение возлагало вину за небывалое со времен Нарвы поражение на него и на Кутузова. Слава досталось генералу П. И. Багратиону, который отличился под Шенграбеном, а после Аустерлица прикрывал отступление. Австрия вышла из войны, третья коалиция развалилась.
Противники войны с Наполеоном демонстративно порицали «молодых друзей» императора, указывали на необходимость нейтралитета в европейских делах. Ростопчин утверждал, что императору «не следовало путаться не в свое дело», В дворянских кругах нарастала тревога, вызванная внутриполитическим положением, о котором тот же Ростопчин говорил: «Все рушится, все падает и задавит лишь Россию».
Однако Александр 1 отказался идти на сближение с Францией, и в следующем году стал инициатором создания четвертой антифранцузской коалиции, куда вошли Пруссия, Англия и Швеция. Россия не могла координировать действия союзников, Пруссия первой начала военные действия и в течение месяца была разбита. Наполеон вошел в Берлин, где подписал декрет о континентальной блокаде. Декрет запрещал всем союзным и подвластным Франции государствам торговать с Англией, покупать где бы то ни было ее товары и поддерживать с ней любые сношения. Английским судам закрывался доступ в европейские порты. Континентальная блокада должна была сокрушить экономическое могущество Англии.
Оставшись без союзников на континенте, Россия продолжала войну, бои шли в Восточной Пруссии. Наполеон, обращаясь к польской шляхте, обещал восстановление независимой Польши, что давало ему возможность дополнительного воздействия на Россию. Влиятельная придворная группировка, возглавляемая императрицей-матерью Марией Федоровной и А. Б. Куракиным, настоятельно высказывалась за прекращение войны, которую Россия фактически вела в одиночестве.
Тильзит.В июне 1807 г. под Фридландом русская армия потерпела поражение, французы вышли к границе России. Александр I вынужден был пойти на переговоры, которые состоялись в июне 1807 г. в Тильзите. Посреди Немана, который был пограничной рекой, был построен плот, где встретились русский царь и французский император. В ходе их бесед Александр I отверг предложение Наполеона быть императором Востока, предоставив тому оставаться императором Запада. На практике это означало бы вытеснение России из участия в европейских делах.
В Тильзите был подписан мирный договор и соглашение о наступательном и оборонительном союзе между двумя империями. По условиям мира создавалось Герцогство Варшавское, внешняя и внутренняя политика которого контролировалась Наполеоном и которое было средством давления на Россию. Россия также теряла свои позиции в Средиземном море, соглашаясь на занятие Францией Ионических островов. Однако главным и наиболее тяжелым следствием тильзитского свидания двух императоров стало присоединение страны к континентальной блокаде. Эта мера при сколько-нибудь последовательном ее проведении вела к быстрому разорению как поместного дворянства, которое экспортировало в Англию сельскохозяйственную продукцию, так и купечества, торговавшего английскими товарами. Присоединение к континентальной блокаде вело к полному расстройству финансовой системы России, резкому понижению покупательной способности рубля. Тильзитский мир вызвал возмущение в России, Александр I сделался крайне непопулярен, он не был уверен даже в ближайшем своем сановном окружении и именно тогда приблизил к себе Сперанского и Аракчеева.