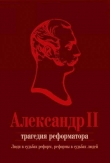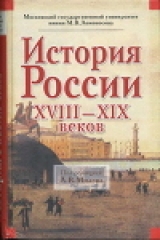
Текст книги "История России XVIII-XIX веков"
Автор книги: Леонид Милов
Соавторы: Николай Цимбаев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 53 страниц)
В 1880—1890-е гг. велось значительное казенное железнодорожное строительство на окраинах империи, обусловленное политическими, военно-стратегическими и в последнюю очередь экономическими соображениями. Были построены Закаспийская и Закавказские линии, начато строительство Сибирской. Общая протяженность введенных тогда в эксплуатацию казенных дорог составила 10,5 тыс. км. Крупными акционерными обществами были построены Московско-Казанская, Юго-Восточная, Московско-Киево-Воронежская, Владикавказская и другие дороги, протяженностью 12,5 тыс. км. Большое внимание уделялось строительству сети подъездных узкоколейных путей, обеспечивающих потребности заводов и фабрик. К концу XIX в. заметную роль в строительстве и эксплуатации железных дорог стал играть финансовый капитал, представленный Петербургским Международным и Русско-Азиатским банками. В эти годы железные дороги строились в Донбассе, Крыму, на Урале, в Западной Сибири, Средней Азии, на Северном Кавказе и в Закавказье. Железнодорожная сеть охватила практически все губернии Европейской России.
Железные дороги изменили лицо страны, уклад жизни городского и сельского населения. Они служили преодолению провинциальной замкнутости, их сеть скрепляла единую народно-хозяйственную систему страны. Их строительство и эксплуатация были главным двигателем промышленного развития. Для России с ее пространствами железнодорожное строительство имело исключительное значение, оно способствовало хозяйственному освоению территорий с огромным экономическим потенциалом, стимулировало переход к крупным формам организации производства. Главным железнодорожным центром была Москва, куда сходилось 18 линий железных дорог. Этот центр оставлял далеко позади остальные железнодорожные узлы.
В конце XIX в. железные дороги потребляли свыше трети добываемого в стране угля, почти половину нефтепродуктов, около 40 % продукции черной металлургии. Объем железнодорожных перевозок рос значительно быстрее, чем длина железных дорог. До начала XX в. основным грузом был хлеб, в 1860-е гг. он занимал свыше 40 % грузовых перевозок, затем эта цифра снизилась до 25 %. К концу XIX в. в железнодорожных перевозках возросла доля каменного угля, руды, металлов, нефти и нефтепродуктов. Перевоз этих хозяйственных грузов был главным делом железных дорог. Пассажирское железнодорожное движение было невелико и долгие годы оставалось малодоступным для деревенской и городской бедноты. Нередко крестьяне-отходники и мастеровые, проехав одну-две станции в дешевых вагонах третьего класса, выходили и шли пешком, чтобы, пройдя две-три станции, вновь сесть в поезд.
В пореформенный период завершилось техническое перевооружение водного транспорта. К концу века число пароходов превысило 2,5 тыс. Объем грузов, перевезенных по речным путям Европейской России, в 1862 г. составлял 365 млн пудов; к концу XIX в. он вырос в семь раз. На долю водного транспорта приходилось около трети груза, перевозимого по железнодорожным и водным путям. Основной транспортной системой речного судоходства оставалась Волга и ее притоки. На них приходилось около половины всех речных перевозок. По рекам везли хлеб, нефть, соль, на севере сплавляли лес.
Сохранял свое значение гужевой транспорт. На Кавказе, в Средней Азии и в Сибири он был основным средством транспортировки грузов. При неразвитой местной инфраструктуре он оставался важным фактором внутригубернских и внутриуезд-ных перевозок.
Промышленное районирование.Районирование и структура промышленного производства в пореформенное время существенно изменились, что в значительной степени было связано с развитием железнодорожного транспорта. В 1870-е гг. начался быстрый рост Донецкого, или Южного, промышленного района. Железные дороги предъявляли спрос на каменный уголь, который добывался в Донецком каменноугольном бассейне, и осуществляли вывоз продукции в другие районы. Помимо каменного угля, Донецкий район располагал богатыми запасами руды Кривого Рога, что обеспечивало развитие здесь металлургического производства. Центром Донбасса стал горнорудный поселок Юзовка. Добыча угля в Донбассе в 1870 г. составляла всего 15 млн пудов, к 1913 г. она возросла более чем в сто раз. Доля Донбасса в добыче каменного угля в целом по России составляла в конце XIX в. свыше 90 %.
Потребности железнодорожного строительства и близость угольных шахт привели к быстрому росту черной металлургии Юга. В 1880—1890-е гг. здесь были построены два десятка хорошо оснащенных металлургических заводов. На них производилась выплавка мартеновской стали, были сооружены прокатные станы. На некоторых заводах вырабатывался высококачественный полосовой и сортовой металл, находивший широкий сбыт в России и шедший на экспорт. Заводы располагались в районе города Екатеринослава и непосредственно на угольных месторождениях. К концу XIX в. Юг стал основным поставщиком металла. Если в 1880 г. он давал всего 5 % выплавлявшегося в России чугуна, то к 1900 г. на его долю приходилось свыше 50 %. В абсолютных цифрах производство чугуна за эти годы выросло с 1,8 млн пудов до почти 50 млн. В развитии каменноугольной и металлургической промышленности Юга России заметную роль играл иностранный, преимущественно английский капитал, а также французский и бельгийский. Пролетариат Донецкого промышленного района в большинстве своем состоял из русских и украинцев.
Тяжелая промышленность Донбасса оттеснила на второй план уральские горные заводы, которые утратили доминирующее положение к 1890-м гг. На Урале поздно завершился промышленный переворот, его заводы отставали в технической оснащенности, здесь долго отсутствовало горячее дутье в домнах, бесконечно ремонтировалась изношенная техника. Такое же положение было и в ряде других центров (Алтайские, Луганские, Мальцовские, Олонецкие заводы за 1860–1877 гг. увеличили выпуск продукции всего на 10 %). Только со второй половины 80-х гг. техническая модернизация стала реальностью (внедрение бессемеровских конверторов, мартенов и т. п.). В итоге технического перевооружения на Урале рост производства в 1885–1899 гг. достиг 218 %, и около 70 % продукции шло на строительство Транссибирской магистрали.
Новым промышленным районом стал Бакинский, где началась промышленная добыча нефти. Развитие нефтяного производства шло исключительно быстрыми темпами. В 1864 г. здесь было добыто 538 тыс. пудов, в 1901 г. – 673 млн пудов. На рубеже веков Бакинские нефтепромыслы давали до 95 % добычи нефти в России и около 50 % – мировой. Уже в конце 1870-х гг. здесь стали строиться нефтепроводы, нефтеперегонные заводы, в начале XX в. Баку был соединен нефтепроводом с Батуми. Бакинская нефть привлекала как местный, так и иностранный капитал, в частности шведский и английский. В нефтедобыче были заняты Нобели, Ротшильды, Мирзоевы, Ман-ташевы. Бакинский пролетариат был интернационален, примерно половину его составляли азербайджанцы, велика была доля русских и армян.
Центром текстильной промышленности стал Варшавско-Лодзинский район, продукция которого успешно конкурировала с занимавшей ведущие позиции текстильной промышленностью Центрально-промышленного района. Показательна судьба Лодзи. Благодаря промышленному производству, город развивался исключительно бурными темпами: в 1820-е гг. небольшое местечко Царства Польского насчитывало около 1000 человек, к концу XIX в. численность населения дошла почти до полумиллиона. Такого роста не знал ни один европейский город. Последовательно проводя имперский принцип национальной и конфессиональной терпимости, российская администрация сделала Лодзь местом, привлекательным для предпринимателей, ремесленников и мастеровых из Саксонии, Силезии, Чехии и Моравии. Протекционистская политика правительства, приток немецких технологий и еврейского капитала, дешевая рабочая сила превратили город во «второй Манчестер», где были построены современные хлопчатобумажные, шелкоткацкие, шерстяные, суконные фабрики, товар которых шел на внутренний рынок Российской империи. Лодзинский пролетариат был многонационален, его составляли поляки, немцы и евреи.
В пореформенное время сохранил и укрепил свои позиции Центрально-промышленный район. На его долю приходилось более 4/5 производства хлопчатобумажной и около 3/5 шерстяной и льняной промышленности, в которой работало 4/5 всех рабочих текстильной промышленности. Рост текстильного производства в существенной мере базировался на ввозе зарубежного оборудования. До 60 % его шло из Англии и Германии. Общий рост текстильной промышленности был близок к концу века к удвоению (в хлопчатобумажной промышленности – на 85 %, а в шелковой – на 95 %). В центре России были расположены такие ведущие паровозостроительные заводы, как Коломенский, Брянский и Сормовский. К концу века в России было семь таких заводов, ежегодно выпускавших 1200 паровозов (во Франции выпускалось 800, в Германии – 1400 паровозов в год). В Центральном районе производилась значительная часть продукции российского машиностроения. На его предприятиях работала почти половина всех фабрично-заводских рабочих страны. Пролетариат Центрально-промышленного района в основном составляли русские. В развитии новых отраслей производства – электротехнической, электрохимической – принимал участие германский капитал.
Во второй половине 80-х гг. и вплоть до конца столетия форсированными темпами развивалась прежде всего тяжелая промышленность, объем продукции которой увеличился в 4 раза, а численность рабочих – вдвое. В конце века вновь построенные предприятия насчитывали тысячи рабочих. В легкой промышленности кардинальные изменения произошли в самом конце столетия и в годы кризиса. Если в 80-е гг. крупные механизированные предприятия были редкостью среди огромной массы кустарного производства, то в конце XIX – начале XX в. во всех главных отраслях господствующее положение занимали крупные и крупнейшие предприятия.
В целом в ходе модернизации наметилась тенденция к созданию многопрофильных концернов. Вслед за этим развивались и множились акционерные общества и компании. К 1900 г. число их возросло до 1,5 тыс. с капиталом 2,5 млрд руб. Рост таких монопольных объединений четко наметился еще в 80-е гг. В тяжелой промышленности это картели (в отраслях металлообработки, горной, нефтяной промышленности, в стекольной отрасли и производстве стройматериалов). Экономическая независимость заводов-участников таких объединений была стеснена. В 90-е гг. картели выходили из тени через создание структур по продаже продукции, образование торговых домов и т. п. Для сбытовых монополий стали практикой организации синдикатов. Активную роль в этом процессе играли банки.
В области торговли по-прежнему ведущую роль играли ярмарки, число которых достигло 16 тыс. На 87 % это была торговля сельскохозяйственной продукцией. Однако крупнейшие ярмарки с оборотом более 100 тыс. руб. составляли около 1 % от их общего числа. В то же время в городах быстро прогрессировала стационарная магазинная торговля.
Противоречия капиталистического развития. В конце xix в. Россия по основным промышленным показателям – темпам роста производства, объему промышленной продукции, энерговооруженности, концентрации производства – входила в число четырех-пяти ведущих капиталистических государств тогдашнего мира. Однако уровень ее сельского хозяйства (а это более 80 % населения) заметно отставал от уровня развития промышленности и существенно тормозил общий процесс модернизации страны. Налицо было неравномерное, диспропорциональное экономическое развитие, последствием которого стал глубочайший социальный кризис начала XX в.
Для промышленного развития пореформенной России была характерна предельная концентрация производства в отдельных регионах, что было обусловлено историческими и природохо-зяйственными факторами. Развитие этих регионов происходило бурными темпами. В них росли города, увеличивалась плотность населения, происходило накопление капиталов. Однако большая часть территории страны в промышленном отношении была развита крайне слабо. Практически полностью отсутствовала промышленность за Уралом и в Средней Азии. В Европейской России некоторые центры крупной промышленности, например Тула и Брянск, находились в окружении земледельческих районов с бедным крестьянским населением. Неравномерность в размещении промышленного производства усугубляла социальные диспропорции.
Пореформенная промышленность развивалась в условиях избыточного предложения дешевой и неквалифицированной рабочей силы, которую поставляла деревня. Для предпринимателей это означало возможность снижения издержек производства путем назначения низкой заработной платы рабочим и широкого применения ручного труда, что удручающе сказывалось на темпах технического перевооружения. Одновременно возрастала роль немногочисленных рядов квалифицированных промышленных рабочих, которые не встречали конкуренции на рынке рабочей силы и выступали с требованиями улучшения условий и повышения оплаты труда. Для этой категории рабочих была характерна повышенная активность в защите своих экономических интересов.
Рабочее движение вынуждало правительство идти на некоторую регламентацию отношений между фабрикантами и рабочими. В 1886 г. появился закон о штрафах, который регламентировал их взимание, определял их максимальный размер, запрещал расплачиваться купонами, хлебом и товарами. Расширялись права казенной фабричной инспекции, которая должна была утверждать правила внутреннего распорядка на заводах и фабриках. Была запрещена ночная работа для подростков и женщин. Фабричное законодательство вызвало недовольство предпринимателей, и его инициатор, министр финансов Н. X. Бунге, вынужден был уйти в отставку. Идеолог реакции М. Н. Катков увидел в его фабричном законодательстве «едва ли не социализм».
В пореформенное время российская промышленность стала органической частью международной хозяйственной системы. В ее развитии прослеживалась характерная для капиталистической экономики цикличность производства. В первые пореформенные годы промышленность переживала естественный спад, связанный с крушением крепостных отношений и перестройкой всего социально-экономического комплекса страны. Затем последовал короткий период грюндерства конца 1860—1870-х гг., когда железнодорожное и фабрично-заводское строительство шло рука об руку с лихорадочным учреждением акционерных обществ, частных банков и обществ взаимного кредита. Это было время масштабных биржевых спекуляций, создания дутых предприятий и быстрого падения котировки ценных бумаг. На рубеже 1870—1880-х гг. последовали финансовый кризис и спад промышленного производства, что было связано с европейским промышленным кризисом. Период грюндерства закончился массовым разорением банковских вкладчиков и держателей ценных бумаг.
Промышленное развитие 1880-х гг. отличалось крайней региональной и отраслевой неравномерностью. В конце десятилетия оно завершилось новым системным кризисом, который был частью спада мирового промышленного производства и сопровождался аграрным кризисом. В поисках выхода из тяжелой ситуации правительство предприняло целенаправленные усилия, которые привели к небывалому промышленному подъему, начавшемуся в 1893 г. Годы этого подъема были временем экономической модернизации России под эгидой государства.
§ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНЦА XIX в.
Государственное регулирование экономики.Запоздалый, неполный и непоследовательный отказ от экономики, основанной на крепостном праве и регулируемой государством, предельно сократил в России стадию капитализма свободной конкуренции. Последние два десятилетия XIX в. в экономике России происходили изменения, означавшие переход на новую, более высокую стадию развития. Одним из проявлений этого перехода было усиление государственного регулирования экономики, что в российских условиях не вызывало затруднений, поскольку имелись давние традиции государственного вмешательства в экономическую жизнь, правительственного попечения о нуждах промышленности и сельского хозяйства. На этом была построена политика ускоренной экономической модернизации, проводившейся в конце XIX в.
Историческая традиция и объективные условия – огромные российские расстояния и продиктованная этим необходимость эффективного государственного контроля над путями и средствами сообщения, крайняя неравномерность регионального экономического развития, избыточность населения в одних районах и малая плотность в других, а главное, бедность капиталами, вынуждавшая правительство их аккумулировать и перераспределять, – диктовали принципиально иной путь модернизации экономики, принципиально иную схему взаимоотношений государства и предпринимателей, чем в западноевропейских странах. Российское государство в лице Министерства финансов играло главную роль в проведении экономической модернизации.
На протяжении более двадцати лет три последовательно сменявших друг друга министра финансов – Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградский и С. Ю. Витте – целенаправленно проводили политику всемерного поощрения и протекционизма национальной промышленности. Ими был взят курс на форсированную индустриализацию, успех которой должен был привести к модернизации всей экономики. Преобразование сельского хозяйства, изменение социальной структуры общества выступали как необходимое следствие экономической модернизации. В перспективе экономическая модернизация требовала обновления государственных институтов. Объясняя смысл деятельности своей и своих предшественников, С. Ю. Витте писал: «Создание своей собственной промышленности – это и есть та коренная, не только экономическая, но и политическая задача, которая составляет краеугольное основание нашей протекционной системы».
Министерство финансов контролировало практически все сферы российской экономики. В его распоряжении были громадные возможности: финансовая и тарифная политика, правительственная опека над отдельными отраслями промышленности и отдельными регионами, гарантии частному, в том числе иностранному, капиталу, регламентация отношений между фабрикантами и рабочими, ускоренное развитие государственных предприятий, где новейшие технические достижения сочетались с элементами давних нерыночных отношений. Государство выступало инициатором и единственным гарантом свободного предпринимательства, сфера действия подлинно частной инициативы была предельно сужена.
Вместе с тем министры финансов были против чрезмерного и некомпетентного вмешательства государства в экономическую и частную жизнь. Бунге предостерегал от опасности воззрений, согласно которым «государству следует пахать, сеять и жать, а затем издавать все газеты и журналы, писать повести и романы, подвизаться на поприще искусств и науки».
Н. X. Бунге.Назначенный на пост министра финансов в 1881 г., Бунге имел репутацию компетентного ученого-экономиста и безукоризненно честного человека. Он принадлежал к либеральной бюрократии, но при Александре III, которого привлекала идея развития национальной промышленности, сохранил и укрепил свои позиции. Бунге считал, что для успеха промышленной деятельности требуется «не столько материальная поддержка, сколько установление лучшего порядка посредством издания законов, примененных к современному развитию хозяйства. Россия отстала от всей Западной Европы в этом отношении на полстолетия». Он разработал и осуществил программу фабричного законодательства, с ним были связаны основные постановления правительства Александра III, регламентировавшие аграрные отношения. Он исходил из того, что «сила и влияние господствующих классов могут быть прочно основаны лишь на благосостоянии рабочего сословия». Он высказывался за установление более тесной связи между интересами рабочих и фабрикантов и считал, что участие рабочих в прибылях позволит решить социальный вопрос.
Одним из важнейших мероприятий Бунге стала отмена подушной подати (1886). Эта мера стала шагом на пути к отказу от сословного налогообложения, к замене его налогом на имущество. Бунге надеялся, что с отменой подушной подати повысится благосостояние крестьян, а казна восполнит убыль косвенными налогами и акцизами с вина, пива, сахара и табака. Однако его надежды не сбылись. Еще до его вступления на пост министра государственный долг составлялоколо 6 млрд руб., происходило обесценение рубля. Неурожаи 1883 и 1885 гг. подорвали непрочную финансовую систему, резко возрос бюджетный дефицит. Отставка Бунге была предрешена; он не мог противодействовать ухудшению состояния российских финансов и подвергался нападкам со стороны Победоносцева и Каткова.
И. А.Вышнеградский и его программа стабилизации.На его место был назначен Вышнеградский, ученый-технолог с мировым именем, удачливый делец-предприниматель. Своей главной задачей на посту министра Вышнеградский считал устранение бюджетного дефицита. Стремясь к бюджетному равновесию, он настаивал на сокращении расходов, особенно военных.
Он разработал программу стабилизации, целью которой было достижение положительного сальдо расчетного баланса путем сокращения платежей по внешним долгам, сокращения импорта и увеличения экспорта. Он повысил ввозные пошлины на чугун и сталь, железную руду, паровые суда и сельскохозяйственные машины, на продукцию химической промышленности. Улучшая расчетный баланс, эти меры стимулировали отечественную промышленность и лежали в русле политики протекционизма, начало которой заложил Бунге. Смысл политики протекционизма позднее определил С. Ю. Витте: «Благодаря систематическому проведению протекционной системы и приливу иностранных капиталов, промышленность у нас быстро начала развиваться, и в мое управление министерством, можно сказать, прочно установилась национальная русская промышленность».
При Вышнеградском была разработана новая тарифная система, получившая название «менделеевской», поскольку в ее создании принимал участие Д. И. Менделеев. Были резко, иногда почти до запрета ввоза отдельных товаров, подняты таможенные ставки. Эти меры стали прологом длительной таможенной войны с Германией. Победа в этой войне была одержана при Витте, который объявил новые таможенные ставки минимальными для стран, проводивших режим благоприятствования по отношению к России. Ставки на германский экспорт еще более повышались. Опираясь на поддержку Александра III, Витте вынудил Германию к уступкам, которые были зафиксированы в торговом договоре 1894 г. Главным итогом жесткого контроля над импортом стало создание условий для ускоренного развития таких отраслей отечественной тяжелой индустрии, как черная металлургия, металлообрабатывающая промышленность, машиностроение, химическая промышленность.
Стабилизационная программа предусматривала форсирование российского экспорта, основу которого составляли хлеб, лес, лен, семена масличных растений. Ведущую роль играл хлебный экспорт, в Европу вывозились пшеница, рожь, ячмень и овес. В конце XIX в. Россия обеспечивала до одной трети пшеничного импорта Западной Европы. Вышнеградский создавал льготные условия кредитования производителям хлеба, прежде всего помещикам и зажиточным крестьянам черноземной и степной полосы. В их интересах он пересмотрел железнодорожные тарифы. Специальная комиссия занималась вопросами качества хлебной продукции, что повлекло за собой строительство сети элеваторов, хлебных платформ, оборудованных перегрузочных станций. Доля муки в хлебном экспорте долго не превышала 1 %, и Вышнеградский стал поощрять развитие мукомольной промышленности.
Усилия Вышнеградского дали плоды. Если до его прихода в Министерство финансов среднегодовой вывоз хлеба составлял 296 млн руб., то он сумел его увеличить до 342 млн. Меры Вышнеградского позволили удержать за русским хлебом европейский рынок, смягчить влияние аграрного кризиса на отечественное сельское хозяйство и достичь главного – положительного сальдо расчетного баланса России.
Если в 1886 г., накануне прихода Вышнеградского в Министерство финансов, сальдо расчетного баланса сводилось с дефицитом 152 млн руб., то в 1891 г. превышение доходов над расходами составило 42 млн руб. В эти же годы растет производство отечественного чугуна и стали: чугуна – 32 тыс. пудов в 1886 г. и 56 тыс. пудов в 1890 г., выплавка стали увеличилась с 36 тыс. пудов до 49 тыс.
Успех программы стабилизации Вышнеградского зависел не только от финансовых и экономических мер, но и от общественно-политической ситуации в стране. Это наглядно продемонстрировали события 1891 г., когда неурожай поразил восточные степные районы и принял форму бедствия, затронувшего территорию с населением около 40 млн человек. От голода и холеры умерло до полумиллиона жителей деревни. Голод 1891 г. выявил непрочность стабилизационных мер Вышнеградского, односторонность его надежд на форсирование хлебного экспорта. Общероссийский сбор пшеницы в 1891 г. был лишь на 1,7 % ниже, чем сбор благополучного 1886 г. Но южные и западные губернии, ориентированные на вывоз зерна в Западную Европу, продавали туда не только излишки, но и часть необходимого, тогда как Поволжье голодало. Министра обвинили в том, что его политика довела крестьян до голода, ему напомнили фразу, которая действительно звучала ужасно: «Недоедим, а вывезем».
Положение в деревне усугублялось тем. что Вышнеградский жестко взыскивал с крестьян недоимки.
Голод 1891 г. показал, что ни хлебный экспорт при невысоком уровне урожайности, ни ускоренное освоение степных и южнорусских районов рискованного земледелия, где создавались новые сельскохозяйственные центры России, не решают задачи подлинной экономической стабилизации в деревне. Помещичье землевладение и обусловленная природно-климатическим фактором крестьянская поземельная община предопределяли развитие сельскохозяйственного производства по экстенсивному пути. Однако и интенсивный путь не лишал сельское хозяйство прокрустова ложа короткого лета и засух. Так или иначе в 1892 г. Вышнеградский должен был оставить свой пост.
Реформы С. Ю. Витте.Министром финансов стал С. Ю. Витте, видный деятель железнодорожной отрасли. Его государственная карьера началась при Вышнеградском. На посту министра Витте пробыл до 1903 г. Он с успехом продолжал модернизацию промышленности, начатую его предшественниками. Витте создавал условия для притока в Россию иностранного капитала как в виде займов, так и в форме прямых вложений. Сырьевые и энергетические ресурсы страны, дешевая рабочая сила, устойчивая денежно-финансовая система и преувеличенные представления о социально-политической стабильности самодержавного строя делали Россию исключительно выгодной сферой приложения иностранного капитала. Его доля в акционерном капитале горной, металлообрабатывающей и машиностроительной отраслей превышала долю российского капитала. Иностранный капитал преобладал в тяжелой промышленности Юга России, разработке бакинской нефти, в золотопромышленности. Французские капиталы были в угледобыче, добыче и перегонке нефти, металлургии, машиностроении, в цементной промышленности. Английские капиталы – это нефть, цветные металлы, текстиль и строительство военных кораблей. Германские инвестиции шли в химическую промышленность, металлургию, железные дороги, добычу газа, кредитование. На иностранные (немецкие) деньги развивались такие новые отрасли, как электрохимическая, электротехническая, городское коммунальное хозяйство, производство новейших средств связи. Если в 1893 г. доля иностранного капитала по отношению ко всему акционерному капиталу составляла 27 %, то к 1900 г. она возросла до 45 %.
Этот курс на привлечение иностранного капитала был экономически оправдан, в его основе лежал тот факт, что Россия была страной, бедной капиталами, с ограниченными внутренними возможностями их концентрации и с высокой долей непроизводительных расходов. Попытки Вышнеградского и Витте использовать доходы сельскохозяйственного производства для нужд промышленной модернизации наталкивались на сопротивление поместного дворянства.
Воздействие иностранного капитала на том этапе не сказывалось на самостоятельности российской внешней и внутренней политики, хотя государственные и частные займы, делавшиеся во Франции, укрепляли прочность русско-французского союза. В итоге в 1881–1900 гг. в счет погашения процентов по займам и дивидендов за рубеж было вывезено 2,5 млрд руб., что в 1,5 раза больше объема всего иностранного капитала в России. Тем не менее казна выжала из крестьян ресурс для экономики (выкуп земли и т. д.). Витте подчеркивал: «Я совсем не боюсь иностранных капиталов, почитая их за благо для нашего отечества, но я боюсь совершенно обратного, что наши порядки обладают такими специфическими, необычными в цивилизованных странах свойствами, что немного иностранцев пожелают иметь с нами дело». Однако европейцам были выгодны инвестиции в Россию…
Важным делом Витте стало введение винной монополии. Задуманная еще Вышнеградским в целях резкого увеличения поступлений в казну, винная монополия включала в себя розничную и оптовую торговлю крепкими спиртными напитками и очистку спирта. В 1894 г. винная монополия стала постепенно вводиться в губерниях Российской империи. К концу министерства Витте она охватила практически всю территорию страны. Она давала более 10 % бюджетных доходов.
Витте завершил конверсию российских внешних займов, которая была задумана еще Бунге и начала осуществлятьсяпри Вышнеградском. С 1888 г. на Парижской бирже обменивались 5-процентные и 6-процентные российские государственные облигации на облигации с более низким процентом и более длительными сроками погашения. Конверсия внешних займов России привела к переходу русских ценных бумаг на французский денежный рынок и к увеличению государственного долга. При Витте усилился рост частной и общественной задолженности зарубежным банкам, к 1903 г. внешнегосударственная задолженность достигла огромной по тем временам цифры 5800 млн руб.
Увеличение внешней задолженности на время решало финансовые проблемы страны, что дало возможность стабилизировать положение рубля и провести в 1897 г. денежную реформу, которая устанавливала золотой монометаллизм. Рост налоговых поступлений, добыча и покупка золота позволили Государственному банку увеличить золотую наличность до размера, который почти соответствовал сумме обращавшихся кредитных билетов. Кредитные билеты стали обмениваться на золото без ограничений. Денежная реформа Витте укрепила внешний и внутренний курс рубля, но в ее основе лежали финансовые и фискальные мероприятия, а не подлинная экономическая стабилизация.