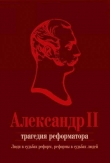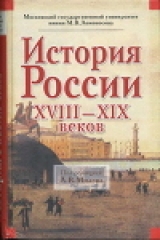
Текст книги "История России XVIII-XIX веков"
Автор книги: Леонид Милов
Соавторы: Николай Цимбаев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 53 страниц)
У Карамзина было немало последователей, которые ценили его как преобразователя русского языка и российской словесности, как историка, политического писателя и защитника устоев самодержавия. Среди них были такие влиятельные деятели, как Д. Н. Блудов, П. А. Вяземский, Д. В. Дашков, В. А. Жуковский, С. С. Уваров. В первые годы александровского царствования они вели полемику с А. С. Шишковым в защиту «нового слога», верили в самодержавную инициативу и поддерживали реформаторскую деятельность правительства. В 1815 г. составили литературно-общественное объединение «Арзамас», которое исповедовало умеренную либерально-консервативную программу. Не чураясь политических перемен, арзамасцы полагали, что те «суть медленный плод времени». Считая крепостное право несовместимым с христианской моралью и духом времени, деятели «Арзамаса», например Уваров, выступали против освобождения крестьян, ибо «освобождение души через просвещение должно предшествовать освобождению тела через законодательство». Карамзин и карамзинисты во многом определяли общественную атмосферу александровской эпохи. Некоторые из них – Блудов, Дашков, Уваров – делали успешную служебную карьеру, Вяземский деятельно участвовал в работе над Уставной грамотой 1820 г.
А.С.Шишков.Литературно-общественные противники карамзинистов группировались вокруг адмирала и литератора А. С. Шишкова. В 1803 г. вышла его знаменитая книга «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», где автор выступал против губительных нововведений в области русского языка и культуры, отстаивал «старый слог» и самодержавные устои. Обличая «порчу» родного языка Карамзиным и карамзинистами, он связывал ненавистный ему «новый слог» с французскими нравами и понятиями, с разрушительными революционными идеями. Его возмущала и тревожила галломания дворянского общества: «Дети знатнейших бояр и дворян наших прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим». Шишкова беспокоило то, что «ненавидеть свое и любить чужое почитается ныне достоинством».
Шишков был убежденным противником французских просветителей и их российских последователей, которые «под видом таинственных умствований о вере разрушали веру, под видом утверждения власти низлагали власть, под видом закона вводили беззаконие, под видом человечества внушали бесчеловечие». Программное значение имела его работа «Рассуждения о любви к Отечеству», написанная в 1811 г., накануне наполеоновского вторжения. Шишков призывал к патриотическому сплочению, которое одно может «отвратить сию страшную тучу», он напоминал о героизме и подвигах предков и видел в русском народе носителя высших нравственных начал, основанных на христианстве. Крепость русского государства он объяснял верностью православию, которое есть основа любви к Отечеству и государю, верностью русскому языку, который обеспечивает единомыслие, и разумной организацией, где соблюдается иерархия сословий.
В 1812 г. Шишков, после отставки Сперанского, занял пост государственного секретаря. Он был автором патриотических манифестов, с которыми царь обращался к армии и народу. Эти манифесты читались с большим вниманием, они оказывали заметное влияние на национальное сознание, пронизывая его идеями преданности престолу и Отечеству.
Национально-патриотическая тема была основной и для других общественных деятелей. Постоянный оппонент александровских начинаний, обличитель Сперанского и выразитель настроений консервативного дворянства Ф. В. Ростопчин простонародным слогом высмеивал нравы и обычаи французов, которым противопоставлял добрые свойства русского народа. Его «Мысли вслух на красном крыльце» имели огромный успех, их тираж составил 7 тыс. экземпляров, что для того времени было невероятной цифрой.
Патриотизм и европеизм.После Аустерлица наблюдался подъем патриотического чувства, пробуждение интереса к национальной истории и культуре. Особое внимание привлекали события Смутного времени, герои которого – Минин, Пожарский, патриарх Гермоген, Прокопий Ляпунов – становятся символами верного служения Отечеству. В 1807 г. немалый общественный интерес вызвал конкурс на памятник Минину и Пожарскому в Москве.
Тильзитский мир, заключенный с узурпатором, подорвал в обществе репутацию Александра I. В печать и на сцену стали проникать оппозиционные настроения, которые не были ясно сформулированы и представляли собой смесь антифранцузских настроений в духе Шишкова и Ростопчина с критикой царя и преклонением перед народным патриотизмом. В 1808 г. стал издаваться журнал «Русский вестник», редактор которого ОН. Глинка идеализировал патриархальную старину, воспевал деяния предков, их добрые нравы, которые противопоставлял испорченным иноземным. Он высмеивал галломанию, подражание европейским модам, обращал внимание на удобства старой русской одежды. Глинка утверждал: «Все наши упражнения, деяния, чувства и мысли должны иметь целью Отечество, на сем единодушном стремлении основано общее благо». Глинка стремился «исследовать коренные свойства духа народного» и выстроить на его основе идеальную политическую систему. Он считал справедливыми социальную иерархию, дворянское попечение над крестьянами и царское попечение над всеми сословиями. Взгляды Глинки были консервативны, но его пламенный патриотизм привлекал читателей и сыграл заметную роль в патриотическом подъеме 1812 г.
Великая победа над Наполеоном способствовала укреплению чувства национальной гордости. Причастность к европейским делам осознавалась как единство исторических судеб русского и других европейских народов. Одновременно истоки победы усматривали в прошлом России, люди разных убеждений воспевали новгородскую вольность, народные веча, подвиги Минина и Пожарского. Патриотизм объединял всех, что оборотной своей стороной имело нерасчлененность общественных направлений, их размытость. В 1813 г. Уваров писал: «Состояние умов в настоящую минуту таково, что смешение понятий дошло до последних пределов. Одни требуют просвещения без опасности, то есть желают огня, который бы не жег. Другие, и это большинство, сваливают в один мешок Наполеона и Монтескье, французские войска и французские книги… Друг в друга кидают выражениями: религия в опасности, нравственность потрясена, распространитель новых иностранных идей, иллюминат, философ, франкмасон, фанатик и пр. Словом – совершенное безумие».
Среди части дворянского общества прочно утвердилось представление, согласно которому изгнание Наполеона и освобождение Европы от «французского варварства» были предопределены свыше, что России и русскому народу предстоит великая историческая миссия. Известный масон А. Ф. Лабзин утверждал: «Когда Всемогущий избирает в орудия свои какой-либо народ, то, без сомнения, для какой-нибудь важной цели. Когда Он прославляет его так, как прославил ныне Россию во всех концах мира, то, без сомнения, имеет намерение произвести что-либо великое чрез сей народ, может быть, во всех же концах мира».
Национальный подъем 1812 г., активное участие народа в борьбе с завоевателями рассматривались как свидетельство прочности социальных устоев России, как доказательство народной любви к самодержавной власти. Далекий от политического консерватизма А. И. Тургенев полагал, что война принесла стране пользу тем, что вызвала единение сословий: «Отношения помещиков и крестьян (необходимое условие нашего теперешнего гражданского благоустройства) не только не разорваны, но еще более утвердились. Политическая система наша должна принять после сей войны также постоянный характер, и мы будем осторожнее в перемене оной».
После окончания войны, когда Александр I даровал конституционное устройство Польше и был главным инициатором выработки конституционной хартии, которую подписал французский король Людовик XVIII, возобновились разговоры о конституции. Большая часть дворянского общества склонялась к мысли, что введение конституции в России, за которым неизбежно должна была последовать отмена крепостного права, опасно. Конституционное правление признавалось несоответствующим русским нравам и коренным установлениям. Часты были ссылки на авторитет Екатерины II, которая полагала, что по огромности своих пространств Россия не может иметь иной формы правления, кроме самодержавной.
Сдержанно была встречена варшавская речь Александра I. Русский офицер, который находился в 1818 г. в Варшаве, записал в дневнике: «Весьма любопытно было слышать подобные слова из уст самодержца, но надобно будет видеть, приведется ли предположения сии в действие». Сомнение оказалось основательным, хотя часть дворянской молодежи восторженно отнеслась к царскому обещанию дать конституцию. Это обстоятельство тревожило Карамзина: «Варшавские речи сильно отозвались в молодых сердцах. Спят и видят конституцию; судят, рядят, начинают и писать». Варшавскую речь императора восхвалял Уваров. Выступая перед студентами Педагогического института, он говорил о том, что политическая свобода «есть последний и прекраснейший дар Бога», предостерегал нетерпеливых: «Сей дар приобретается медленно, сохраняется неусыпною твердостию, он сопряжен с большими жертвами, с большими утратами».
Близка к уваровской была позиция лицейского преподавателя А. П. Куницына, статья которого «О конституции» воспевала государя-победителя, что дает «свободную конституцию народу, им побежденному». Куницын верил, что «времена варварства миновали, настали веки образования» и следствием этого станет российская конституция. Он указывал на различия между Россией и Европой на пути перехода к политической свободе: «Европейцы добывали политические права силой, русские получат их из рук благодетельного монарха». Вместе с тем Куницын отмечал давнюю включенность России в европейскую политическую традицию: «Вече, боярские думы, третейский и совестной суд, разбирательство дел при посредничестве присяжных, равных званием подсудимому, были еще в древности существенными принадлежностями образа правления в нашем Отечестве».
Уваров и Куницын убедили немногих. Аракчеевские времена были неблагоприятны для тех, кого в обществе называли ли-бералистами, и неудивительно, что вскоре Куницын оказался в числе гонимых петербургских профессоров, а Уваров должен был подать в отставку с поста попечителя Петербургского учебного округа.
После 1820 г. характер общественной жизни существенно изменился. Стало невозможно открытое обсуждение крестьянского вопроса и вопроса о представительном образе правления, гонения на вольнодумство побуждали к осторожности. Радикально настроенная часть дворянской молодежи, видевшая в Александре I «кочующего деспота» и возмущенная аракчеевскими порядками, искала выход в рамках тайных обществ. Для дворянского большинства были характерны настроения общественной апатии и стремления довольствоваться существующим положением.
Глубокие внутренние противоречия были характерны и для отдельных деятелей. Адмирал Н. С. Мордвинов, известный независимостью суждений, в своих экономических сочинениях отстаивал права частной собственности и гражданские свободы, понимаемые в английском духе. Вместе с тем право собственности он трактовал как гарантию сохранения крепостных отношений.
Особенностью александровского времени было то, что консервативные и умеренно-либеральные воззрения приобретали патриотическую окраску, прямо служили делу национального самосознания и порой принимали формы, оппозиционные самодержавной власти. Одновременно, долгое время, вплоть до расцвета аракчеевщины, либерально-конституционные и радикальные идеи, так или иначе ориентированные на западноевропейские образцы, были несамостоятельны и опирались на правительственный реформизм. По словам Пушкина, правительство было «единственным европейцем» и самодержавная инициатива определяла характер политического и общественного развития. Ни народные массы, невежественные и достаточно пассивные, ни те или иные сословия и сословные группы, ни общественное мнение, ни армия и ее офицерский корпус не могли служить ей противовесом.
§ 2. ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ
Общественные организации.Примечательной чертой общественной жизни александровского времени было исключительное обилие разного рода кружков, литературных и дружеских обществ. В Петербурге, Москве, в некоторых губернских городах возникали клубы и салоны, где обсуждались политические новости и комментировались правительственные действия. Общественные организации, число которых доходило до двухсот, создавались без разрешения властей, которые долгое время сквозь пальцы смотрели на их деятельность. В подавляющем большинстве случаев цели этих организаций не содержали ничего предосудительного, но само их существование свидетельствовало о пробуждении в России навыков общественной самодеятельности. До 1822 г. в России были разрешены масонские ложи, члены которых именовали себя «братьями», исполняли на своих заседаниях сложные обряды, пронизанные мистикой и непонятные для непосвященных. Учение масонов было реакцией на рационализм просветителей, что привлекало к нему многих представителей дворянского общества. Распространенные по всей Европе, масонские ложи объединяли людей самых разных политических убеждений, они воспитывали вкус к общественной жизни. Нередко форма масонской ложи служила прикрытием политического радикализма, что правительство Александра I осознало не сразу.
Иногда правительство оказывало покровительство общественным объединениям. Созданное под председательством близкого друга царя А. Н. Голицына Библейское общество занималось изданием и распространением Священного Писания на языках народов Российской империи. В стране действовало около шестидесяти отделений общества, состоять в котором стремились как гражданские чиновники, так и неслужащие дворяне. Военное ведомство поощряло ланкастерские школы взаимного обучения, где гуманно настроенные офицеры обучали солдат. Некоторые общества отличались исключительной серьезностью своих занятий. В Москве к 1824 г. сложилось Общество любомудрия, куда входили молодые поклонники немецкой философии В. Ф. Одоевский, Д. В. Веневитинов, И. В. Киреевский, М. П. Погодин и др. Толкование книг Шеллинга и Гегеля они связывали с обсуждением положения в России в либеральном духе.
Особое место среди общественных организаций занимали тайные офицерские кружки. Их первоначальные действия не выходили за пределы традиций тайных офицерских обществ, которые возникали в гвардии и армейских полках в конце XVIII – начале XIX в. и цели которых не отличались определенностью. Это были дружеские артели, где литературные, общественные и политические интересы переплетались с веселым времяпрепровождением, которое выходило за рамки воинского устава и не могло быть одобрено начальством. В такого рода кружках в разное время состояли А. П. Ермолов и М. С. Воронцов.
Истоки декабризма.События Отечественной войны 1812 г., участие в заграничных походах оказали огромное воздействие на офицерскую молодежь. Передовые офицеры, будущие декабристы, называли себя «детьми 1812 года». Будучи молодыми офицерами, они принимали участие в Отечественной войне и заграничных походах, охотно вспоминали «день Бородина» и вступление русской армии в Париж. Им была присуща психология победителей, они искренне считали себя причастными к спасению России от иноземного нашествия и к освобождению Европы от тирании. Они имели возможность осознать роль народа в исторических событиях, понять, что именно народ сыграл главную роль в борьбе с Наполеоном. Крепостное состояние казалось им унизительным для народа-победителя. Они не сомневались в необходимости глубокого реформирования русской жизни. Освобождая Европу, они имели возможность сравнить буржуазные порядки, установленные Наполеоном, со «старым режимом», который возвращался на штыках русской армии. Отвергая наполеоновский деспотизм, они равным образом не принимали режим Реставрации, когда предавались забвению дорогие для них понятия свободы, равенства и братства. Политический идеализм сочетался у будущих декабристов со стремлением к активному действию.
Деятели тайных офицерских обществ осознавали себя составной частью передовой европейской общественности. Об этом прекрасно сказал Пестель: «Нынешний век ознаменовывается революционными мыслями, от одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, сих двух противоположности. То же самое зрелище представляет и Америка. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать».
Первые организации, условно называемые преддекабрист-скими, возникли в 1814–1816 гг. среди офицеров рейнской армии. Одна из них называлась орден русских рыцарей, идея которого принадлежала аристократам М. Ф. Орлову и М. А. Дмитриеву-Мамонову. У ордена имелся устав, который был похож на уставы масонских лож. Предполагалось создание православной орденской республики, среди задач которой было закрытие университетов, укрепление армии, завоевательные походы от Греции до Индии. Орден строился на основе слепого повиновения большинства, «посредственностей», меньшинству, «гениям». Серьезного значения эти планы не имели, но высказанная идея – объединить недовольных офицеров – была реализована в 1816 г. в Петербурге, где был создан Союз спасения.
Радикальные молодые офицеры, составившие тайное объединение, которое они со временем назвали «Общество истинных и верных сынов Отечества», находились под воздействием александровских идей единой европейской христианской нации, правительственного конституционализма и масонского ритуала. Большое влияние на них оказало дарование Александром I конституции Польше. Они утверждали, что если царь «одарит отечество твердыми законами и постоянным порядком дел, то мы будем его вернейшими приверженцами и сберегателями». Общество было немногочисленным, среди его членов выделялись А. Н. и Н. М. Муравьевы, С. И. Муравьев-Апостол, П. И. Пестель, СП. Трубецкой, И. Д. Якушкин. Одной из задач общества провозглашалось сближение дворянства и крестьянства, с тем чтобы «стараться первых склонить к освобождению последних».
Усиление влияния Аракчеева на государственные дела и слухи о намерении Александра I восстановить Польшу, присоединив к ней украинские, белорусские и русские земли, воспринимались членами Союза спасения как национальная катастрофа. Они обсуждали план цареубийства, который вызвался осуществить Якушкин. Тираноборческие настроения быстро сошли на нет, а отсутствие представлений о том, что надлежит делать после устранения Александра I, стало причиной прекращения деятельности Союза.
Союз благоденствия.Ему на смену в 1818 г. пришел Союз благоденствия, среди членов-учредителей которого почти все состояли в предыдущем тайном обществе. Союз благоденствия имел свой устав, который назывался «Зеленая книга» и с «ближней» целью которого знакомили всех вступавших в него. Эта цель формулировалась как «распространение просвещения», подготовка общественного мнения к принятию ожидаемой от императорской власти конституции. Общее число членов Союза благоденствия доходило до двухсот человек. Руководил Союзом Совет Коренного союза, которому подчинялись управы, созданные в Петербурге, Москве, Кишиневе, Смоленске, Тульчине.
Члены Союза благоденствия должны были личным примером воздействовать на общественное мнение, они верили, что «главные язвы отечества могут быть исправлены постепенным улучшением нравов», распространением грамотности, повышением уважения к человеческому достоинству. По их представлениям, просвещенное общественное мнение должно было содействовать правительству «к возведению России на степень величия и благоденствия, к коей она самим Творцом предназначена». Они стремились облегчить положение своих крепостных крестьян, издавали журналы и альманахи, где излагали либерально – конституционные идеи, высказывались против военных поселений и телесного наказания солдат. Единства взглядов в Союзе не было. Генерал М. Ф. Орлов приказом по своей дивизии запретил телесные наказания, а полковник Пестель был известен как сторонник палочной дисциплины.
Со временем была написана вторая часть «Зеленой книги», где излагалась «сокровенная» задача общества: «введение конституции и законно-свободного правления, равенство граждан перед законом, гласность в государственных делах и в судопроизводстве, уничтожение рабства крестьян, рекрутчины и военных поселений». Союз благоденствия не скрывал своей деятельности, в которой доминировали цели благотворительные и просветительные, «сокровенная» задача была известна немногим.
Наибольшие споры вызывал вопрос о путях достижения намеченных целей. Постепенное овладение общественным мнением не обещало скорого успеха и не давало никаких гарантий. Для многих членов Союза благоденствия это стало источником разочарования в тайном обществе. В 1820–1821 гг. многие из них обратились к политическому опыту стран Европы и Южной Америки, где побеждали освободительные и антимонархические движения, руководимые армейскими офицерами. С особым вниманием изучался опыт испанской революции, когда воинские части, подготовленные к отправке в Латинскую Америку для борьбы с врагами испанской короны, перед посадкой на корабли восстали и, двинувшись на Мадрид, свергли реакционную королевскую власть. Узнав о событиях в Испании, Н. И. Тургенев воскликнул: «Слава тебе, славная армия Гис-панская! Слава гиспанскому народу!» Переворот, организованный армией, в глазах передовых офицеров был противоположен кровавым событиям Французской революции, которую совершала чернь.
Повторение пугачевского бунта представлялось им немыслимым. Трубецкой был уверен, что крепостное право «располагает к пугачевщине» и утверждал: «С восстанием крестьян неминуемо соединены будут ужасы, которых никакое воображение представить себе не может, и государство сделается жертвою раздоров и может быть добычею честолюбцев, наконец, может распасться на части, и из одного сильного государства распасться на разные слабые. Вся слава России может погибнуть, если не навсегда, то на многие века».
Передовое офицерство было готово действовать во имя народа и для блага народа, но участие народа, крестьянства категорически отвергалось. Военная революция виделась им залогом быстрого успеха и одновременно гарантией от социальных потрясений.
Первым, кто предложил конкретный план действий с опорой на армию, был генерал М. Ф. Орлов, который в 1814 г. принимал капитуляцию Парижа. В 1821 г. на московском съезде Союза благоденствия он потребовал от соратников права «действовать по своему усмотрению». Ручаясь за свою дивизию, расквартированную на Юге, он был готов поднять ее под предлогом помощи восставшей Греции и начать движение на Москву, чтобы провозгласить там временное правительство. Он верил, что к дивизии примкнут другие части Второй армии и его выступление поддержит ермоловская Кавказская армия. Из Москвы предполагалось двинуть войска на Петербург, гвардейские полки которого, где было сильно влияние офицеров-заговорщиков, могли перейти на сторону восставших. План Орлова был проработан в деталях, которые предусматривали даже заведение тайной типографии для печатания воззваний. Члены Коренной управы отвергли его как преждевременный.
Большинство членов Союза благоденствия беспокоил радикализм Коренной управы, на петербургском совещании которой в начале 1820 г. было принято предложение Пестеля о «выгодах республиканского правления». Многие прекратили свое участие в делах общества. Разногласия привели к тому, что в 1821 г. было принято решение объявить общество распущенным. Для радикального меньшинства за этим стояло решение продолжить тайную деятельность и создать новое общество с более строгими принципами отбора членов, с четкой политической программой и ясными путями ее осуществления.
Южное и Северное общества.В 1821–1822 гг. были созданы основные декабристские организации – Южное и Северное общества. Во главе первого, которое охватывало офицеров Второй армии, расквартированной на Юге России, стоял Пестель, республиканец и твердый приверженец идеи революционного насилия. Единомышленники подозревали его в диктаторских намерениях, но ценили ум и организаторские способности. К видным членам Южного общества относились А. П. Юшневский, С. Г. Волконский, С. И. Муравьев-Апостол. Взгляды членов общества выражала написанная Пестелем «Русская правда». Она обсуждалась на тайных собраниях, в нее вносились изменения и дополнения, и наконец она была принята большинством голосов.
Гвардейских офицеров Петербурга объединяло Северное общество, где ведущуюроль играли Н. М. Муравьев, Н. И. Тургенев, С. П. Трубецкой, Е. П. Оболенский. Накануне событий 14 декабря в нем на первое место выдвинулся К. Ф. Рылеев, известный поэт и обличитель аракчеевщины. К Северному обществу принадлежала московская управа, где был заметен И. И. Пущин. Идеолог Северного общества Н. М. Муравьев несколько лет работал над «Конституцией», которая обсуждалась членами общества, но не была окончательно завершена.
Южное и Северное общества поддерживали постоянные отношения, намечали планы совместных действий. Переход из одного общества в другое, связанный с переменой места жительства и службы, был предельно облегчен. Формального объединения двух обществ не произошло, хотя в 1824 г. Пестель вел об этом переговоры в Петербурге. У Южного общества были эпизодические контакты с польским Патриотическим обществом, которое возникло в Варшаве и добивалось польской независимости. В 1825 г. к Южному обществу присоединилось небольшое общество Соединенных славян, созданное армейскими офицерами братьями А. И. и П. И. Борисовыми и И. И. Горбачевским. Члены этого общества исповедовали идеи славянского братства, мечтали об освобождении славянских народов от османского и австрийского гнета и о создании республиканской славянской федерации. Предполагалось с точностью определить границы каждого славянского государства и ввести у всех славянских народов «форму демократического представительного правления». Эти идеи были разновидностью политического панславизма, который именно в это время проникает благодаря воздействию польской общественности в Россию.
Политические и социальные идеи декабристов. Программные положения декабристского движения не выходили за пределы политических и социальных представлений александровского времени. На их авторов влияли как устаревшие к тому времени труды просветителей, так и новейшие доктрины либерализма. Вслед за теоретиком французского либерализма Б. Констаном декабристы отделяли социальные проблемы от борьбы за достижение политических и гражданских свобод, выступали против прямого участия народа в делах правления, с особым вниманием относились к конституционным гарантиям. Для них были характерны и идеализированные представления о древней русской вольности, восходившие к карамзинской традиции.
Программные документы зрелого периода декабристского движения – «Русская правда» Пестеля, «Конституция» Н. М. Муравьева, «Правила Соединенных славян», «Манифест к русскому народу», написанный накануне 14 декабря, – отличало глубокое внутреннее единство и общность исходных позиций. Все они предполагали ликвидацию крепостного права, установление представительного правления, гарантии гражданских прав и свобод, ограничение сословных привилегий. Их роднило признание незыблемости принципа частной собственности, который они распространяли прежде всего на помещичье землевладение. Исторически на долю декабристов выпало осмысление тех задач, которые в ходе Французской революции решались третьим сословием, буржуазией, для чего в России еще не созрели условия. По-своему прав был Ростопчин, когда после 14 декабря сострил: «Обыкновенно сапожники делают революцию, чтобы сделаться господами, а у нас господа захотели сделаться сапожниками».
Как и Александра I, декабристов занимало преобразование имперской государственности, что было назревшим и объективно неизбежным. Потенциал традиционного общества в России был исчерпан, крепостное хозяйство не обеспечивало потребности страны, в которой начался промышленный переворот, отношения между сословиями и политический статус отдельных исторических областей империи нуждались в современном правовом регулировании. Пути обновления Российской империи вполне очевидно выявились ко второй половине александровского правления. Один из них, намеченный в Государственной Уставной грамоте, был привлекателен как для императора и его сотрудников, так и для создателя «Конституции» Н. М. Муравьева. Этот путь предусматривал преобразование государства на федеративных началах. Другой путь, предложенный Пестелем, был путь унификации и централизации, создания унитарного государства.
Примечательной особенностью декабристских программ было сохранение неприкосновенности помещичьего землевладения. По Муравьеву, «земли помещиков остаются за ними». Идеологи декабризма, будучи дальновидными представителями своего сословия, готовы были расстаться с большинством дворянских привилегий, но твердо отстаивали помещичью земельную собственность. Рассуждая о всеобщем равенстве, декабристы имели в виду политические и гражданские права и никогда не подвергали сомнению неизбежность социального неравенства. Пестель подчеркивал: «Богатые всегда будут существовать, и это очень хорошо». Правда, он считал, что недопустимо присоединять к богатству особые политические права. Резкую неприязнь вызывала у него императорская фамилия: «Народ российский не есть принадлежность или собственность какого-либо лица или семейства. Напротив того, правительство есть принадлежность народа, и оно учреждено для блага народного, а не народ существует для блага правительства».
Решая аграрный вопрос, Пестель настаивал на передаче государству земельных владений императорской фамилии и предполагал возможность частичной конфискации земли у крупных землевладельцев, каких в России было немного. Эта земля, наряду с казенной и монастырской, должна была составить общественный фонд, откуда каждый мог получить в безвозмездное пользование участок земли. В этом он видел гарантию от обнищания. Остальная земля должна была оставаться в частных руках и служить «доставлению изобилия».
Для Муравьева помещичьи права на землю представлялись незыблемыми. В «Конституции» было записано: «Крепостное состояние и рабство отменяются. Раб, прикоснувшийся земле Русской, становится свободным». О том же писал Пестель: «Рабство кресчъян должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно навеки отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми». И у Пестеля, и у Муравьева крестьяне получали личную свободу, однако первоначальный муравьевский проект предусматривал безземельное освобождение крестьян. Согласившись позднее на предоставление освобожденным крестьянам земли, Муравьев полагал достаточным выделить две десятины на двор, что закладывало основы крестьянской экономической зависимости от помещиков.