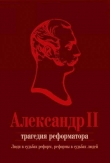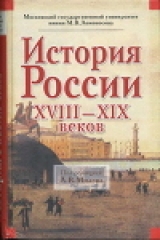
Текст книги "История России XVIII-XIX веков"
Автор книги: Леонид Милов
Соавторы: Николай Цимбаев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 53 страниц)
Венская система, где Россия играла ведущую роль, обеспечивала европейское равновесие и вполне устраивала императора. Как и Александр I, он стремился закрепить добрые отношения с монархами Австрийской империи и Пруссии, видя в этом основу политической стабильности в Европе. Вскоре после воцарения он убеждал австрийского посла: «Вы можете смело уверить его императорское величество, что, как только он испытает нужду в моей помощи, силы мои будут постоянно в его распоряжении, как то было при покойном брате. Император Франц всегда найдет во мне усердного и верного союзника и искреннего друга».
К середине 1820-х гг. мечты Александра I о создании европейской христианской нации были окончательно забыты, но взаимодействие трех континентальных монархов оставалось обязательным условием сохранения легитимного порядка вещей. Священный союз не стал инструментом полной перестройки международных отношений, отошли в прошлое его периодически созываемые конгрессы, но система европейского равновесия продолжала работать. Главная роль в ее поддержании перешла к австрийскому канцлеру Меттерниху. Постоянной заботой российской дипломатии было поддержание ровных отношений с Великобританией: от взаимодействия двух великих держав – сухопутной и морской – зависел мир в Европе. Английская дипломатия подчеркнуто дистанцировалась от политики держав Священного союза, основанной на принципах легитимизма, и Меттерних даже называл ее руководителя Д. Каннинга «носителем идей революции».
Решение греческого вопроса.Вступив на престол, Николай I унаследовал приобретший крайнюю остроту греческий вопрос, при решении которого он надеялся на укрепление русско-английского сотрудничества. Греческие дела он обсуждал с лордом А. Веллингтоном, который задавал тон в британском кабинете. Переговоры велись в Петербурге весной 1826 г. и завершились подписанием протокола, согласно которому Греция должна была получить автономию, а ее граждане – право на свободную торговлю, гарантии собственности и безопасности. Россия соглашалась на английское посредничество в греко-турецких переговорах. Для императора переговоры с победителем при Ватерлоо были успешным дипломатическим дебютом: он добился признания того, что при определенных условиях возможно не только совместное вооруженное выступление двух держав в поддержку греческой свободы, но и единоличное вмешательство России во внутренние дела Османской империи. Тем самым заложены были основы российской политики «свободы рук» на Балканах. Оценивая петербургские переговоры, Каннинг должен был признать, что Веллингтон позволил царю одурачить себя.
В июле 1827 г. Россия, Англия и Франция заключили Лондонскую конвенцию, где подтвердили принцип греческой автономии и заявили о возможности открытия военных действий, если Турция отвергнет их условия. К берегам Греции была послана союзная эскадра, которая разгромила флот Османской империи в битве при Наварине в октябре 1827 г. В ответ Порта закрыла проливы для русских торговых судов, что стало прологом русско-турецкой войны.
В европейских делах следствием Наваринской победы стал распад союза России с Англией и Францией. Фактически в одиночестве Россия добилась сначала широкой автономии для Греции, что закреплено было в Адрианопольском мирном договоре, а в 1830 г. поддержала провозглашение греками полной независимости. Для Николая I трудность греческого вопроса заключалась в том, что, поддерживая борьбу христианского народа за независимость и против османского гнета, он, с одной стороны, опирался на фундаментальные начала Священного союза, с другой – нарушал принципы легитимизма, против чего обычно он резко протестовал.
Революционные потрясения 1830–1831 гг.В 1830 г. пал режим Реставрации во Франции. Июльская революция свергла династию Бурбонов и привела к власти короля Луи-Филиппа. Николай I счел восшествие на престол представителя Орлеанской ветви королевского дома узурпацией, продолжением «французского безумия», которое началось 14 июля 1789 г. Его брат великий князь Константин Павлович прямо заявил: «Мы отброшены на сорок один год назад».
Для Николая I Луи-Филипп навсегда остался «королем баррикад». Первоначально царь думал о военной интервенции и в беседе с французским послом заявил: «Никогда, никогда не смогу я признать того, что случилось во Франции». В Вену и в Берлин были посланы А. Ф. Орлов и И. И. Дибич для ведения переговоров о совместном военном выступлении. Однако их миссия не привела к успеху. Нового французского короля поддержали великие европейские державы, и Николай I отказался от мысли об интервенции. Россия признала Луи-Филиппа главой французского государства, однако статус российского представительства в Париже был понижен, Николай I не удостоил короля обращением «брат», и тем самым русско-французские отношения были надолго испорчены.
Вслед за революцией в Париже началось народное выступление в Брюсселе, которое привело к созданию временного правительства и провозглашению независимости Бельгии от Нидерландского королевства. Для Николая I бельгийская революция была личным оскорблением, поскольку его сестра была замужем за наследником голландского престола. Он вновь обратился к мысли «положить военной силою предел революции, всем угрожающей». По его убеждению, явное нарушение принципов легитимизма требовало совместного выступления европейских держав, он активно, хотя и безуспешно, склонял к этому Пруссию и Англию. Царь говорил: «Ни Бельгию желаю я там побороть, но всеобщую революцию, которая постепенно и скорее, чем думают, угрожает нам самим». Войска на западных границах империи были приведены в состояние боевой готовности, великий князь Константин Павлович начал мобилизацию находившейся под его командованием польской армии.
Осенью 1830 г. началось восстание в Царстве Польском, следствием чего стал более умеренный подход Николая I к европейским делам – сил на вооруженную интервенцию против революционной Европы у него не было. Он лишь оказал дипломатическую поддержку Австрии, когда начались волнения в подвластных ей итальянских землях. Независимость Бельгии получила международное признание, а Россию передовая европейская общественность стала воспринимать как «жандарма Европы», что было справедливо не столько в отношении действий, сколько в отношении намерений российского императора.
Определенную роль в смягчении интервенционистской позиции императора сыграл И. Ф. Паскевич, который стал наместником в Польше. Под началом Паскевича царь служил в военной службе, звал того «отцом-командиром» и прислушивался к его политическим советам. Паскевич справедливо полагал, что спокойствие на западных границах Российской империи стоит неизмеримо выше, чем поддержание начал легитимизма.
Кризис Венской системы.После революционных потрясений 1830–1831 гг. Священный союз как целостная система утратил свое значение. Тем большую важность приобрели союзнические отношения России с Пруссией и Австрией. Российская дипломатия стремилась к созданию отлаженной системы взаимной помощи, основанной на согласии между тремя «северными монархами». В 1833 г. этими странами были подписаны Берлинские статьи, по которым они обязывались совместно действовать в бельгийских делах и защищать права Нидерландов. В том же году между Россией и Австрией была подписана так называемая вторая Мюнхенгрецкая конвенция о взаимной гарантии неприкосновенности польских владений двух империй. Конвенция содержала положения о военной помощи в случае нового восстания поляков. Оценивая итоги переговоров в Мюн-хенгреце, А. X. Бенкендорф говорил: «Кабинеты Венский и Петербургский совершенно соединились в своей охранительной политике».
Вслед за этим в Берлине три великие монархические державы заключили тайное соглашение, где обязались поддерживать друг друга в борьбе с внутренними врагами и внешней опасностью. Этот договор воспроизводил знаменитый принцип Священного союза – право на интервенцию. Правда, провозглашенный принцип взаимопомощи трех монархов не распространялся на «дела Востока».
Соглашения 1833 г. служили укреплению Венской системы европейского равновесия. Объективно они были выгодны прежде всего Австрии, которую современники называли «тюрьмой народов» и власти которой были обеспокоены проблемой целостности империи. Верный принципам легитимизма, Николай I исключал возможность использовать слабость западного соседа России для поддержки освободительных движений славянских народов, к чему призывали чешские и хорватские идеологи панславизма. В русском обществе панславистские воззрения, идеи славянской солидарности разделяли немногие. К ним прежде всего можно было отнести представителя радикальной мысли М. А. Бакунина и умеренного консерватора М. П. Погодина. Их влияние было невелико, и правительство могло не обращать на них внимания. Проавстрийская ориентация российской внешней политики к началу 1840-х гг. стала столь заметна, что в русском обществе, где гласное обсуждение международных вопросов не допускалось, стали объяснять чин вице-канцлера Нессельроде тем, что он состоит при канцлере Меттернихе. В действительности Нессельроде послушно выполнял волю императора и даже сожалел об ухудшении отношений с Англией, что объяснялось разногласиями по Восточному вопросу.
Для России союзные отношения с Австрией и Пруссией, в основе которых лежали не национально-государственные интересы, а идейные пристрастия императора, означали постепенное умаление ее роли в европейских международных делах. Николай I не доверял союзникам, обвинял их в слабости и даже заявлял: «Прежде нас было трое, а теперь осталось только полтора, потому что Пруссию я не считаю совсем, а Австрию не считаю более чем за половину». Это было сказано в 1846 г. после того, как австрийские власти с трудом подавили восстание поляков в Кракове.
Николаевская идеократия как оплот европейской реакции. Венская система окончательно рухнула в 1848 г., который стал годом европейских революций. В феврале пал режим Луи-Филиппа, во Франции установилась республика. Начались революционные волнения в германских государствах, в Пруссии, в итальянских землях и в Дунайских княжествах. Восстание рабочих и студентов в Вене покончило с министерством Меттер-ниха, который воспринимался как символ Венской системы. Одним из руководителей восстания в Дрездене был русский эмигрант Бакунин. Окончательно европейское равновесие было нарушено венгерской революцией, в ходе которой была провозглашена независимость Венгрии от Габсбургской империи. Европа переживала «весну народов», когда идеи национального освобождения соединялись с борьбой против абсолютизма и с выступлениями под лозунгами социального равенства и справедливости.
Европа старого порядка все свои надежды связывала с Николаем I. Первой реакцией Николая I при получении известий о февральской революции было обращение к гвардейским офицерам: «Седлайте коней, господа, во Франции провозглашена республика». Именно в 1848 г. царизм стал олицетворением европейской реакции, предметом ненависти передовой общественности, которая воспринимала Россию как оплот реакции и контрреволюции. Однако легитимное право на интервенцию было нелегко осуществить. У самодержавия не было ни одного надежного союзника в Европе; в самой Российской империи, особенно в Польше, было неспокойно.
По мере приближения революционных потрясений к границам России Николай I все большее внимание уделял превентивным мерам. По соглашению с турецким правительством он в июне 1848 г. ввел войска в Молдавию, а два месяца спустя подавил революцию в Валахии. В Петербурге был разгромлен кружок Петрашевского, на Украине – Кирилло-Мефодиевское общество. III Отделение арестовало и допросило славянофилов Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова, которых подозревали в панславистских замыслах.
Ослабление революционного натиска, которое следовало за утверждением нового буржуазного правопорядка, способствовало активизации внешней политики Николая I. Весной 1849 г. по просьбе австрийского императора Франца-Иосифа он принял решение реализовать право на интервенцию в отношении Венгерской Республики. Царь полагал, что он не только сокрушит мятежников и покончит с революционной опасностью у границ России, но и заслужит благодарность австрийских властей, что должно было, по его мнению, укрепить первенство России в Европе.
Венгерский поход был грубым политическим просчетом Николая I. Вступив на территорию Венгрии, армия под командованием Паскевича в короткое время вынудила республиканские войска сдаться. Австрийская империя была спасена от распада, но вместо благодарности ее правящие круги стали проводить антироссийскую политику, что в годы Крымской войны Николай I интерпретировал как «австрийскую измену». Венгерская кампания вызвала недовольство солдат и офицеров, особенно возмущенных поведением австрийских союзников. Один из участников похода вспоминал: «Почти каждый из нас, русских солдат и офицеров, чувствовал в то время себя участником общего несчастья венгерцев. Всем нам было грустно, тяжело». Передовая общественность восприняла победу реакции болезненно. И. С. Аксаков писал: «Гнусно и грустно. Всякая честная мысль клеймится названием якобинства, и торжество старого порядка вещей в Европе дает торжествовать и нашему гнилому обществу».
События 1848–1849 гг. покончили с Венской системой и создали новую расстановку сил. Паскевич предостерегал царя: «Направление умов в Европе отделило Россию от прочих государств. Россия остается одна постоянной в идеях монархических, в идеях порядка». Твердое противостояние Николая I революционным и освободительным процессам не могло остановить ход европейского политического и социального развития. Его следствием стала изоляция николаевской России, которая с очевидностью выявилась в канун и в ходе Крымской войны. Итоги европейской внешней политики Николая I были плачевны: от былой гегемонии России в Европе не осталось и следа.
§ 2. ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС. РОССИЯ НА КАВКАЗЕ
Проблема черноморских проливов.Опираясь на Петербургский протокол 1826 г., российская дипломатия вынудила османские власти подписать в октябре того же года Аккерман-скую конвенцию, согласно которой все государства получали право свободного прохода торговых кораблей через Босфор и Дарданеллы, что было исключительно важно для экономического развития Новороссии. Кроме того, Турция обязалась соблюдать установленные прежде привилегии Дунайских княжеств и не вмешиваться во внутренние дела Сербии. Однако греческий вопрос не был решен.
Николай I и его окружение не имели ясной программы ни в отношении Османской империи, ни в Восточном вопросе. Для экономики Юга России большую важность имел благоприятный режим проливов Босфор и Дарданеллы. В эти годы многократно увеличился вывоз товаров, прежде всего зерна, за границу из Одессы, Николаева, Херсона и Таганрога. Экономические интересы дворянства черноземных и новороссийских губерний диктовали необходимость контроля над морскими коммуникациями, но у правительства отсутствовало представление о путях достижения этой цели. Обретенная «свобода рук» на Балканах и в отношении Османской империи в целом, где Россия традиционно покровительствовала христианским народам, входила в противоречие с верностью принципам легитимизма и с неприятием панславистской агитации.
Русско-турецкая война 1828–1829 гг.Закрытие Турцией черноморских проливов для русских торговых судов побудило Николая Iк активным действиям. Русско-турецкая война, которая началась весной 1828 г., была прежде всего вызвана противоречиями в греческих делах. Однако царь не мог не обращать внимания на доклады Бенкендорфа, что землевладельцы жалуются на трудности «сбыта продуктов земледелия», а «застой торговли в Одессе лишает соседние губернии всяких доходов». Николай Iпризнавал, что дело заключается не только «в умиротворении Греции», но и в том, что, не имея возможности свободно сбывать свою продукцию через черноморские портовые города, помещики потеряли на этом уже несколько миллионов рублей.
Вступая в войну, царь с осторожностью думал о ее последствиях. В день обнародования манифеста о начале войны Нессельроде разослал в европейские столицы декларацию, где подчеркивалось, что Россия «с прискорбием» прибегает к войне и «не умышляет разрушения» Османской империи. Декларация не успокоила недавних союзников, и Веллингтон заявил, что «отныне не может быть речи об общих действиях Англии и Франции с Россиею».
Основные военные действия шли на территории Европейской Турции. Русская армия испытывала недостаток в продовольствии и обмундировании, страдала от эпидемических заболеваний. Форсировав Дунай, войска под командованием П. X. Витгенштейна осадили крепости Шумла и Силистрия, осенью 1828 г. была взята Варна. Летом следующего года русская армия перешла Балканы и в августе заняла Адрианополь. Путь на Константинополь был открыт, но войска были остановлены, и начались переговоры о мире. Вопрос о занятии Константинополя обсуждался на заседании Секретного комитета под председательством Кочубея, который пришел к выводу, что «выгоды сохранения Оттоманской империи в Европе превышают ее невыгоды». К этому времени на Кавказском театре военных действий русская армия под командованием Паскевича, опираясь на поддержку местного христианского населения, взяла мощные крепости Каре, Баязет и Эрзерум, заняла портовые города Анапу и Поти. Турки повсюду терпели поражение.
Адрианопольский мирный договор был подписан в сентябре 1829 г. Россия получала дельту Дуная, за ней закреплялось Черноморское побережье Кавказа от Анапы до Поти. Османская империя признавала присоединение Грузии и Восточной Армении к России, что служило основой для решения пограничных вопросов. Договор провозглашал свободу торговой навигации в проливах, подтверждал автономию Сербии и Дунайских княжеств, давал автономию Греции. Он закреплял политическое присутствие России на Балканах и одновременно служил основой стабилизации отношений с Портой. По Адрианополь-скому миру Турции были возвращены Каре, Баязет, Эрзерум и часть Ахалцихского пашалыка. Стабилизировалась граница между двумя странами, что дало возможность русскому правительству приступить к планомерной организации внутреннего управления Закавказья. Однако оставалось неурегулированным международно-правовое положение горных районов Северо-Западного Кавказа, которые по Адрианопольскому договору переходили к России, что оспаривалось Великобританией, находившей поддержку в Константинополе. Сложным было положение в горном Дагестане и Чечне. Все это превращало Северный Кавказ в объект постоянных разногласий между Россией и Османской империей.
Россия и Персия.Исход русско-турецкой войны окончательно определил западную часть границы Российской империи в Закавказье. Ее восточная часть стабилизировалась после войны, которую летом 1826 г. Персия объявила России. Власти Персии находились под сильным влиянием британских агентов, которые целенаправленно стремились к ослаблению российского влияния в Закавказье. Характеризуя их деятельность, А. П. Ермолов писал: «Англичан прикрепляют к персиянам деньги, кои они большими суммами расточают между корыстолюбивыми министрами и вельможами, а сии, во зло употребляя слабость шаха, наклоняют его в их пользу».
Наследник персидского престола Аббас-мирза возглавил армию, которая перешла Араке, захватила Елизаветполь и угрожала Тифлису Главнокомандующий русскими войсками Ермолов переоценил мощь персов и проявил нерешительность. С воцарением Николая I прочность его позиций на Кавказе оказалась под сомнением. Известна была взаимная нелюбовь нового императора и кавказского повелителя, который, кроме того, оставался под подозрением в причастности к движению декабристов. Повелением царя он был смещен, и на его пост назначен Паскевич, который перешел к наступательным действиям. Он разбил во много раз превосходящую персидскую армию под Елизаветполем, перенес военные действия на территории, которые находились под контролем Персии.
В 1827 г. русские войска взяли Эривань и Тавриз, после чего начались мирные переговоры. В феврале 1828 г. был подписан Туркманчайский мирный договор, по которому к России отходили Эриванское и Нахичеванское ханства, определялась русско-персидская граница по Араксу и подтверждалось исключительное право России иметь военный флот на Каспийском море. Выдающуюся роль в выработке условий Туркман-чайского трактата сыграл А. С. Грибоедов, вскоре затем назначенный министром-посланником в Персию. В январе 1829 г. толпы мусульманских фанатиков разгромили российское посольство в Тегеране, погибли Грибоедов и сотрудники посольства.
Туркманчайский мир, за который была заплачена столь высокая цена, способствовал освобождению армянского народа, юридически закрепил за Российской империей стратегически важные территории Закавказья, а в исторической перспективе способствовал стабилизации отношений с Персией. После его заключения и подписания Адрианопольского трактата началось административное переустройство грузинских, армянских и азербайджанских земель, которое продолжалось несколько десятилетий.
Имперская политика социальной ассимиляции.Это переустройство шло в рамках обычной имперской политики, когда ограничение прав отдельных властителей сочеталось с социальной ассимиляцией верхних слоев закавказских народов. Повсеместно правительство подтверждало права знати на владение землей и крестьянами, привилегии духовенства, включая мусульманское, сохранение местных обычаев и правовых норм. Суть имперской политики хорошо сформулировал кавказский наместник М. С. Воронцов: «Не только не посягать на права высшего сословия, но всеми мерами стараться об ограждении и укреплении оного». При Воронцове процедура признания княжеского и дворянского достоинства в Грузии была облегчена настолько, что в этих званиях было утверждено около 30 тыс. человек. По его инициативе и вопреки первоначальному намерению Николая I в 1846 г. все земли, находившиеся в распоряжении азербайджанской знати к моменту присоединения ханств к России, были признаны ее безусловным и наследственным владением.
Успех политики социальной ассимиляции в Закавказье был очевиден. Армянская, грузинская и азербайджанская знать вошла в состав российского дворянства, сделалась незаменимой частью правительственной системы и без долгих колебаний отдала свои знания, опыт и авторитет укреплению российской государственности. К середине XIX в. в административно-территориальном отношении Закавказье, будучи разделено на губернии, немногим отличалось от Центральной России. Уже при Александре II была ликвидирована автономия Сванетии, Мег-релии и Абхазии.
На Северном Кавказе имперская политика социальной ассимиляции долгое время не приносила успеха главным образом потому, что в «вольных обществах» имущественная дифференциация была невелика и не выработалось четкого иерархического представления о знатности. Ситуация стала меняться по мере распространения мюридизма. Первые проповедники мюридизма объявляли себя шейхами и пророками, их проповедь не выходила за пределы нескольких аулов, и российские власти не воспринимали ее серьезно. Но уже в 1828 г. Мухаммед Ярагский провозгласил своего последователя Гази-Магомеда имамом, чья духовная и светская власть должна была распространяться на Дагестан и Чечню. Первый имам начал активные военные действия против неверных, напав на крепость Внезапная. России и ее многочисленным сторонникам среди горских народов был объявлен газават, что можно расценивать как призыв к широкомасштабной кавказской войне.
Мюридизм на Северном Кавказе.Ответом Паскевича стало обращение к населению Дагестана, где Гази-Магомед обвинялся в возмущении спокойствия. Имаму объявлялась война, в которой кавказские генералы рассчитывали на скорый успех. Паскевич отказался от ермоловского плана покорения Кавказа и считал достаточным проведение отдельных военных экспедиций и строительство опорных пунктов. Войска Паскевича блокировали Гимры, один из центров мюридизма. После набега Гази-Магомеда на Кизляр, который был жестоко разграблен, Гимры в 1832 г. были взяты штурмом, имам погиб в сражении. К этому времени Паскевича уже не было на Кавказе, а действия его преемников не отличались ни военной предприимчивостью, ни стратегической дальновидностью. Кавказский корпус пополнялся медленно, его численности не хватало для контроля над большими горными территориями. Набеговая система, которую практиковали горцы, не встречала серьезного сопротивления, приводила к деморализации населения, жившего на равнине. Успешные набеги создавали преувеличенное представление о военных силах последователей мюридизма.
Второй имам Гамзат-Бек предпринял поход против Аварского ханства, земли которого он рассчитывал включить в состав своего государственного образования. Он предательски расправился с семьей аварских ханов и, в свою очередь, был убит. В 1834 г. третьим имамом стал Шамиль, чье долгое правление привело к созданию в горной части Чечни и в северных районах Дагестана имамата – теократического государства, где вся верховная власть, светская и духовная, была сосредоточена в руках имама. Шамиль был удачливый военный, умелый администратор, он пользовался огромным авторитетом как истинный правоверный. Он разделил имамат на округа, которыми управляли наибы. Его резиденцией был аул Ахульго. Основной силой Шамиля были мюриды, на чью верность и храбрость он полагался. Их число не превышало трех-четырех сотен. Но всего под свои знамена Шамиль мог собрать до 20–30 тыс. человек. Он получал поддержку деньгами и оружием от Османской империи, власти которой заверял в верности султану. Ему покровительствовал лондонский кабинет, и на английских судах нередко доставлялось оружие.
Внутренняя жизнь имамата определялась законами шариата и распоряжениями имама. Шамиль искоренял адат, беспощадно карал ослушников, широко использовал заложничество и постепенно разрушалстарые «вольные общества» и традиционную горскую систему ценностей. Его наибы и мюриды обогащались за счет военных набегов и благодаря поборам, тяжесть которых ложилась на простой народ. Придворный историограф Шамиля признавал: «Наибы его оказались наибами порока. Подлинно были они бедствием для народа. Имам называл их верными управителями и поэтому делал вид, что не слышит жалоб тех, кому были причинены обиды».
Ведя газават, Шамиль до времени сдерживал недовольство своих подданных, переключая его на неверных. Но в конечном итоге ни его личная популярность, ни его безмерная жестокость не могли предотвратить процесс внутреннего разложения имамата, основным фактором которого стало социально-имущественное расслоение.
Николай I придавал большое значение делам на Северном Кавказе. Поздравляя Паскевича с завершением русско-турецкой войны, он писал: «Кончив, таким образом, одно славное дело, предстоит вам другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее – усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных».
Военные действия на Северном Кавказе не были активными и шли с переменным успехом. Не последнюю роль в этом играли постоянные перемещения в командовании Кавказского корпуса, некомпетентное вмешательство чинов Военного министерства и то обстоятельство, что для части старших офицеров война была средством материального обогащения. Отдельные командиры действовали самостоятельно, стремясь к частным победам и военным отличиям. В 1834 г. отряд генерала Ф. К. Клю-ге-фон-Клюгенау предпринял наступление против Шамиля и вытеснил того из Аварии в Северный Дагестан. Командование решило, что движение горцев в основном подавлено.
Ункяр-Искелесийский договор.Окончательное утверждение на Северном Кавказе Николай I связывал с успехами в Восточном вопросе, долгосрочную политику в котором определили военные и дипломатические победы России. После 1829 г. петербургский кабинет поверил в слабость Османской империи и стал рассматривать ее как удобного соседа, чье существование не вредит интересам России. Демонстрируя добрые намерения, правительство досрочновывело войска из Дунайских княжеств, сократило размеры турецкой контрибуции. Вскоре появилась новая возможность показать изменившееся отношение к Порте, целостность которой поставил под сомнение мятеж египетского паши. Египетские войска в 1832 г. разгромили султанскую армию, что заставило турецкие власти просить европейские кабинеты о помощи. Великие державы выступали за сохранение Османской империи, но только Россия оказала ей прямую действенную помощь. На восточном берегу Босфора был высажен тридцатитысячный русский десант, а генерал Н. Н. Муравьев был послан в Александрию, чтобы вручить ультиматум египетскому паше. Николай I наставлял Муравьева: «Помни же как можно более вселять турецкому султану доверенности, а египетскому паше страху». Демонстрация силы принесла успех, и движение египетских войск на Константинополь было остановлено.
Со специальной миссией в турецкую столицу был послан А. Ф. Орлов, который в июне 1833 г. подписал в местечке Ун-кяр-Искелеси союзный договор о российской военной помощи султану в случае нового конфликта с египетским пашой. Россия выступала гарантом целостности Османской империи. Взамен она получала выгодный режим черноморских проливов, султан обязался закрыть Дарданеллы для военных кораблей европейских держав. Для флота России проливы оставались открыты. Закрытие Дарданелл обеспечивало безопасность Черноморского побережья России, а провозглашенный принцип совместной обороны проливов позволял контролировать их в случае военных действий. Это была блестящая победа российской дипломатии, немалый вклад в которую внес лично Николай I. Он проявил уместную твердость, отвергнув попытки Англии, Франции и Австрии пересмотреть Ункяр-Искелесийский договор.
Соотношение сил на Востоке изменилось. В 1833 г. была подписана секретная Мюнхенгрецкая конвенция (первая), по которой Россия и Австрия обязались поддерживать неприкосновенность Османской империи и действовать совместно в случае возникающих угроз на Востоке. Это соглашение давало возможность использовать противоречия между великими державами, противопоставляя Австрию ее недавним партнерам. Одновременно оно показало, что России трудно обходиться без союзников. Нессельроде был доволен тем, что в случае обострения Восточного вопроса «мы будем видеть Австрию с нами, а не против нас».
Главным противником России в Восточном вопросе была Англия, чьи экономические позиции на Ближнем Востоке постоянно укреплялись. В 1839 г. новый турецко-египетский конфликт вовлек все великие державы в дела Османской империи. Англия и Австрия поддержали султана, Франция – египетского пашу. Локальный конфликт превратился благодаря участию в нем великих держав в европейский кризис, который лишил Россию «свободы рук». Понимая, что режим проливов больше не зависит от двусторонних русско-турецких соглашений, Николай I встал на сторону султана, тем самым примкнув к лондонскому и венскому кабинетам. Это был противоречивый союз, продиктованный как данным ранее обещанием сохранить целостность Османской империи, так и идеологическим неприятием «короля баррикад» и его политики.