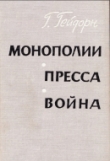Текст книги "Иван-да-марья"
Автор книги: Леонид Зуров
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
– Отец-то приедет?
– В служебной командировке отец, живет холостяком, все время занят, заведует рудниками. Написал: верю тебе, благословляю, но вырваться не смогу, твоему сердцу и выбору верю – она ему карточку жениха прислала. Вырвусь только через три недели и приеду к вам прямо в Москву. Вот письмо какое прислал.
Ириша сияла, и счастливое волнение в нашем доме уже не прекращалось.
– Ну, а теперь отправимся в город, – сказал брат, – и они взяли с собой меня и Зою.
В тот воскресный день мы были в Ботаническом саду. Брат показывал Кире кадетский корпус с двумя пирамидальными тополями и большой гимнастический плац, угощал нас мороженым, а потом ушел на гауптвахту, где была у него назначена встреча с офицером Красноярского полка, а мы, оставшись втроем, пошли на Соборную горку, где в этот день никого не было, кроме мальчишек, что бросали в реку камни. Зоя убежала к дочери священника, и я остался с Кирой первый раз наедине.
Она была в малороссийском расшитом костюме, с кораллами, и мы стояли у скамьи на Соборной горке.
– Тогда надо и ленты, – сказал печально я, – и монисты. Помнишь, на второе утро после приезда ты, Кира, рассказывала.
– В городе нельзя, – вот если венчаться в сельской церкви, у нас…
Она сняла нити кораллов и передала их мне.
– Знаешь, как их у нас называют? – спросила она.
– Нет.
– Корольками.
В этот день она мне показалась бледной. Без брата и Зои она притихла, лицо стало тоньше, а глаза большие, и я на нее наглядеться не мог. Стало как-то тихо, я тоже замолчал и вдруг увидел, что ее глаза полны слез.
Она сидела на скамье, как бы прислушиваясь, но не к тому, что вокруг, а к чему-то в себе. Что-то сжало мое сердце, и я вопросительно посмотрел на нее:
– Кирочка, что с тобой?
– Что, Феденька?
– А слезы-то почему?
– А слезы, – сказала она, – от счастья.
И, я помню, она улыбнулась мне сквозь слезы.
Я не знал, что делать, сердце мое растопилось от страдания и нежности. И я не мог больше ничего сказать, очевидно, такое у меня было тогда лицо, что она, чтобы меня утешить, положила руку на мою руку, и я почувствовал, до чего легка и прохладна ее трепетная рука.
Брат вернулся раньше Зои, когда Кира уже утерла слезы и застегнула ожерелье, и если бы вы видели, как ее лицо, дрогнув, радостно осветилось. Все складывалось легко, благоприятно, и брат первый раз при мне поцеловал ее руку и сказал, что шаферами пригласил двух знакомых офицеров Красноярского полка, которых он и раньше знал. Тут прибежала сестра, и они решили, что свадьба должна быть скромная: из полковых друзей никто не может приехать, будут только оставшиеся в городе жены офицеров.
С того дня все в доме окончательно изменилось – у нас зажил женский таинственный мир обсуждений, разговоров и совещаний, в котором уже не было места для меня.
– Федя-то как неприкаянный, – сказала брату мама, – ты бы, Ваня, позанимался с ним. Фединька, ты обещал ведь учителю геометрии, дал слово позаниматься, а к книжке даже и не притронулся.
– Хорошо, – сказал брат, у него теперь оказалось много свободного времени, и, пока Кира с мамой и сестрой совещались и шли примерки, брат основательно взялся за меня, так, как он это умел делать.
– Ах, как хорошо, – говорила сестра, заглядывая в беседку, – наконец-то успокоился.
– Не мешай, пожалуйста.
– А, по-настоящему взялись за тебя, – смеясь, говорила она и, убегая, кричала, – давно бы пора.
Мы и купаться ходили с учебником. Он отлично плавал и учил не делать лишних движений, втягиваться, правильно дышать и плыть свободно, чувствовать себя в воде, ложиться головою на воду так, чтобы все видеть, и вода тогда не попадает в ухо.
– Виною твоя непоседливость, – говорил он, – надо приучать себя сосредоточивать во время работы свою волю и ум на одном, никогда не надо разбрасываться.
У брата были точность и ясный ум, и я даже удивлялся – до чего действительно все просто, что же здесь было непонятного?
Прибежала Кира:
– Ну, отпусти его, – на сегодня довольно.
– Хорошо.
Мы вышли из беседки, и я сказал Кире и брату, – ни одной прямой, Кира, посмотрите, она соглашалась, что в мире нет ни одной прямой линии, – ну вот, Ваня, посмотри, и твоя рука, и листья, и травы, и облака, и река. Все это выдумано, потому что нигде прямых линий нет.
Брат курил, слушал и говорил:
– Но без точных расчетов и геометрии ничего не построишь. А если от звезды к звезде линии провести, посмотри, какие прямые получатся.
– Но это человеческое. А там, на небе?
– Там свои, не открытые еще нами великие законы, где, вероятно, человеческой геометрии нет, потому что она и родилась из вычислений, сделанных с земли, когда человек смотрел и звезды мерцали, но и тогда ему казалось, что звезды рисуют в небе очертания птиц, зверей, морских океанских рыб. Ты живешь воображением, – говорил брат, – надо быть ближе к жизни, а то она потом жестоко накажет тебя.
«Ах, и зачем все это произошло, – с замиранием думал я, – мы бы все жили в дружбе, лучше бы Кира осталась такой, как была».
Раз донесся до меня разговор Иришки с мамой:
– А как же, барыня, страшно, сердце-то перед венцом не раз ужаснется, об этом и в деревенских свадебных песнях поют. Кирочка полусирота, это ведь нелегко, детство без матери, как поглядишь на нее – есть почти перестала, как она волнуется, бедная.
В день свадьбы стояла неподвижная жара. Как полагалось по старинным обычаям, Кира в это утро брата не видела, – он, одетый, вышел из дома и отправился в церковь, где его ожидали офицеры, а она отдала себя женщинам и, по словам Ириши, в это утро была как бы не своя и уже себе не принадлежала – ее причесывали, одевали, а она, покорно все принимая, благодарила глазами. В доме были шаферицы. Зоя волновалась, так как она первая подруга и ей пришлось одевать невесту.
Кира плохо спала, была очень бледна, ее причесали и одели в приготовленное платье, прикололи фату с флердоранжем, меня позвали, когда она молилась перед образами. Мама ее перекрестила.
– А почему же у вас нет гимназического мундира? – слышал я иронические слова шаферицы.
– Рукава стали коротки, за весну и лето он ужасно вырос, – ответила Зоя.
Я не отвечал. Я был в это утро в хорошо выглаженной рубашке серебристого, очень чистого льна. Киру я не видел с вечера, и сердце мое дрогнуло, когда она показалась в солнце на крыльце дома, на том самом крыльце, где мы так любили сидеть по вечерам, в белом платье с прозрачной на солнце фатой. Мое мальчишеское сердце облилось внезапным холодком, а на дворе было жарко и даже душно. Ее окружали шаферицы в белом и вел под руку со старосветским достоинством Андрей Иванович, посаженный отец, тяжеловатый, торжественный, в английского тонкого сукна костюме.
Я подхватил легчайшую фату, как паж, и мы, оставив маму и Иришу дома, медленным шагом отправились пешком к церкви – так было решено заранее, что не надо свадебных карет, это лишнее на нашей улице. На нашей простонародной русской улице странным и принесенным с Запада казался и католический, принятый когда-то у нас вместо своего подвенечный наряд. В этой шелковой белизне и фате было что-то западное и очень печальное, даже страшное в своей безнадежности.
Церковь была не так далеко, древняя, за века ушедшая в землю, она была так же бела, чиста и проста и связана с землею, как старые березы, что росли у каменной церковной ограды. Вокруг нее зеленела поросшая короткой травой простота упраздненного с екатерининских времен кладбища, с могилами, покрытыми той чистой, радостно зеленеющей дерновиной, какой нет ни в одном петербургском парке.
Тут обитала простота, но, хотя и должно было быть, как брат говорил, просто, без лишних людей, – у церкви уже были знакомые барышни и с нашей улицы мещанки, и, когда Зазулин под руку вел в церковь невесту, я слышал, как одна из хорошо одетых барышень сказала:
– Я думала, что она лучше.
А другая ответила:
– Незаурядное все же лицо.
Мне как будто передалось ее волнение в то время, как она поднялась по ступенькам и вошла в притвор – такая бледная, что я за нее боялся. Мне потом говорили, что и я был очень бледен, а у меня как-то сердце захватило, я готов был ее от всех защищать – о, как я хотел, чтобы на свадьбе были только свои.
«Зачем они пришли, зачем», – говорил себе я, и мне казалось, что сердце у нее замирает, и, обычно беззаботная и смелая, Кира беззащитна теперь, открыта для чужих любопытных глаз, среди которых были и завистливые, и острые, и потускневшие.
Душно было, как перед грозой, знойно, и пахло лесным пожаром. В прохладном притворе стояли босые нищие и солдат, принявший снятую братом при входе в церковь шашку. Туда, мимо старых босых нищенок, прошла под руку с Зазулиным Кира в белом, сразу осветившем притвор платье, а в церкви священник с крестом ее ждал и, взяв за руку, подвел к брату. Помню, как во сне, шафериц и как священник, держа в руке крест, свободной рукой соединил их руки.
Назнаменовав главы новоневестных трижды, дал им принесенные служителем зажженные свечи и провел их внутрь храма, а и в церкви уже был народ – дружки стояли по левую сторону, а приглашенные по правую, и как они только двинулись, хор запел и начался обряд обручения, который я, признаться, никогда до того не видел, потому что у меня было много мальчишеских забот, да и я бегал от празднеств всегда, торопясь дома поскорее из воскресного во все старое переодеться.
Как мы ни старались справить свадьбу скромно и незаметно, слух по городу прошел, и в церкви было много народу – не только барышни и девчонки, но и несколько полковых дам и принарядившиеся даже из незнакомых, забежавшие в церковь простые девушки, были и пожилые простонародные женщины. Мы же, с шаферицами, офицерами и Толей, стояли позади, и сердце мое взволнованно билось.
Брат, коротко подстриженный, загорелый, с очень светлыми глазами и отцовской родинкой на щеке, был в мундире с черным лацканом на груди и красными кантами по цвету полка. На шее у него была та золотая горжетка, – как Зоя обычно ее называла, а для меня – золотая лунница, – с накладным выпуклым золотым двуглавым орлом, полученная полком за боевые отличия.
Из алтаря дьякон принес кольца на серебряном блюде, что до того были положены на престол, златое и серебряное, близ друг друга, – и вот печаль большая, я не знаю, отчего, меня обняла, вот они стоят – брат одесную, Кира же ошую, и я слышал, как молился священник о рабе Божием Иоанне и рабыне Кире, ныне обручающихся друг другу, – о еже ниспослати им любви совершенно мирной и о том, чтобы сохранитися им в единомыслии и твердой вере и чтобы дарован был им брак честен и ложе нескверное.
Как будто что-то остановилось и замер солнечный день, – а они держали венчальные свечи, священник благословил их, дотронувшись кольцом сначала до лба брата, а следом и Киры.
Потом прошли дальше, в глубину храма, к аналою, поставленному посредине нашей церкви, в которой столько за века народу перевенчали и где мама венчалась и крестили всех нас, – да, священник повел их на середину церкви к аналою, а за ними и мы прошли дальше во храм. Там поставлен был, как бы брошен на пол плат розового атласа, и все смотрели. Она шла медленно, и во мне как бы все замирало, а тут был народ, и, я помню, женщины шептались, что со стороны невесты родственников совсем нет, из ее родни никто не приехал.
– Федя, – в это время мне тихо сказала сестра, – как фату несешь, подбери.
И вот из-за Зои я пропустил главное: кто первый вступил на розовый шелковый плат, а за мной женский голос сказал:
– А нет, смотри, – задержалась.
– Надо бы первой на коврик ступить.
– Умная, – сказал за мной чей-то простонародный женский голос, – позволила ему на коврик ступить, умная.
Я не видел, сознательно ли Кира задержалась, но брат, как я потом об этом узнал, не думая о том, что возбуждало любопытство всех, ступил первым.
– Нервна-то голубушка, как нервна.
– Страшно, милые.
Батюшка поставил ее по левую сторону, в то время как женщины нашептывали и перешептывались.
– А как же, – слышал я. – Молоденькая, как же не страшно.
– Да другой-то теперь бы хуть что.
– Ох, есть какие. До того уже поиграла и все прошла.
– А-ха-ха, Господи.
– Ах, милые мои, я замуж-то шла, вот так под венец, а сердце-то все время как ужасалось.
Да я бы, подумал тогда я, чтобы так стоять на людях и чтобы все видели, да никогда, я бы убежал.
– А и жених-то не из богатеньких.
– Да уж какое там у офицера богатство.
Шаферы стояли за братом и Кирой, началось венчание, церковь была залита летним солнцем, пел хор, и я слушал все в первый раз, разбирая слова, видел все и всех в тумане, слышал слова древних молитв и чувствовал, что с каждым произнесенным священником словом, с каждой молитвой, движением навсегда изменяется все то, что до того было в нашей семье, доме, саду. Я видел через легкое облако ее лицо и очерк щеки, она, как и брат, держала в левой руке свечу с белым шелковым бантом. Я видел и его затылок и щеку, а он стоял, вытянувшись, худощавый, без оружия, в золотых эполетах, и в его прямизне чувствовалось сознание значительности и важности всего, что в храме сейчас происходит. И он слушал славословие, уже связанный обручением навсегда, о трудах плодов Его Господних, и о лозе плодовитой, и о том, что сыновья яко насаждения масличные окрест трапезы Твоея, и узришь благая Иерусалима, хотя ветви берез, а не масличные я видел в открытом окне.
Наш батюшка, обычно ходивший летом в льняном старом подряснике и высоких сапогах, многодетный и простой и всегда смущенный многодетством и попадьей, сказал поучительное слово о том, что супружество есть тайна и как в супружестве честь жительство имеет, и спросил брата:
– Имаши ли произволение благое и непринужденное и крепкую мысль пояти себе в жены сию Киру, юже зде пред тобою видеши?
– Имам, честной отче, – как по-уставному, по-славянски ответил на вопрос священника брат.
– Не обещался ли иной невесте?
– Не обещался.
И тогда Кире батюшка задал вопрос:
– Имаши ли произволение благое и непринужденное и твердую мысль пояти себе в мужа сего Иоанна, егоже пред тобою зде видеши?
И так тихо ответила она:
– Да, батюшка.
– Не обещалася ли еси иному мужу?
И тихий чуть слышный ответ:
– Нет, не обещалася.
Тогда дьякон возгласил:
– Благослови, Владыко, – и служба продолжалась. Молились о ныне сочетающихся, и я, обычно рассеянный, нетерпеливый и невнимательный, быстро в церкви утомляющийся и мечтающий о беготне с ребятами, теперь чувствовал, что в это время их что-то таинственно связывает навсегда.
Солнце прорывалось, окна были открыты, и темный иконостас был виден лучше обычного – как бы родословное древо с золотыми листьями и с темными плодами стал наш иконостас, все роды раскрывались тут, под сводами старой побеленной церкви, как многоветвистое древо человеческой жизни. В то же время я видел босые, в дорожной пыли ноги двух забежавших в церковь и протиснувшихся вперед непричесанных девчонок и неровные, древние плиты пола, а за окном зелень берез, слышны крики играющих под окнами мальчишек. Брат выше ее, а потому шаферам держать венец труднее, над братом держал венец подпоручик, очень высокий и жилистый, а сменивший офицера Толя был красен, и ему держать было венец нелегко. Я и не знал до того, что так трудно держать венец – когда рука уставала, то начинала дрожать, и сестра заволновалась.
– Толю пора сменить.
Рука офицера приняла венец, крепко его захватив, и люди замечали, как офицеры по очереди держали позолоченные старинные венцы, а то, что чувствует и переживает Кира, для людей, слава Богу, было закрыто.
– У тебя волосы на затылке опять отстали, – сказала сестра.
– Знаю я.
– И чашу общую сию подавай сочетающимся, ко общению брака, – и, взяв чашу в руки, священник преподает им трижды. Сначала брату, а потом и Кире.
Я думал, что три раза надо отхлебнуть, но она все допила, не торопясь, медленно, до конца. Как оказалось, ее женщины дома вчера научили – сказали, что все до последней капельки нужно допить.
И, воздев руки, молится священник, а тут уже в церкви пересуды, движение и суета, хор пел, окна были открыты, и священник им сказал:
– Поцелуйтесь.
Я видел, как она, едва коснувшись, первый раз на людях поцеловала брата. Она сияла счастьем, как после тяжелого и трудного испытания, похудевшая, глаза ее светились.
Потушенные свечи положили на аналой, и знакомые их поздравили. В притворе брат задержался, принимая от ефрейтора шашку, тут Зоя оделяла нищих, как просила мама, а я слышал:
– Молодая всегда хороша. Да вот бедра-то узкие.
Брат в притворе остановился и счастливо поглядел на меня, взял Киру под руку, она дожидалась его и была смущена счастьем, а он так заботливо вел ее после венца, по-рыцарски внимательный, и она уже оправилась от смущения, передохнула, и глаза развеселились. Нищенки перешептывались и, не зная меня, вполголоса говорили:
– Да это ты, бедку-то узнавши, на всех косо смотришь.
– Чего там хаять, пара хорошая.
– Что-то больно уж большерота.
– Большеротые-то всех щедрей.
– В фате-то и цветах и некрасивая будет хороша.
– Молоденькая.
– А молодые всегда хороши.
– Кирочка, Кирочка, как я счастлива, – говорила Зоя, целуя ее тут же на ступенях.
– Да, – слышал я, – мать-то вдова. На соседней улице дом. У покойника чин был небольшой. Вот уж за жизнь свою она с ним помучилась. Больной был.
– А молодая откуда?
– Говорят, богатого помещика дочь. Мать-то померла, а дальняя, говорят, из дворянок.
– Да что ты плетешь. Полусирота. Отец не мог даже на свадьбу приехать.
– Да отец-то ее далеко служит?
– Господь знает откуда.
– Меня в дождь венчали.
– К счастью.
– Так и вышло. Дождь к счастью.
Дорога к дому была очень веселая, их окружили шаферицы, и оказалось больше приглашенных, нежели я предполагал, и девчонки бежали, и кланялись у ворот знакомые. У нас ворота были открыты, и на крыльце дома мать держала хлеб и икону, а Ириша осыпала молодых свежеобмолоченным ржаным и овсяным зерном. В столовой столы были накрыты белым, и читали телеграммы от офицеров и от юнкеров, и кричали «горько». А на столе были присланные ее отцом подарки: за несколько дней до свадьбы доставили ящик вина из Петербурга по распоряжению Кириного отца. Там было сухое, колючее шампанское, спрятанное мамой на леднике, фрукты и шоколадные конфеты от Абрикосова. Брат вышел, чтобы угостить солдат, а они захотели поздравить и Киру, и она к ним вышла, потом, поднявшись наверх, переоделась. Кира надела малороссийское счастливое платье, и брат явился уже в обычном кителе: так же одет, как и в то утро, когда он приехал.
В столовой было шумно, мне дали шампанского, которое укололо мне губы, я выпил, и голова легко закружилась. Я растерял себя среди гостей, не знал, с кем говорить, на кого смотреть и кому отвечать на вопросы, все были оживлены и заняты кто чем, и даже мама, захлопотавшись, только раз ласково посмотрела на меня. Ириша, видя мою растерянность, сказала:
– Уже подал Платошка.
И я выбежал.
Был подан экипаж, вымытый до блеска, не наш, а зазулинский, и Платошка, на этот раз обутый, сидел на козлах. Вещей было мало, потому что все уже было заранее отправлено на зазулинский хутор.
– Молодые уезжают.
В столовой брат был уже веселый и как бы обвеянный счастливым ветром, Киру мама крестила, и та вышла, как и мама, в счастливых и печальных слезах, и в руках у нее был поднесенный офицерами букет белых роз, а на шее корольки, и надо сказать, вышло так, что она со мной на людях говорила только глазами и благодарила, и утешала, а я был в таком одиночестве среди этих шумных людей.
– Ну, дай им Бог счастья.
– Курицу-то надо в дорогу, курицу ты не забыла, Ириша, положить?
Ириша принесла курицу, завернув ее в чистую салфетку вместе с белым хлебом, намазанным маслом, в небольшой корзиночке.
Брат отдал честь, Кира улыбнулась, Платошка шевельнул вожжами, и Зорька легко и послушно пошла, колеса закрутились, мама их крестила, Лада рванулась, но я крепко держал ее за широкий ошейник и, присев, уговаривал:
– Нельзя тебе туда с ними, ты, пожалуйста, успокойся.
Но она все же хотела вывернуться. Она не понимала, почему я не пускаю ее, и смотрела на меня умными, влажными и нетерпеливыми глазами, и все тело ее порывисто рвалось туда, а я говорил себе для Лады вслух:
– Успокойся, пожалуйста, успокойся.
Я ее понимал, и вот не знаю, оттого ли что ошейник был широкий и скользкий, а у нее шелковистая голова, но она выскользнула из него и бросилась во всю прыть вслед за ними, а я стоял с ошейником в руках – и одиночество мое было такое, что рассказать об этом я никому не могу.
«Кира, – сказал я про себя, – это она за тобой».
– Лада, – звала ее Зоя, и Кира в это время обернулась в последний раз, а Лада, как ее ни звали, не вернулась.
– Увязалась за Платошкой, – сказала девчонка.
– Нет, за Кирой, – ответила Зоя.
И старый Зазулин сказал:
– Ну, да уж пусть там с ними погуляет.
– Ну, вот, – сказала Зоя, – упустил.
Да я бы с Ладой от всех убежал, но куда уйти, когда уже приглашали к столу, а то не знаю, на какое бы дерево забрался, в какое поле бы одиноко ушел, чтобы там броситься на теплую землю и спрятать лицо в траве.
– Справили свадьбу, – сказала Ириша.
– Ну, дай Боже, – сказал маме Зазулин.
И мама повторяла:
– Дай-то Бог.
Помню, после их отъезда знойный, душный был вечер, и такая в доме тишина – Зоя убежала к подругам, мама отдыхала, Ириша мыла посуду, и дом опустел. Я ушел бродить, смотрел, как мальчишки бросают камни и палки. Я тревожно и горько спал. Платошка вернулся веселый и говорил на кухне, что за хлопотами он и выпить как следует не успел, но для него было оставлено, и вечером он уже опять сидел босой у ворот и говорил:
– А Лада-то осталась, – звал, звал ее, да куда там, – я к ней, а она все дальше от меня, в сторону куда-то отводит. Ну, да что, – говорят, – оставьте ее у нас, прискучит если, то сама домой вернется, только вот как быть, без ошейника, – и ошейник решили туда послать.
Зоя продолжала жить в радостном возбуждении после свадьбы, Зазулин чаще начал приходить к маме, две комнаты у нас теперь были пусты, а я остался по-прежнему в кабинете отца. Я не мог найти себе места, уходил купаться, а у сестры теперь оставалось много времени, и она, как когда-то, прибегала ко мне в беседку.
Письма они писали вместе, потому что брат начинал писать, а заканчивала письмо Кира.
– У них очень хорошо, – говорила мама.
Мы письма получали с оказией, и Ириша приносила даже с базара – одно опустил капитан парохода, другое пришло через приезжавших на базар крестьян. Свадьба и все после свадьбы первые дни были самыми сложными и печальными в моей жизни, я тогда так все глубоко чувствовал, как никогда, а они уже побывали и в деревне, у Иришиной родни, и в поле, где продолжалась жатва.
«Каждый вечер мы с Кирой гуляем, и Лада доставляет много хлопот – вспугнула выводок куропаток в хлебах».
«Мы долго с Ваней ночью гуляли в бору, сидели над рекой на речном обрыве, а утром нас рано разбудил дед – гостинцев принес, меду».
– Сейчас они в бору, – говорила сестра, – и знаешь, я чувствую, у них хорошо и славно идет, – и она добавила, подражая Кире: – Феденька, милый. И знаешь, – продолжала она прищурясь, – у них это на всю жизнь. Мне сказала Ириша, когда они вместе из города к барыне пришли, мама-то ваша потом и говорит: «Я спрашиваю, как жить-то будете, ведь жизнь офицерская несладка, Ваня не богат».
– Когда же это было?
– Ах, погоди, я все расскажу. А Кира сказала: «Когда любишь, то ничего страшного нет», – и, задумавшись, сестра повторила: – На всю жизнь.
Тут Зоя развеселилась, вскочила, меня затормошила и говорила, не переставая.
– Но до чего же у тебя много веснушек.
– Оставь. Не в этом дело. Я сама знаю. Да, вот подлинное, настоящее чувство, – и остановиться она уже не могла: – Если полюбить – то на всю жизнь. И знаешь, я все думаю, когда это случилось.
– Когда он Киру в столовой увидел.
– Нет. Это было на пароходе, а может быть, на лодке. Погоди, погоди, – и сестра вспоминала прогулку, а я молча видел все второй раз, что произошло, и это мне казалось таким далеким.
– Ты все выдумываешь.
– Погоди, не перебивай, – сказала Зоя, – да они и сами не знают, как и когда это случилось, другой раз так бывает, говорит Ириша, никто не заметит, как в сердце искра упадет, вот погоди, и ты, Зоечка, узнаешь. Но что я говорю, кому, ведь ты мальчишка, да разве об этом расскажешь? Ты только вспомни, как они тогда друг на друга посмотрели.
– Когда?
– Ты тогда ничего не заметил, а у дедушки, – говорила Зоя, – глаз острый, у деда это случилось, а может быть, когда ее хвалили на поле. – И тут словно озарило сестру. – Знаешь, – повторяла она Иришины слова, – так бывает: вдруг налетит и обнимет настоящее счастье.
Иришины слова, несмотря на то, что она была неграмотная, были умнее, чем беседы Зоиных старых подруг. Зоя вспомнила и о траве – она приставала к Ирише и даже бегала с нею расспрашивать баб на базаре, и я бегал, но ничего не узнал. Торговки рыбой не знали, а у рыбаков не спросишь, у них такой травы нет. Ириша на базаре всех расспрашивала, почему народ так прозвал травину эту веселую, два цвета на одном стебельке.
– Да знали, видно, когда-то, а затерялось, – говорила Ириша, – народ-то у нас неграмотный, помрет такая бабка, что старину помнит, и все с нею в землю уйдет. Жили в глуши лесной или приозерной бахари и волхвы знаменитые, все знали, про всякую траву и присуху, да уже давно примерли, теперь, видно, памяти у народа стало меньше, забывать начали досельщину, старину, а молодые ничего и не знают.
Тень от виноградных листьев падала на освещенные солнцем старые половицы, разросшиеся жасминовые кусты прикрывали беседку, и Зоя, прищурившись, мечтала, а я, отодвинув книгу, положив локти на стол, слушал:
– Если идти вдвоем бором, чудесно, только деревья и пчелы, никого кругом нет, а вереск уже, наверно, расцветать начал. Там, друг друга обняв, они гуляют, а вереск цветет, и над ними пчелы летают, – выдумывала она. Когда-то я любил с нею в беседке так мечтать, и это я начал выдумывать всякие чудеса.
– Да, – не задумываясь, отвечал я сестре. И вдруг увидел сквозь молодые золотистые листья игру солнца и пчелиный полет, ну да, то солнечное плетение, которое потом видел на Западе в стенах католических соборов.
– Ты пчела, сказал ей дедушка, а как он потом еще сказал – два цвета. – Это был словно заговор какой-то, потому что Зоя в самозабвении повторяла:
– Кира золотая, солнце золотое.
– То Марья, а не Кира.
– Нет, Кира. А мужской – синий, скромный.
– Почему синий?
– Погоди. Дедушка сказал, что Кира пчела золотая и у нее золото есть в глазах, а ты не заметил. Два цветут вместе на одном стебле, как два огонька, – золотой и синий. Золотой – это Кира.
– Золотой – это мужской, – не уступал сестре я.
– Кира пчела золотая.
– Почему? Надо видеть, а не спрашивать.
– Но я вижу. Два цвета у пчелы, и темный, и золотой.
– Это все равно.
– Да, когда она в солнце летит, то вся золотая. Солнце золотое и небо синее, – говорила Зоя, – золотой цвет.
– Не небо, а море синее, и земля, вспаханная поутру, синяя.
– Где ты море видел?
– Земля синяя.
– Горе с тобою спорить. Ума не приложу.
– Ваня – золотой цвет, – сказал я уверенно.
– Золотой – это Кира.
– Нет, это Ванин цвет. Цвет полка темный, околыш и лацкан, – сказал я, – но эполеты у него золотые, и кольцо у него золотое. Мужской – золотой цвет.
– Нет, – сопротивлялась она, продолжая спорить, – Ванюша – это синий цвет, а Марья – золотой. Это не я сказала, а дедушка.
– Ваня ясный и светлый.
– Вот я Кире скажу, как ты спорил.
– А пожалуйста. У Вани серо-голубые, пресветлые глаза, а у Киры глубокие, темные, и она росла у Черного моря. Ваня, как золотой, когда он веселый и улыбается, а так все же слишком выдержанный на людях и слишком строгий к себе, но он не будет к Кире так строг…
И тут мы, надо сказать, несмотря на все доказательства, запутались, мы порознь разбирали их, а теперь это делать трудно, так как они теперь вместе, потому что они друг друга так полюбили, как никто еще, видно, друг друга и не любил.
– Спросим кого-нибудь?
– Ну, Иришу.
– Хорошо, – ответил я, и мы понеслись к дому.
– Погоди. Я первой спрошу.
Ириша чистила морковь.
– Скажи только сразу, не думая, – попросила сестра и обо всем, путаясь и вертясь, рассказала.
– Ну что, – услышав ответ Ириши, сказал я.
– Золото. Ванюша наш золотой, – закричала сестра.
А Ириша еще сказала:
– Выдали свет-Марьюшку за нашего Ивана.
– А они-то, – продолжала сестра, уведя меня снова в беседку, – как вот Ириша говорит, друг друга сразу узнали, как золото живое вместе на дороге нашли, и это счастье, Феденька, счастье, – повторяла сестра слова Ириши, и от нее я теперь узнавал многое из того, что было сказано Кирой без меня, – такая уж Зоя, все хранила, хранила, а вот все и рассказала, не удержалась.
Мы шли вдвоем, и все вокруг начало таинственно раскрываться и меняться. Мы смотрели на солнце через листья, а они под ветром двигались и трепетали, и там были золотой и синий – и в синем такая брызжущая, стрелками от него летящая золотая радость, а золото с синеватым и красным огоньком – нет одного цвета, и щедрость едина. Я все это видел, потому что у меня было воображение сильнее, чем у сестры, а она теперь играла со мной, уже не ревнуя ко мне Киру и как бы заняв ее место.
– Нет, ты знаешь, все друг в друга переходит.
– Ты прав, – говорила сестра, в первый раз со мной соглашаясь.
– Вот ты так, еще сильнее прищурься и, склонив голову, смотри и смотри, пока не увидишь, – говорил я, и в это время Кира с братом были как бы среди нас, или мы с ними там, казалось, они слышат, и видят, и с нами вместе играют. И я говорил: – Нет, ты подумай, иван-да-марья, может быть, еще цветет, и ты знаешь, мама права, помнишь, она говорила, что если на поросшую иван-да-марьей опушку лесную с утра прийти, а потом заглянуть туда днем или же к вечеру, то в течение дня цвет меняется, в нем несколько оттенков, и лиловое в желтое переходит, а золотое на солнце к вечеру – в темно-лиловое, и все легкое и вырезное. Ты только подумай, откуда эти краски, что дает цвет – солнце или земля, или же все это скрыто таинственно в семенах, как в тех, ты помнишь, китайских шариках, которые мама купила, – они, как легкие горошины, а бросишь их в воду – и распускаются какими-то подводными цветами.
– Как ты все усложняешь, – говорила сестра.
– Вот, как дикий виноград, все и переплетено, да, да, ты понимаешь, были переплетены и их имена, Кира фамилию свою потеряла, теперь у нее наша фамилия, и она теперь уже с нами, ну, как дерево рисуют, вот так и они, – одно в другое переходит, синее в золотое и золотое в синее. Это все неправда, что в учебниках о солнце написано. Они не знают.