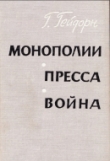Текст книги "Иван-да-марья"
Автор книги: Леонид Зуров
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
– Эй, твой черед. Ребята, плыви на волну.
– Не доплывешь.
Кира, смеясь, смотрела на этих мальчишек, а они, видя, что на них смотрят, подражая взрослым, грубо кричали:
– А доплыву.
– Ванька. Валяй по саженки.
– А доплыву, брат ты мой.
Сестра отворачивалась, а Кира смеялась.
И мне вместе с ними купаться захотелось, я знал, что сегодня по-июньски вода с утра на редкость тепла.
Я, оглянувшись, посмотрел туда, где Пароменская церковь, белая, с отдельно стоящей звонницей – мы проходили места давешнего сна, тем местом меж ладейных пристаней, где брат с гребцами в ладье реку пересекал, ладья была подвязана, но там не было солдат – я знал, что все они в лагерях. И тут рассказанный мне утром сон как бы тенью облачной прикрыл на мгновение прозрачность живых широких вод, льющихся в солнечное утро, но на мгновение только. Утро было ослепительное, и на воде такое чудесное солнце, что все сияло. Сон как бы растворился и ушел на ту глубину, куда уходят все сны, о которых наутро мы даже не можем вспомнить. Он растворился в солнечном свете, и меня он уже не тревожил.
Я даже хотел сказать об этом брату, направился было к нему, но он разговаривал с Кирой, на меня посмотрел, улыбаясь, видно, забыв обо всем, что рассказывал мне сегодня, и меня что-то внутренне остановило.
– Ну вот, – сказал тогда я, – так хорошо вместе.
– Федя с утра земли под собою не чувствует, – сказала Кира.
– Дождался, – подхватила Зоя.
– А вот там, – показал я Кире, – за Георгиевским спуском моя гимназия и колокольня церкви, а на другой стороне, подальше, на левом берегу был Мирожский монастырь, он совсем за века в землю врос, видишь, каким он низеньким стал.
Брат рассказывал Кире, что собор расписан фресками за пятьсот лет до основания Берлина.
– А вот там, у монастыря, когда-то был летний кадетский лагерь для тех, у которых не было родителей и кто летом домой не мог уехать. Там жили сироты, дети убитых офицеров, и я часто приходил к ним купаться, и рыбу даже ловили.
Брат нас провел на другой борт и показывал на остатки крепостных стен, заросших крапивой, репейником, ромашкой и заваленных ссыпавшимся со стен щебнем:
– Вот там Покровская башня, от Батория пролом.
На пароходе казалось празднично от солнца и веселых лиц.
– Лето, – как будто с благодарностью, стоя у перил, говорил брат, и я тайно любовался легкостью движений и поворотом его головы. Он стоял, держа руки на поручнях, и я видел его положенную на поручень руку с отцовским перстнем.
– Говорят, – слышал я слова Киры, – до чего же вы строгий.
– Кто вам говорил?
– Ты права, Кира, – подхватила Зоя, – он страшно строг, ты не смотри, что он сегодня так улыбается.
– Если бы вы знали, – продолжала Кира, – сколько мне рассказывали о вас, – и у нее в глазах было столько свежести, молодости и силы жизни, задора и золотистых огоньков.
Пароход должен был сначала зайти в Корытово, а потом и на Череху.
– Две пристани по пути, – говорил брат. – Корытово совсем близко. Там красивое место, высокий берег, усадьба, когда-то принадлежавшая дворянской семье Хвостовых, помещичий парк, и отстроенная церковь, и деревенька небольшая в несколько дворов.
Когда поднимаешься на пароходе вверх, то виден высокий каменистый берег – там, при впадении речки Черехи в Большую реку, берега поднимаются, известняки обнажаются и сильнее течет река меж высоких берегов, которые круто обрываются в воду. При впадении ее образовался как бы заросший хвойными лесами веселый и высокий остров.
Пройдя Корытово, мы поднялись мимо Святого Пантелеймона, река большая, текущая по каменистому дну, осталась справа, хвойный лес был виден в устье, и тут начинались боровые пески, тут даже была конка, вела к кургаузу, к дачам, в лес. Мы эти места знали и старались рассказать Кире все, что ожидает впереди. Брат объяснял, а я как бы был на ее месте и новыми глазами смотрел на все.
Когда мы подъезжали, Кира сказала, присмотревшись:
– Андрусовы.
– Мы погибли, – сказала Зоя.
– Какие Андрусовы? – спросил брат, потому что когда он уезжал в Москву, они были мальчишками.
– Один из них кончил в этом году, а брат в восьмом классе.
– Да, время идет, – сказал брат.
Среди народа на пристани мы увидели гимназистов, что с велосипедами поджидали кого-то.
– Попадем к ним на дачу – не выпустят, – сказала Зоя, побывавшая у них в прошлом году, – чай, разговоры, все семейство в сборе, и бабушка, и болонка со слезящимися глазами, за столом китайские церемонии, а там придется играть в крокет. Ужас. Придется слушать стук молотков о шары, препирательства и споры, потом пригласят обедать. Ужас.
– И на клумбе надетый на палку зеркальный шар, – сказал я, – я ненавижу крокет. А они обязательно Киру с Зоей к себе позовут. И Зоя согласится.
– Ни за что, – воскликнула она, – ведь мы вчера это решили. Нет, мы увернемся. Если бы не было Вани, то было бы трудно, а тут мы легко увернемся. Ваня, я тебя очень прошу, молчи и, когда будут приглашать, сделай, пожалуйста, очень сердитый вид.
На пристани уже увидели нас и, приветствуя, махали, и Зоя, несмотря на то, что она говорила брату, им отвечала, подняв руку и улыбаясь. Вот такая она всегда. Ты только посмотри на нее.
– Ты знаешь, – сказала она брату, – они нас давно приглашали, сколько уже раз корили и напоминали.
– Откровенно говоря, мне бы хотелось, – сказал брат, – провести этот день без чужих, но, впрочем, как вы решите.
– Да мы уже вчера решили, – сказала Кира. – Зоя, ты что-то запуталась. Ваня прав, не надо чужих.
– А главное, – сказал я, – Зоя, ты ни за что не сдавайся.
Брат засмеялся. В это утро он был удивительно легок.
– Ваня, – тогда сказал я, уже не доверяя сестре, – мы сразу же с тобой спустимся и возьмем лодку.
– Решено, – ответил он, – а тебе, Зоя, придется выдержать натиск.
– Ну, не только мне, – ответила она, – Кире тоже.
Когда пароход коснулся деревянной, обшитой тесом пристани на сваях, все было решено, и мы развеселились.
– Возьмем лодку, – говорил я Кире и брату, – и отправимся вверх по Черехе.
Я уже знал, куда нас хочет увезти брат, и держался около него и Киры, когда пароход тронул причалы и там поймали канат, замотали о деревянную тумбу, вдвинули мостки, и народ начал выходить.
– Одни гимназисты, – сказал я, – Зое будет отбояриться легче, этого новоиспеченного студента-театрала, к счастью, на пристани нет.
Увидев Зою и Киру, Андрусовы действительно обрадовались, и я видел, что только присутствие брата смущало их.
– Кого вы встречаете? – слышал я вопрос Зои.
– Как видите, вас, – сказал один из них, самодовольный и толстый уже гимназист, что любил выступать на спектаклях.
– Ну, нет, – сказала Кира, смеясь, – это неправда.
– Зайдемте к нам, – не обращая внимания на меня, говорили они.
– Брат только что приехал, – сказала Зоя.
– Иван Тимофеевич, мы будем так рады, зайдемте к нам, хотя бы на час, – и брата начали уговаривать отправиться к ним на дачу, – это совсем недалеко. Ведь сколько раз вы обещали приехать, – обращаясь к сестре, – а потом мы отправимся вместе с вами, куда вы хотите.
Зоя с Кирой остались, а я уже побежал вниз, где на скамейке сидел лодочник и у будки лежали разноцветные весла, и слышал, что брат спускается вслед за мной. Почти все лодки были в разгоне, оставалась только одна большая, с широкими бортами и истертыми до блеска железными уключинами. Конопатый лодочник вручил мне весла и, когда брат дал ему задаток, отстегнул цепь, и она, загремев, посыпалась в лодку. Я по-матросски закричал:
– Готово.
И сестра с Кирой уже спускались к нам, к радости моей и к досаде величайшей гимназистов. Когда сели Кира с сестрой и брат занял место на корме у руля, я хотел побыстрее вложить весла в уключины, но два гимназиста, оставив свои велосипеды у пристани, сбежали вниз:
– Куда же вы? – спрашивал один из них.
– Федя, куда вы? – спросил один из них даже меня.
Забренчала брошенная на дно цепь, и я даже буркнул, а не ответил:
– Далеко.
– Куда вы? – спросил уже не меня, а Зою толстый гимназист.
– Ох, далеко, – смеясь, отвечала она.
– Но когда же вы заглянете к нам?
– Возможно, на обратном пути.
Мне было досадно, что она это сказала.
– Напрасно ты ему обещала.
– Что обещала?
– Мы, мол, вернемся. Будут ждать, и этим мы свяжем себя.
– Подумаешь, какая беда. Ах, отстань.
Брат помог Кире, я хотел разобрать весла и уже сел, но Зоя заявила:
– Нет, грести будем мы. Федя, пусти. Мы сядем с Кирой.
Я растерялся.
– Зоя, но ведь ты грести не умеешь.
– Отстань. Мы сядем с Кирой.
– Что с тобой стало. Вот видишь, – сказал я брату.
Да еще при чужих. Мне не хотелось второго весла отдавать, но уже первым Зойка завладела, и это было так обидно, – а главное, при брате и при чужих, и я смотрел то на Зою, то на брата, а брат последний шагнул в лодку, в корму. По глазам брата я видел, что он меня понимает. И он, улыбаясь, мне сказал, как взрослому:
– Федя, уступи.
Я, обиженно и сердито посмотрев на Зою, уступил и отдал весло.
– Ага, отставили, – сказал тут про меня этот толстый гимназист-футболист, которого я на всю жизнь после того возненавидел.
Я растерянно отдал весла и подумал: вот она дружба, мне до слез было досадно, Кира-то, Кира, нет, видно, прав Шурка, что не так давно на Степановом лужку, раздеваясь, говорил мне:
– Нет, брат, с бабой дружи, а камень за пазухой всегда, брат, держи.
– Мы потом тебе, Феденька, весла дадим, – сказала тут Кира.
– Пожалуйста, пожалуйста, – ответил я ей, едва скрывая обиду.
Я видел, как они неумело вставляли весла в уключины, и, когда брат сел на руль, мы оттолкнулись, они взялись за весла и, путаясь, вразнобой погребли, так что и смотреть на их усилия мне было стыдно. Тут и случилось то, чего я втайне боялся.
Толстый гимназист, увидев возвращающихся в лодке знакомых мальчишек, – а мы с ними чуть не столкнулись, запутались веслами – закричал:
– Ну, тогда и мы отправимся вслед за вами, – и они, не спрашивая ребят, не обращая на их крики внимания, не позволив им высадиться и сдать лодку, прыгнули в нее и, забрав весла, оттиснув ребят, кричали нам: – Погодите. Мы вас перегоним! – Они вдвоем с криками взялись за весла, но, к счастью, видно было, что там гребцы тоже плохие, а в лодке много народа.
– Вот мы устроим гонки, – кричали с лодки, – сейчас вас перегоним.
– Нет, это невыносимо, – сказала Кире сестра, – они хотят нас перегнать.
– Мы далеко, – отвечала она, – нам с вами не по пути.
– Посмотрим, – отвечали они.
Кира глубоко и сильно опускала в воду весло, а у Зои руки были слабые, и наша лодка, несмотря на усилия брата выровнять ее рулем, шла совсем не туда.
– Смотри на них, Ваня, – говорил я, – Боже, какую болтушку вы устроили. Смотри, – говорил я ему, – нас нагоняют. Кира сильнее Зои гребет.
– Кира Сергеевна, – говорил и брат, – не так сильно. Зоя, дай выровнять.
– Ага, – кричали там, и я с отчаянием оглядывался, не зная, что теперь сделать, но брат был старший, и он это допустил.
– Ровнее, вместе, – только и говорил брат, а я за ним повторял:
– Ну, раз, два, – шептал я, – ровнее, вместе, – ну, раз, два.
Как они гребут, смотреть стыдно, а ведь Кира родилась на Днепре, и Зоя выросла на берегу реки и до сих пор ничему не научилась. И я так был взволнован, обижен и раздосадован, что чуть слезы у меня от досады не выступили, когда я оглядывался на моих врагов, что гребли изо всех сил.
– Они нас догонят, – сказал я брату.
– Боюсь, что сейчас они и меня не послушаются, – улыбаясь, сказал брат, понимая мое волнение.
Зойка невозможна, но и Кира-то какова. Такой я ее видел впервые, она раскраснелась, бурная и страстная, но весло ее уходило все же очень глубоко, разгоряченная греблей, она сильно дышала и тратила много лишних усилий.
– Да гимназисты не лучше гребут, – сказал, смеясь, брат.
– Сейчас обгонят, – сказал горько я брату.
– Нет, – сказал он, – все же мы впереди, – и, обратившись к Кире: – Так гребя, вы быстро выбьетесь из сил, устанете. Зоя, – сказал он, – немного спокойнее.
– Да у меня весло подворачивается, не слушается.
– Подумаешь, как будто это в первый раз, – пожав плечами, сказал я.
– Зоя, – говорила Кира, – греби.
– Дружнее, – советовал брат. – Не надо так, Кира Сергеевна, глубоко весло опускать. Дайте Зое выровнять лодку.
Кира, закусив губу, подняв весло и сильно дыша, дала Зое выровнять лодку, но та так далеко вытянула весло, что оно выскочило из разболтанной уключины, и, обдав водою нас с братом, упало в воду. Склонившись, я его поймал.
– Ваня, я весь мокрый. Отбери от них весла. Зойка, что ты наделала. Беда, – сказал я тут, оглянувшись, – сейчас нас нагонят.
А там нашей неудаче, видно, обрадовались.
– Ура! – кричали они.
Пароход отошел, и их и нас закачала волна.
– Берите весла, Иван Тимофеевич, – воскликнула Кира, – переменимся быстро местами. У нас не выходит. Берите. Довольно, Зоя.
Брат шагнул в сторону, уступая дорогу, а когда менялись местами, лодка накренилась, я, чтобы дать дорогу, приподнялся, но мне мешало выловленное весло, и я упал бы в воду, потеряв равновесие, если бы не сел на дно, притянув запутавшуюся и непокорную Зою. Брат удержал Киру и меня, а Кира схватилась за наши руки, и я почувствовал, что меня что-то словно обожгло и какой-то горячий ток пробежал по моему телу.
– Ой, Ваня, – кричала сестра, – я чуть в воду не полетела. Ой, даже сердце забилось – так я испугалась.
– Поделом.
– На дно не знаю как села. А где моя шляпа? Ведь ты на ней сидишь!
Она на дне сидела и встала позднее всех, мы с братом помогли ей подняться и передали шляпу, на которую уселся я.
– Ведь ты не умеешь, – сказал я, – зачем же взялась?
– Это не только Зоя, – Кира сказала так, как в первый день после приезда маме в саду, – а и я.
Внутренне я торжествовал, когда брат сел на весла. Он по-знакомому разобрал весла, неторопливо их поправил, вложил в уключины и опустил на воду. Определив расстояние, осмотрелся и так-то он приятно выровнял лодку, и так-то легко и спокойно, не делая ни одного лишнего усилия, погреб, и лодка, повинуясь ему, пошла ровно.
– Ну вот, как надо, – сказал тут я.
Кира свела брови и наблюдала за точностью его движений.
– Как будто едва, едва, – говорила она.
Совсем без усилий, легко он оставил позади гимназистов, они нам еще вдогонку что-то кричали, сырые и здоровые, но неладные, они гребли вдвоем, но их много насело, и они сбивались с направления и, наконец, отстали.
– До свидания, – кричала им Кира, и я видел, как менялось от смены впечатлений ее лицо.
Когда мы вырвались, Кира посмотрела на меня совершенно счастливыми глазами, и Зоя радовалась, что мы от них ушли.
– Да, – сказала Кира брату, – это дело другое.
– Чуть было не зачерпнули, – сказал я Зое сердито.
– Ведь Кира не умеет плавать. Я так испугалась, у меня даже сердце зашлось.
Я был рад, что гимназисты отстали, а они, видно, раздумали нас преследовать и теперь издали кричали нам:
– Мы бы вас нагнали, да нам домой надо.
Мы даже не ответили.
За речным изгибом мы вздохнули спокойно, оставшись одни. Тут брат положил весла на боры, и лодка после разгона легко шла. Он поправил шашку, чтобы она не мешала, снял фуражку, и ее взяла сидевшая напротив него затихшая, к счастью моему, Зоя и положила к себе на колени. Каменистое дно осталось там, а Череха течет по песчаному дну. Тут было тихо. Кира, поправив волосы, следила и училась. Он греб, улыбаясь, и видно было, что гребля доставляет ему наслаждение. А мы уходили и от лодок, и от дачных мест и поднимались туда, где на правой стороне на высоком песчаном берегу уже зеленел не смешанный с елями лес по подзолу, а красный бор на береговых песках.
– Да, – сказал брат Кире, – хорошая речка. Веселая и приятная, под Москвой таких рек нет, она маленькая, чистоты изумительной.
– Смотри, Кируша, – говорила Зоя, – вот это место назвали даже Ливонской Швейцарией. Все время сосны и песчаные обрывистые берега, воздух такой смолистый – сухой и легкий, тут мы когда-то с Федей поправлялись летом после коклюша.
– Смотри, Кира, – говорил я, показывая.
Это место я любил, тут тихо, и обрыв зарос боровыми соснами, и стрижей здесь полно, что жили испокон веков в песчаных обрывах, источив их. На шесть верст шел бор – все знакомые для брата места, дальше – высокие берега. Они тут были изумительно теплого телесного цвета, а река не глубока, с чистым песчаным дном, а дальше, за изгибом реки, начиналось уже что-то совсем необыкновенное и сияющее: цвет песков менялся, и бор красовался на удивительного цвета белоснежных, искристых песках.
– Белые пески, – как завороженный говорил я Кире, – смотри, как мрамор дробленый. Такие белоснежные чистые пески – здесь да вот там, за Снетогорским монастырем, до которого вчера вечером мы не дошли.
Мы причалили к заветному, заросшему левому берегу, к пескам, на которых не было ни единого человеческого следа. Первым прыгнул с лодки брат, за ним я. Мы подтянули лодку и помогли Кире и сестре выбраться с носа лодки на песок. Он протянул руку Кире, и она ответила на его улыбку, сияя от удовольствия.
Мы спрятали под корнями упавшей сосны весла и измятую Кирину шляпу. Знакомая брату тропинка поднималась по обрыву, уводила в бор, взбираться было нелегко, но очень весело. Брат забрался первым – он легче всех нас оказался, сильный и натренированный во время полевых занятий с юнкерами и легкий – при мускулистой своей худобе – с развитым гимнастикой и плаванием, легким и послушным телом, которого он не чувствовал. Лицо уже запутала паутина, и мы взбирались, цепляясь за можжевельник. Кира была второй, но потому что брат ей помог, а я задержался, чтобы выручить Зою, боявшуюся крутизны и боровых муравьев, я ей помог, а потом брат с Кирой, подав ей руки, вытянули ее, а я взобрался сам, говоря:
– Это смешно – бояться боровых муравьев, они большие, смоляные, но совершенно безобидные, ты бойся рыжих садовых, вот те действительно злы.
После общих усилий мы передохнули и осмотрелись: бор шумел, весь золотистый, в солнечной паутине. А для меня с детства счастье было связано с играющей на солнце прозрачной водой, мне все казалось сказочным и таинственным в этом бору, и самое лучшее из сказок было связано с бором.
– Смотрите, – тихо сказал Кире брат.
– Где, что?
Но брат вместо ответа показал на сосну, и мы увидели там, где шевельнулась ветка, трех белок. Они любопытны, и когда мы замерли, то одна из них, цокая и царапая кору, смотря на нас большими глазами, спустилась. Нервно подрагивал пушистый хвост, и, раздувая ноздри, она смотрела на нас, а другая с цоканьем спускалась вниз головой и тоже замерла, и у нее подрагивал не только хвост, но и кисточки ушей, и вся она, собранная, пушистая и чистенькая в солнце, смотрела на нас, а глаза у нее, как у Киры, были полны жизни и любопытны. Кира с Зоей сделали движение, и белки спрятались за ствол. Я посмотрел – куда.
– Да нет, – сказал брат, – вон где они, пустились по деревьям.
И вот так – то скрываясь, припадая к стволу, то появляясь, она показывалась – то хвост мелькал, а то голова с большими кисточками на ушах.
– Но любопытна до чего, – сказал брат, – мы на нее смотрим, а она на нас.
А когда мы двинулись – белки, волнуя хвою, побежали по сосновым ветвям. Мы шли, а они, распластавшись, летели с ветки на ветку, и даже не видно было, за что и как они цепляются.
– Они нас не боятся, – сказала Кира.
– Молодые, играют, – ответил брат. – Летом их не бьют, вот почему они еще доверчивы, людей не боятся. Это ее первое лето, – ей всего четвертый месяц пошел, – сказал брат, а он все знал отлично, потому что кадетом с корпусным преподавателем отправлялся изучать птиц в Устье и зверей в бор. – Она родилась в конце марта, а бельчата, – и он оглянулся, – растут медленно. Знаете ли вы, что только на тридцатый день после рождения у нее, в конце апреля, открылись глаза и сразу стали большими, темными и до всего любопытными.
– Как у Киры, – сказал я.
Все засмеялись.
– Ах, вот как, ты меня с белкой сравнил, – сказала она, – иди-ка ко мне.
Но я бросился от Киры, она за мной побежала, поймала меня, и мы с нею возились, и я прятался.
– Ты прячешься от меня за ствол, как белка.
Брат вел нас и показывал, все замечал и был счастлив: а это веселое и царственное счастливое боровое место – тут сосны корабельные, – остатки больших боров, что когда-то, с незапамятной языческой древности, окружали наш город, там речка Многа, очень небольшая, и забирается куда-то, осенью вереск цветет, боровиков и рыжиков много.
Где-то там деревня Барбашово – все там были в древности пчеловоды, и их за простоту старинную, за то, что они из боров, являясь на торговище, на все смотрели с открытыми от удивления ртами и их легко было провести, прозвали: «Эх ты, ворона барбашовская».
Бор переродил нас, особенные пробудил чувства, и мы были несказанно рады, что ушли далеко от дачных мест. Там все как-то нечисто, испорчено и затоптано, а здесь жизнь, и брат говорил, что здесь сосновые леса, как те, что сохранились еще в Гдовском уезде у озера и уходят куда-то к Нарве и к реке Луге.
Кира сказала, что в сосновом бору была раз в жизни под Киевом, в Святошино.
– Сосны тут у вас по-морскому шумят, – сказала она, остановившись.
– Корабельная строевая сосна. Такие шли на мачты.
– Ну да, – сказала Кира, – таким тут все и должно быть. Я даже не удивилась, как будто в знакомые места попала.
– Давайте все закроем глаза и послушаем, – сказал я, мне захотелось увидеть через этот шум волны и берег, и Кирино море. Кира согласилась. Я, закрыв глаза, слушал: удивительно шумели под ветром, родившимся в этот знойный день где-то наверху, согретые солнцем широкие вершины старых и необыкновенно толстых у корней сосен – широко и как-то важно.
Кира тихо, стоя недалеко от меня, говорила:
– Вот так же и у нас, совсем так. В солнечный день море, не умолкая, шумит, и, словно снова босая, девчонкой, стоишь на горячем песке, а ветер соленый дует с простора в лицо и всю тебя овевает, и волны недалеко все время шумят, и тогда так радостно и легко, что даже кружится голова.
Я слушал, а когда открыл глаза, то у Киры сияло лицо.
– А морская синева иногда такая, – продолжала она, – что хочется танцевать и кружиться от радости, и я любила танцевать, чтобы потом на горячий песок свалиться.
Она знала Азовское и Черное море, на берегах которого никто из нас не бывал, и рассказывала, как ее девчонкой отец возил в Крым и она там полоскалась в Черном море.
– Но бабушка далеко от себя не отпускала, слово брала, что я от берега далеко не отойду.
– Почему?
– Воды боялась. Сидела на берегу, и не только потому, что старики, как она говорила, раньше почему-то в море не купались, – у нее брат мальчиком, купаясь у порогов, на ее глазах утонул, хотя и хорошо плавал. И она всю жизнь воды боялась, хотя кровь у нее была запорожская – горячая, беспокойная и непокорная. Вот и у меня широкое лицо, я даже скуластая, потому что мой прадед в гирлах днепровских рыбачил. Я жадная, люблю солнце и без воды жить не могу.
А брат смотрел на Зою и Киру, и я спросил:
– А почему ты глаза не закрыл?
– Да я только что их открыл, – сказал он.
Кира звала к себе на юг гостить не только сестру, но и меня на будущее лето. Неожиданно для меня оказалось, что сестра об этом знает и Кира уже отцу об этом написала и получила согласие. Мы с сестрой ликовали. Кира и Зоя мечтали, как они будущей весной после сдачи зачетов приедут из Петербурга за мною и за летними вещами Зои, поживут здесь неделю.
– Поедем к нам, на бабушкин хутор у Днепра, побываем на порогах, поживем у Днепра, а потом поедем купаться в Крым. Отец обещал, он все устроит.
– А мама знает?
– Да, мы уже говорили, – ответила Зоя, – и мама Федю с нами тоже отпустит, если он без переэкзаменовок перейдет.
– Но почему же я ничего об этом не знал?
– Это была тайна, – сказала Кира. – Вы мне все здесь показываете, а я тебе, Федя, там такие места покажу – и степь, и отары, пастухов и сторожевых собак, и море.
И тут в бору мы сговорились и жалели только, что с нами не может отправиться брат. Он же, видя нашу радость, слушая Киру, только улыбался и вел нас дальше. Мы были опьянены, а Кира все прислушивалась, блаженно улыбаясь, к боровому шуму.
– Почему ты тогда не закрыл глаза? – спросил я брата на обрыве.
– Когда же?
– Ну, когда мы слушали морской прибой.
– Не закрыл? – сказал брат, удивленно улыбаясь. – Разве?
Кира расспрашивала брата: где же эти волоки, которыми можно пробраться к Днепру и дойти в нашей ладье до тех мест, где ее бабушка жила и она детство проводила. Он рассказывал, что в верховьях у нас есть древние волоки и просеки, по которым в древности перетаскивала вольница ладьи, груженные товарами и кладью, в близкие реки, что здесь когда-то рубили ладьи, и, если подниматься по большой реке, на которой отстроен город, то вот туда, – показал он, – уже на пароходе подойти нельзя.
– Почему? – спросила Кира.
– Там начинаются пороги, о которых никто не знает и на которых никто из горожан не побывал. Там-то, на порогах, единственный в обход города переход через нашу глубокую реку, и там было укрепленное место – Лабута. Там были поселены боевые дружинные люди для обереги и охраны, занимавшиеся бортничеством, рыбной и звериной ловлей и пахотным делом. Там родилась Ольга, жена Игоря, родившая Святослава, что добыл свободный, уже утерянный в те времена новгородскими и киевскими славянами выход к теплым южным морям.
– А вы там были?
– Как же. Я и в часовне из Ольгиного источника воду пил.
– Тут у вас света столько же, как на юге, – говорила Кира.
– Облака светят, – объяснял брат, – отражают свет вод. Тут речная дорога была, а вот там, – говорил он, – можно было, не зная этих боров, легко заблудиться и к медведям в гости попасть, и ребят в старину пугали рысями и медведями. Тут они лакомились медом, залезая на бортовые сосны и лапой из дуплины мед загребая, а потом, едва отбившись от пчел, спали пьяные от старого меда. Как говорили мне старики, в дуплинах были накоплены запасы меда, и он в древесных дуплах сам начинал бродить от старости.
– А весной тут ландышей много, – говорила Зоя, – и каких крупных, чистых.
Кира таких мест еще и не видела, все тут для нее было ново, и я рад был, что с нами брат, потому что если я и знал об этих местах, то со слов брата и Зазулина. Кира восторженно все вбирала в себя, и как хорошо было идти всем вместе, все здесь очаровывало – чистота, сухость божественного света и весь этот с закругленными хвойными вершинами бор, как казалось мне – остаток священного языческого солнечного божества, с чистыми водами, песками, корнями.
Я слышал даже шелест прозрачных сосновых шелушен, а грудь моя была наполнена запахом вытекающих из трещин смол, столь обильных в этом году, и живым дыханием зеленой хвои.
Кира ушла вперед, мы были у боровой прогалины, когда услышали ее веселый голос.
– Не бойся. Куда ты? Постой, – кричала она кому-то вдогонку.
– Ты кому кричала? – спросила Зоя, а я уже заметил пятки уносившейся девчонки и мелькнувшее меж стволов красное платье.
– Маша, – сказала она, сидя, растерянная и радостная, на поляне.
– Где она? Какая Маша?
– Тут девочка цветы собирала. Да нет, ты ее не увидишь. Убежала. Одна скрылась, а с другой, что цветы собирала, я успела только два слова сказать. Пуглива, как дикарка.
– Федя, – закричала тут и сестра, – сюда, к нам. Кирочка, милая, ты их нашла. Это наши боровые бессмертники.
– Это не я напала на них, а та Маша. С деревенской девчонкой их собирала. «Вы что тут?» – спросила я. «А цветы рвем». – «Какие?» – «Да что ты, не видишь? Кошачьи лапки». Я их сразу узнала. А как увидели, что вы идете, сразу вспорхнули. Куда там. Бросила цветы и убежала. Теперь ее и с ветерком не догонишь. Ах, прелесть какая, – говорила Кира. – Я так и подумала, что это они.
Тут росли боровые цветы на тоненьких, серебристо-зеленых стебельках, когда-то и мои любимые, что высыпают на открытых солнцу полянах в бору да на кочках в подлесных местах. Сестру охватила восторженность, и они обе превратились в девчонок.
– Смотри, какой чистенький, белоснежный, – говорила Кира с горячностью и в то же время с трогательной нежностью, – а тот нежно-розовый. – И она собирала их, совершенно забыв обо всем. Я оглянулся на брата.
– Напали на кошачьи лапки, – сказал я ему, как взрослый. – Теперь их отсюда не уведешь, пока все не соберут. Подумать только, да ведь они совершенные еще девчонки.
Ну да, и я в детстве с радостью собирал их в этом бору на какой-то другой поляне – мы жили тогда на зазулинской даче, срубленной из бревен, проконопаченных белым и зеленоватым мхом, и мама приводила нас сюда. Мы разувались, и так было приятно ходить с сестрой босиком по теплому песку – а он, горячий, приятно щекотал подошвы. Помню, и я так же опустился на сухую дерновину, где росли подсушенные солнцем, но молоденькие бессмертники, и в боровых этих цветах, их горьковатом запахе, в их неожиданной нежной окраске и в их сложенном как бы пальчиками цветке было что-то трогательное, как будто созданное для детской радости. С этими цветами у меня связано столько солнечного света и детских деревенских доверчивых глаз, и я вспомнил, как одна быстренькая и умная деревенская девочка любила со мною играть, а потом учила сестру плести из бессмертников веночки.
– Смотри, – говорила в это время Кира, стоя на коленях, – вот и малиновый. Какая прелесть.
– А знаешь, почему деревенские называют их кошачьи лапки? – спросил я ее.
– Я когда-то спросила, – сказала сестра, – спросила, почему они кошачьи лапки, а девочка в ответ погладила меня цветами по щеке. «А вот, – ответила, – смотри, как цветки-то сложены – как пальчики у котенка». И они шелковистые, если вот так по щеке проведешь. Федя, ты ведь больше меня любил их собирать.
– Ну да, – ответил я, – когда-то, – и посмотрел на брата. Тот, понимая мои чувства, радовался, очутившись на воле, а Кира с сестрой увлеклись.
– Зойка, розовые и белоснежные. Иван Тимофеевич, смотрите, какие чистенькие и словно бархатные.
Переходя с места на место, они собирали цветы в Зоину шляпу, присаживались, стоя на коленях.
– Посмотри, – говорил я брату, – ведь их теперь от цветов не оторвешь. Да вы все оборвете.
– Вы идите, а мы вас догоним.
– Да у вас и так руки полны.
– Вот я их заверну в платок, – вместо ответа говорила Кира, – а после мы их разберем. Только ножки у них такие коротенькие.
– Они и солнца не боятся, – сказал брат, он не хотел отходить и помогал им, да и я взялся набирать, – засыхая, они свой цвет не теряют, в соборе в Лабутах я видел – из них венки плетут на икону Богоматери. Старухи, я помню, называли их Ольгиными цветками, потому что, по преданию, Ольга была из крестьянской семьи.