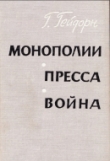Текст книги "Иван-да-марья"
Автор книги: Леонид Зуров
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Может быть, та ревностность, с которой Зуров относился к своей последней повести, сродни ревности – ему никак не хотелось расставаться с памятью о любимой. Пока был жив – любовь согревала. Теперь она согреет нас.
Повесть Зурова приходит к читателю не в том виде, в каком он сам выпустил бы ее в свет, но в последнем приближении. Она будет говорить сама за себя. А ее читатели, возможно, ответят на вопрос, заданный Г. В. Адамовичем еще в 1948 году. Тогда, упомянув в своих «Литературных заметках» рассказ Зурова «Ванюшины волосы», он прикоснулся к самым жгучим, самым мучительным раздумьям литераторов русского зарубежья: «В рассказе каждое слово пахнет Россией, и слишком мы здесь стали к этому особому, таинственному запаху чувствительны, чтобы сразу его не уловить. Зуров – настоящий писатель. Когда-нибудь, когда все перемелется и все наши раздоры и разъединения сойдут на нет, русские люди со стыдом будут вспоминать, что этому настоящему писателю – да и не ему одному – случалось с тоской спрашивать себя: стоит ли писать, раз написанное все равно обречено лежать в ящике, годами, годами, может быть, десятилетиями? Оценит ли кто-нибудь этот подвиг?»
Ирина Белобровцева
Иван-да-марья
В наш класс падало солнце, а доносившийся в открытые окна шум губернского города кружил головы. Весной мне исполнилось четырнадцать лет, и это было счастливое время. На уроке французского языка я начал писать стихи.
Неблагополучно было с математикой, и на последнем экзамене, вычерчивая на доске теорему, я два раза запутался, но друзья с дальних парт помогли.
– Ну, как? – спросил я их, переведя дыхание, положив мел и вытирая платком руки.
– Вначале ты, конечно, ошибся, – сказал коротко остриженный Шурка, – ну, да не так-то он строго и спрашивал.
– Что ты время теряешь, – добавил другой, – спроси Константина Константиновича, обязательно спроси.
Помню, с замиранием сердца я выбежал из класса и возле учительской нагнал высокого и неторопливого математика.
– Константин Константинович, простите, – сдерживая дыхание, сказал я.
Он остановился и по своему обыкновению весьма хмуро посмотрел на меня.
– Ну, – спросил он, – в чем дело, Косицкий?
– Константин Константинович, я, отвечая, ошибся.
– Да, – подтвердил он, и таким тоном, что мне стало жарко, кровь прилила к ушам.
– Но у меня, Константин Константинович, по всем предметам отметки хорошие.
– На этот раз, – медленно сказал он, – я вас пропущу, но все же, молодой человек, во избежание в будущем неприятностей советую вам летом серьезно геометрией позаниматься.
– Обещаю, – ответил я, а сердце сильнее забилось от радости.
– Ну, что? – обступив меня, когда дверь в учительскую закрылась, спросили друзья.
– Федя, как?
– Мимо беду пронесло.
Уже чувство необычайной легкости и освобождения охватило меня, и, не помня себя от радости, я стремглав бросился в успевший за это время опустеть класс.
– А мне латинист вывел двойку, – догоняя меня, сказал Шурка.
Забрав из парты тетради и книги, мы сбежали по широкой лестнице в раздевалку, а оттуда, сорвав с вешалки фуражки, на залитый солнцем гимназический двор, где гоняли футбольный мяч старшеклассники. Помню, мяч тогда подкатился, и Шурка так сильно и ловко ударил по нему ногой, что он пошел вверх, кружась и блестя новенькой кожей.
– Ах, уж эти мне древние языки, – сказал Шурка, и мы отправились на главную улицу. Там мы вскочили на площадку медленно идущего трамвая. Держась за поручни, стоя на солнце, доехали до моста и выскочили на повороте, где вагоновожатый всегда замедлял ход.
– Ты куда? – спросил Шурка.
– Домой. Мать ждет. А ты?
– Я на пристань. Подумаешь, торопиться. И без того дома недоставало историй.
И Шурка сбежал вниз, к пришедшим ранним утром ладьям с заплатанными, желтоватого сурового полотна парусами. Там, под скалой, с возведенными над ней рассыпающимися стенами было наше любимое место. На берегу рыбаки в котле варили уху. Оставшись на мосту, я смотрел вниз, а знакомые ребята мне кричали:
– А ты что же, Федя?
Глядя на них, я колебался, но хотелось поскорее обрадовать мать, и я ответил:
– Скоро, ребята, и я прибегу.
– Приходи к собору, – крикнул мне младший, – там соберемся.
А воздух был чистый и вольный, на воде солнце, впереди лето. Надо сказать, что весна была изумительная, и все, дрожа, переливалось в радостной голубизне, и наш раскинувшийся при слиянии двух рек город казался освобожденным. Был чист и ясен вознесенный на высоком мысу, над рассыпавшимися местами серыми крепостными стенами белый собор. Под ним искрилась река, а на рыбьем базаре бабы зачерпнутой из реки водой обмывали лотки. А весна сияла в необычной свежести, идущей от согревающихся вод, в веселом водном раздолье радующихся слиянию рек.
Охватившее меня чувство легкости стало еще сильней, когда, перейдя мост, я направился к дому. Я шел, улыбаясь, играя перетянутыми ремешком книгами, и лица встречных видел через свою радость.
Жили мы на одной из тихих улиц, выходящей садами к реке, с канавами, зарастающими тысячелистником, зеленой ромашкой. Подходя к дому, я пожалел, что не увидел в подвальном этаже зозулинского дома растрепанного и босого дворника Платошку. Жаль было, что у ворот меня не встретила молодая длинношерстая, принадлежавшая Зозулину собака. Квартира Платошки, в открытое окно которой я на ходу заглянул, была пуста.
И вот так, предчувствуя, какое лицо будет у мамы, когда я ей все расскажу, я добрался до деревянного, посеребренного временем дома с мезонином, с липами у ворот, вбежал на крыльцо, бросил в прихожей на диван фуражку и книги и радостно позвал маму. Но никто не откликнулся.
«Что же это? – остановившись в гостиной, подумал я, – и в столовую дверь открыта, и в маминой комнате нет никого». Я хотел подняться наверх, но в это время из комнаты сестры с полными руками постельного белья показалась Ириша.
– Феденька, – весело сказала она, – все в саду. Зоечка приехала.
Я просиял:
– Зоя!
– Да не одна, – говорила, стоя на верхней площадке, всегда веселая и простая, взятая мамой из деревни Ириша, – она и подругу с собой привезла.
Это было так неожиданно, что я растерялся, а Ириша продолжала:
– С подругой, Кирочкой, они вместе учатся и дружат. И до чего же Зоя-то стала бедовая. А та живая, веселая такая. Барыня сказала, все лето будет у нас гостить. Приехали они голодные, теперь успели уже и чаю выпить, и закусить. Вещи ручные с собой привезли, а за тяжелыми барыня Платошку услала на вокзал.
Двери на веранду были открыты, и я, посмотрев на веселое лицо Ириши, бросился в сад.
По письмам Зои я знал, что у сестры есть подруга. И вот там, в глубине нашего большого, запущенного сада, за беседкой, где все заросло высокой, светящейся от солнца травой, я увидел маму и Зою. В траве, лая, носилась собака, и веселый голос звал ее:
– Лада!
Это Кира играла с моей Ладой.
– А вот и Федя, – закричала сестра, выбегая навстречу.
Она была худенькая, рыженькая, лицо ее было в веснушках.
– А ну-ка, покажись! – стремительно поцеловала меня и, схватив за руку, заговорила сестра. – Мама, он страшно худ. Кира, полюбуйся на сокровище наше.
И я увидел темноволосую, горячую Киру. Раскрасневшись, она смотрела на меня карими смеющимися глазами, а Лада, подбежав ко мне, просила поиграть с ней еще.
И до того все было неожиданно, что от возгласов сестры, от широко открытых Кириных глаз я смутился и забыл, что хотел рассказать маме. А Лада просто с ног сбивала меня. Но тут мама пришла мне на помощь.
– Ну, Феденька, как? – спросила она.
– Перешел!
– Слава Тебе, Господи!
– Наконец-то без переэкзаменовок, – прибавила Зоя.
– Да, – сказал я, – а по геометрии я чуть было не срезался.
– Ведь геометрии, Феденька, ты и боялся. Вот все мне говорил, – обращаясь к Кире, сказала мама, – что и с алгеброй у него нелады.
– Константину Константиновичу я обещал летом заниматься.
– А мы тебе поможем, – сказала Кира.
– Да, – подхватила Зоя, – будем с тобой заниматься.
Я все еще не мог опомниться, смотрел на маму, на Зою, но видел Киру, и мне казалось, что она всегда играла с Ладой в нашем саду.
– А мы Кире весь сад показали, – говорила сестра, стоя вместе с ней на насыпной горке, где особенно хорошо росла нетронутая косой высокая трава. – А ты у нас не заскучаешь? – прибавила она, обращаясь к Кире.
– Что ты! До чего у вас, Прасковья Васильевна, привольно и хорошо, – сказала Кира, – сколько свежести, веселой листвы.
– Да, не чувствуешь, что живешь в большом городе, – ответила мама.
– Ну, город наш, – сказала Зоя, – не такой уж большой.
– Какой ни есть. Живем у реки, за садом сад, по утрам, как в лесу, птицы поют. Домов каменных мало, а зелени много.
– Вот за березами река блестит, – сказала Кира, – а мне все кажется, что это Нева. До чего чисты ее воды. И как там по вечерам хорошо. Последние вечера нельзя было от Невы глаз оторвать. А она, уходя к морю, всеми цветами вечерней зари отливает.
– Вот Федя гимназию окончит, – сказала мама, – туда учиться поедет.
– Да, – согласился я.
И вот начались рассказы. Лекции у них давно уже кончились, и они перед отъездом побывали на островах, доехали на трамвае до конечной остановки, а потом лесной дорогой отправились к заливу.
– Шли, шли, – говорила Кира, – безлюдье, кукушки, ветреница цветет, а дальше сосны, мох, все заросло, болотисто, дико.
Я жадно слушал рассказ о том, как они заблудились. Говорила Кира, и карие глаза ее были широко открыты и горячи. Лада забегала вперед и на нас смотрела, не понимая, почему мы все время останавливаемся.
– Думали, от усталости свалимся, – продолжала Кира. – По вечерам на набережной так светло – словно все в каком-то тридевятом царстве, перестаешь чувствовать себя прежней. А Нева в этом году изумительная.
Тут от них мы узнали, что в последний день они были в Эрмитаже, где, по словам Киры, столько скифских древностей, золота в стеклянных витринах. Завтракали на набережной, сидя на гранитной лестнице, обогретой солнцем.
– Вот ведь и ночью в поезде почти не спали, – сказала мама, – то-то я думаю, отчего это Зоечка так возбуждена.
– Прасковья Васильевна, это я виновата, ехали мы со студентами, я Зою увела в коридор. Опустили окно, луга в росе, ветер сон отогнал. Так всю дорогу и не спали.
– Вот вас одних-то и отпускай.
– Прасковья Васильевна, мы обо всем говорили. На остановках слышно было, как жаворонки поют. – Ее глаза искрились, Лада увивалась около ее ног, и я чувствовал, до чего, подружившись с ней, изменилась Зоя.
– Так-то постепенно все и открывается, – говорила мама. – Да что же это я вас по саду вожу? Сейчас пообедаем, Ириша постелет, вы и приляжете.
– Мамусенька, – закричала Зоя, – ни за что не уснем! – И Зоя бросилась целовать маму. – Мы ей все покажем, – порывисто говорила она.
– Вот, Кира Сергеевна, – рассказывала мама, ведя нас яблоневым садом, а одета она была просто, с черной шелковой косынкой на плечах, – вот это дерево приносит яблоко с желтинкой, эти сорта сохранились от старины. Наливное. Когда оно готово, все в потоках прозрачных. Если захотите откусить, то осторожно, может и кофточку соком залить. Вот вы их попробуете.
– Спасибо, Прасковья Васильевна, но когда они поспеют, меня здесь не будет, – ответила Кира. – Отец написал, что через две недели я должна приехать к нему в Таганрог.
– Кирочка, мы и через месяц тебя не отпустим! – закричала Зоя. – Правда, правда! Ни за что на свете я тебя, Кируша, не отпущу. Твои чемоданы запрячу – вот увидишь, не отпущу!
Кира после бессонной ночи была немного бледна, но до чего же открытая, жадная до впечатлений она была. И мне в этот день показалось, что мы с Кирой уже давно знакомы.
– Вот там, Кира Сергеевна, малиновое, – показывала мама, – яблоки не только малиновые снаружи, но и внутри у них все в розовых жилках.
– Мамино любимое, – сказал я.
– Поспевая, они на дереве от зрелости колются, – объяснила мама, – на том месте, где у них родинка большая есть.
Мы показали Кире старые яблони – анисовки, шампанки, титовки, овечьи носы. Показали мамину малину.
– Вот какая крупная, – с гордостью сказал я. – Темная, темная, прямо бархатная.
– Ну, пойдемте-ка к дому, – сказала мама.
А мы уже дошли до клубничных гряд.
– Вот все не соберусь выкопать, – заметила мама, – надо бы клубни знакомым подарить, у них земля суглинистая, да все забываю. Ягоды должны быть ананасные, а вот не растут, земля у нас черная.
– Разве это плохо?
– Малина у меня хороша, для деревьев и цветов эта земля полезна, а клубника будет на ней до осени цвести, а потом в усы пойдет. И ни одной ягодки. Суглинок нужен, чтобы ягоды были. А земля наша старинная, она за века не истощена. Слишком жирная старинная земля. Денежки серебряные, тоненькие, как чешуя, я в ней нахожу.
Нас встретила Ириша.
– Барыня, – спросила она, – какие наволочки взять?
– Я сейчас сама с тобой поднимусь, – ответила мама и, обращаясь ко мне, мягко сказала: – Вот ведь дело какое. Придется, Феденька, тебе комнату свою Кире уступить.
Все для меня в этот день оказалось неожиданным.
– А куда же я перейду, мама?
– Поселим тебя в Ванюшиной комнате, – ответила мама и, перед тем как подняться с Пришей, рассказала, что мать Киры умерла, оставив трехлетнюю дочь у бабушки на руках, что все детство Кира жила то у бабушки на Днепре, то у деда на берегу Азовского моря. Потом отца перевели в Таганрог, он инженер, вечно в разъездах. Кира лето проводила с отцом у Черного моря. А о том, что сестра привезет Киру, мама с Пришей знали давно.
Книги мои и тетради так и остались в прихожей. Из кухни пахло жареными цыплятами, борщом. Я понимал, что сестра не хочет расставаться с Кирою, а моя комната была рядом с Зоиной. Когда я поднялся по деревянной лестнице, Ириша перестилала постель. Из ящика письменного стола я забрал свои тетрадки, рисунки.
– О, сколько книг, – говорила Кира.
– Нет, ты, Кирочка, посмотри расписание.
– Боже мой! Вставать в семь утра, – читала Кира, – делать гимнастику. Плавать.
– Если бы ты знала, до чего он любит поспать.
Кира смеялась.
Сняв расписание, я набрал много тетрадей и книг.
– Федя, не донесешь, – сказала мне Кира.
От смущения я ничего не ответил, а выйдя на лестничную площадку, столкнулся с Иришей.
– Ай, ты! – воскликнула она.
И вот тетради и книги посыпались по лестнице, а среди них был и дневничок с вложенными в него листками. Стукнувшись о перила, он раскрылся, и вниз полетели листки с начисто переписанными стихами.
– Вот беды-то наделала, – вскрикнула Ириша, а услышав ее возглас, прибежала Зоя и начала листки подбирать.
– Зоя, не трогай, – кричал я, положив книги на ступеньку, – отдай!
– Что это? Кира, это стихи!
– Я тебе запрещаю читать!
Но Зоя превратилась в девчонку.
– Ты невозможна, – сказала ей Кира.
– Послушай, что про тебя Кира говорит!
– До чего ты несносный, – сказала Зоя, отдавая листок.
– Ты не сердишься, Федя, что я заняла твою комнату? – спросила Кира.
– Он счастлив, – ответила за меня сестра, – будет жить в комнате старшего брата.
Комнату брата мама оберегала, в ней все оставила так, как было полтора года назад, перед его отъездом в Москву. В его комнате с высоким потолком было просторно. На деревянных полках стояли книги – о севастопольской, турецкой, японской и балканской войнах, труды по географии, путешествие Пржевальского. Воздух был свежий от чистой листвы, был тогда расцвет травный, обилие листвы и некошеных трав.
– Боже, – сказала, подойдя к открытому окну, Кира, – до чего здесь хорошо, какой у вас сад!
С ее приездом все изменилось. Моя комната наверху была ее счастливой жизнью как бы изменена и согрета, сад, на который она из окна смотрела, – сад с дуплистыми яблонями, в которых было столько гнезд, казался преображенным.
Я слышал надо мной ее шаги и ее голос. Я заснул на походной койке при открытых окнах, и прохлада наполняла мою комнату ночной свежестью трав. Сознание того, что в моей комнате Кира и ее окно открыто в тот же сад, даже во сне наполняло меня ощущением счастья.
Рано утром меня разбудил Кирин голос:
– Федя, чай на столе. Безбожно так долго спать!
Вскочив с постели, я бросился к окну. По волосам моим пробежал утренний холодок, и мне показалось, что не только в саду, но и в доме у нас стало светлее. Кирин голос доносился уже из столовой. Я быстро умылся и выпрыгнул из окна.
– Иди сюда, – закричала мне Зоя, – вот смотри, это настоящее малороссийское платье.
Тут была и круглолицая Ириша, прибежавшая из кухни с мокрыми руками и полотенцем.
– Вот так наряд, – говорила она.
Я увидел у веранды, в солнце, горячую, темноглазую Киру в малороссийском платье.
– Тебе нравится? – спросила она.
– Да, – ответил я ей, забыв о чае.
– Это я упросила ее одеться, – говорила сестра. – Настоящее малороссийское платье!
– Не платье, – смеясь, ответила Кира, – а рубаха – сорочка, как у нас говорят.
– Ох, сорочкой ее у вас называют? – подхватила Ириша.
– А юбку – спидницей, – прибавила Кира.
– Что же это юбки, торговые? – продолжала расспрашивать Ириша.
– Нет!
– А глажены они как?
– Разглаживать у нас все мастерицы. Сидит в хате, смачивает водой, сложит вот так, – показала Кира, – тянет, чтобы были ровные складки, а потом на печку положит, складка в складку, и сушится она на печи, чем-нибудь тяжелым прижатая. Так разгладить в городе никто не сумеет.
– Ай, ты! – с восхищением восклицала Ириша. – Смотри, Зоечка, рубашка вышита крестиком на груди, на плечах и по вороту круглому.
– Они без канвы вышивают, – сказала Кира, – и мережки делают.
– Что такое мережки? – спросил я.
– Погоди, не мешай, – нетерпеливо сказала сестра.
Волосы Кирины были в солнце, а в ее глазах было столько жизни, что сердце мое облилось трепетным горячим теплом. Она стояла, нетерпеливая и веселая, в этой мягкого полотна малороссийской рубашке с красивыми вышивками на рукавах, с ожерельями на шее, и мне казалось, что веселей становился, радуясь и играя, солнечный свет, чище и свежее – зелень нашего старого сада.
– Что же, – спрашивала Ириша, – там у вас и в будни в таких нарядах ходят?
– Ходили, было так, а теперь это праздничное.
– Знаешь, – говорила сестра, – когда ставили в гимназии «Майскую ночь», мы все перерядились, наплели венков из бумажных цветов, надели рождественские синие, золотые, красные бусы. Я маму и Федю пригласила, гимназистки наши парубками переоделись, танцевали, пели, гуляли в серых смушковых шапках, с девчатами обнимались. Тогда все, даже дурнушки, стали красивыми. Сколько мы накупили желтых, синих, белых и красных шелковых лент!
– Ленты, – сказала Кира, – у нас носит невеста.
– Вот как?! – воскликнула Зоя.
– Просватанная? – спросила Ириша.
– Да нет, еще вольная, – ответила Кира. – На базарах веночки цветные в селах бабы продают, но непременно надо двенадцать лент, таких вот широких, – показала она. – Сорочка вышитая, юбка пестрая, а на груди монисты. Больше всего у нас любят кораллы и дукаты. У бабушки была большая серебряная монета китайская и дукаты турецкие.
– А сережки какие? – спросила Ириша.
– Серьги носят кованые, большие. А на голове венок, цветы свежие. Утром в поле пойдет, веселенький веночек сплетет, и сама рада.
– А какие цветы?
– Барвинок.
– Мы и не знаем такого.
– Цвет у него синенький, крестиком, он по земле тянется, вместе с листьями хорошо вплетается. А то из ромашек и васильков венок сплетет, в поле нарвет, вплетет туда и пшеничный колосок, и любисток. До чего я Полтавщину, Черниговщину и Днепр люблю! Народ веселый, хороший. Вечером, возвращаясь с поля, хохлушки затянут песню и не умолкают, а там и парубки где-то поют. С поля придут, поужинать собирают, а потом сойдутся у хаты – одна затянет, другие к ней подстают. Ах, если бы вы видели, как по вечерам они иногда разыграются. За словом в карман не полезут. Пляшут и гуляют, поют.
– А казачки как одеваются? – спросил тут я, вспомнив рассказы Киры за ужином.
– Ах, и бедовые донские казачки, они в Новочеркасске здоровые и рослые, но наряд свой давно потеряли.
– А под Таганрогом?
– Там уже все перемешалось, одеваются просто.
– Везде побывала Кира, – сказала Зоя.
– Феденька! – услышал я мамин голос. – Я смотрю, а его и след простыл.
– Тут он, барыня, тут, – сказала Ириша, – слушает, как о нарядах говорим.
– Даже чаю не попил, – сказала мама.
– Выпрыгнул в окно, прибежал, – сказала Зоя. – А мы собрались в город.
– Я сейчас, подождите, – попросил я, бросившись на веранду.
– Мы тебя подождем, – сказала Кира.
– Пей чай, но побыстрей, – пригрозила мне Зоя, – а то и без тебя отправимся.
– Нет уж, – закричал я, – Кира мне обещала.
Я съел бутерброд, выпил стакан чаю и, найдя валявшуюся со вчерашнего дня в прихожей фуражку, бросился в сад.
– Наконец-то, – сказала Зоя.
Мы пошли берегом. Утро было с легкими облаками. Заглянули в гимназию. Двери были открыты, и в коридоре висели списки перешедших в следующий класс.
– Федор Косицкий, – прочла Кира.
– Как он сияет.
На гимназическом опустелом дворе прыгали воробьи.
– Федя, почему ты так затягиваешь пояс? – говорила Кира, когда мы шли к набережной.
– Кому-то он подражает, – сказала Зоя.
Она была худенькая, остроносенькая, зеленоглазая, с очень светлыми волосами. А я за зиму вытянулся, стал с сестрой почти одного роста.
Кира смотрела на меня, насмешливо блестели глаза, и я чувствовал, что она меня отлично понимает – такая же веселая, вольная. Если бы не сестра, я увел бы ее из города в дикие места, на мысок, в устье, а то и за реку.
А Кира все хотела видеть. В это утро мы показали ей наш бульвар, главную улицу и городской сад с летним театром – место утренних и вечерних гимназических встреч, Анастасьевский сквер, ботанический сад, деревянный дом, в котором останавливался Пушкин.
Поднялись к собору, и там я увидел мальчишек и беспечного, еще более удалого Шурку. Мальчишки дразнили сердитых гусей соборного священника. Белые гуси, вытянув шеи, шипели и, приподнимая крылья, наступая на мальчишек, оборонялись, как те римские гуси, которые от врагов Рим спасли.
– Ты что же, – отведя меня в сторону и поглядывая на Зою, которая его терпеть не могла, сказал Шурка, – что же ты вчера не пришел?
– Сестра с подругой приехали.
– С девчонками связался, – сказал Шурка. – А ну, ребята, отсюда, – не глядя на меня, приказал он. Я остался, а он убежал.
– Федя, – позвала меня Кира. Она видела, как Шурка исподлобья на нее поглядел и, поговорив со мной, убежал, и подошла к обрыву, чтобы посмотреть, как они спустились.
Зоя была довольна, что мальчишки убрались. Она не переносила уличных ребят, что ко мне прибегали играть.
– Надо быть Шуркой, – говорила она, – чтобы набрать такую грязнолапую рать.
Игр моих в саду с мальчишками она не терпела.
– И ты стал какой-то растрепанный, – говорила она в прошлом году, – и приятели у тебя оборванцы.
Прибежала Зоина старая подруга Женя, старшая дочь дьякона, чрезвычайно любопытная, с сестрой, еще донашивающей гимназическое платье, и Зоя познакомила их с Кирой. Начались расспросы, упреки, почему Зоя не писала.
– Впечатлений так много, – говорила как бы в упоении Зоя.
Зоя с Кирой рассказывали им то, о чем вчера в саду и за ужином не досказали – о лекциях, профессорах. А дочь дьякона провела зиму здесь, слушала и завидовала. На Бестужевских курсах у них была своя жизнь.
– Ну, вот, – говорила Зоя, – до чего хорошо самостоятельно жить – узнавать невероятно много, бегать по выставкам и музеям, слушать лекции.
Кира Зою на этот раз слушала улыбаясь и смотрела на меня и на подруг.
– Лекции кончились, а старшекурсники отправились за границу. В Италию. Сейчас они уже во Флоренции. А поездку эту устроил Айналов, он читает лекции об итальянском искусстве. С Айналовым они будут осматривать в Италии музеи и города. Ах, как бы я хотела попасть в Рим и Милан!
– Но для этого, Зоя, надо быть ученицей Айналова, а мы на его лекции только забегали.
– В будущем году и мы запишемся к нему.
– В Италию отправились те, которые уже не первый год на курсах, – возразила Кира. – Поехали те, кого он возил на север, осматривать старинные русские города. Не знаю, в каком году, прошлым летом или раньше, Айналов возил сюда своих учениц, все тут осматривал, и мне старшекурсницы говорили, что они побывали и в монастыре за рекой, где профессор показал им фрески, и в других церквах. Он даже прочел лекцию, как в библиотеке монастырской была найдена знаменитая рукопись «Слова о полку Игореве».
– Я об этом, Кирочка, не слышала. В каком же это монастыре? У нас их два за рекой.
Я не знал, что профессор был у нас со студентками у собора и все им показывал.
Начались расспросы подруг и быстрые рассказы – кто за кем ухаживает, что было зимою, какие вечера, кто куда поступил, вышел замуж. Зою интересовало все, а мы с Кирой отошли, и я рад был, что она хорошо и вольно себя чувствовала только со мной.
Если смотреть от собора, река блестела, находили на нее облака. Мы в ветру были, я, как и босые наши ребята, наш город любил, а она стояла свободно и слушала, что я ей говорил. Вчера, после ужина, Кира рассказывала, сидя на дворовом крыльце, о юге, а я ей теперь говорил о нашем городе.
А город наш раскинулся при соединении рек и в языческие времена был священным, потому что здесь была дубовая священная роща, а наша река была одним из малых водных янтарных путей из варяг в греки. В глубокой древности город был вольный, и арабские купцы здесь лен, и меха, и воск покупали, и мы не только диргамы серебряные находили в земле, когда во время половодья вода берега подмывала, но и англо-саксонские денежки. Сюда приходили чужие ладьи из чужих морских городов, а по реке нашей когда-то поднимались в Ганзейский союз.
И на другом берегу, неподалеку от полковых казарм, находились когда-то ганзейские склады, и герб нашего города – бегущий золотой барс – был в числе гербов ганзейского союза: золотой пятнистый пардус бежит, из облака раскрывается золотая рука, сея золотые лучи, потому что в летописях сказано, что в те времена, когда Киев не был крещен, Ольга с того берега увидела на холме со священным дубом падающие с небес три солнечных луча, и вот куда лучи упали, там был построен собор Святой Троицы, и с тех пор Троицкими стали и все наши воды.
И я тут с Кирой в первый раз почувствовал вдруг и увидел, как будто мои глаза шире открылись. Город без реки для меня просто не город, и она любовалась нашей рекой – та блестела внизу, под обрывом, под осыпавшимися уже, сложенными из серого камня стенами.
– В таком городе, – стоя на свежем ветру, говорила она, – я еще никогда не бывала.
И я любовался ею, думал – до чего хорошо с нею и как свободна она. Она расспрашивала о нашем городе, а Зоины подруги удивлялись, что это она нашла особенного, Зоя никогда ничего особенного здесь не находила.
– Куда вы пойдете? – спросили подруги.
– На базар, – ответила Кира.
– Что же там особенного? – спросили они удивленно.
Потом мы спустились и пошли на наш приречный рыбный базар, где ловцы выливали рыбу, черпали деревянными ковшами ее из ладей, выливали лопатами в корыта – как живое серебро, – озерные щуки, колючие и зеленовато-радужные ерши, расписные, как чашки, окуни, и она была своя среди древней простоты деревенской, бабы ее расспрашивали об уроках, любовались, а она чувствовала себя свободно, видела то, чего не замечала сестра.
Подруги Зое сказали:
– Нет, ее нельзя назвать красивой.
Но я ни у кого не встречал такой открытой, радостной простоты. Независимая, свободная, а брови тонкие, глаза горячие, и жажда радости в них бесконечная. В них каждое мгновение что-то вспыхивало, играло, менялось, в них было много золота, искристого света.
Она завоевала сердце Ириши тем, что была открыта и проста, не то что наши барышни городские.
– Ну, до чего Кира горячая и веселая.
– И Зоя, подружившись с нею, изменилась, – говорила мама, – куда делись Зоюшкины капризы: этого не желаю, того не хочу.
И действительно, Зоя за зиму ни разу не простудилась – в таком радостном волнении они там с Кирой жили. Под влиянием Киры она просто переродилась. К изумлению своему, мы увидели новую Зою, в детстве она была похожа на беленькую лисичку, слабенькая, мнительная, первой в гимназии заболевала, пропускала часто уроки.
Мама Киру как родную приняла, и у нас стало весело как никогда, а мама все делала, чтобы нам жилось легко, и я оставался, а раньше дома меня было не удержать, я обедал, всегда торопясь, чтобы поскорее во все старое переодеться, потому что много у меня было мальчишеских дел.
В то знойное утро Кира не пошла купаться. Она поздно проснулась и казалась бледной. После чая поднялась к себе наверх. Она чувствовала себя слабой, усталой, чего я не только понять, но даже допустить не мог.
– Кире нездоровится? – спрашивал я в полном недоумении. – Вот уж на нее не похоже.
– Мама, ты только послушай его, – сказала насмешливо Зоя, – он себе этого даже представить не может.
– То-то с непокрытой головой все время бегать, – сказала мама. – С кем не бывает, посидела на солнце, голову и напекло. Какой же ты чудак, однако, Феденька, – улыбаясь, сказала мама.
– Ах, мама, он так вытянулся за это время, что я иногда забываю о его возрасте. Ах, отстань, – сказала сестра, которой я сказал, что хочу пойти к Кире. – Еще набегаешься с ней, пусть побудет одна.
И вот я, пожимая плечами, все удивлялся. Зелень потемнела по-летнему, даже и в тени деревьев было жарко, и я ушел на Степанов лужок. Много было упреков, Шурка поначалу и разговаривать со мной не хотел, но все обошлось, мы вместе с ним купались, ныряли, а когда я вернулся домой, то на веранде увидел Зою, Зазулина и огорченную маму. На стол не накрывали.
– Ты ничего не слышал? – спросила Зоя.
– А что?
– Вот ведь наказание Божие. Как у него рука поднялась? Гимназист убил эрцгерцога.
– Какого герцога?
– Австрии. Фердинанда.
Я ничего еще не понимал. Мама, сняв очки и положив их на колени, сказала:
– Молодой, девятнадцати лет.
– Да разве он был один? – вставая, сказал Зазулин.
– Гимназист?
И тут я узнал, что герцог австрийский – а я о нем никогда не слышал – наследник Франца-Иосифа.
– Еще удивительно, как этого гимназиста австрийцы от толпы оторвали, от самосуда избавили.
– Да что с того, погибший он человек, – сказала мама.
– Да, за такие дела не помилуют, да и сербам будет плохо, ведь что там ни говори, Австрия не маленькая страна, а убит наследник престола.
– Вот уж беда. А где же, Степан Васильевич, город Сараево?
– Феденька, – попросил Зазулин, – принеси-ка ты нам балканскую карту.
Толком еще не разобравшись в том, что произошло, я побежал в комнату брата и там, среди книг и вырезок, нашел подклеенную холстом и сложенную карту. Пытаясь развернуть ее по пути, я увидел Киру.