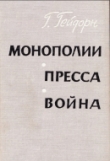Текст книги "Иван-да-марья"
Автор книги: Леонид Зуров
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Дышалось здесь так-то легко. Я, убежав вперед, пробовал голос, и мы с братом перекликались, а Кира, выпрямляясь и поправляя волосы, слушала эхо.
– Хоп, хоп, – отвечал мне брат. – Так охотники дают о себе знать, – объяснял он Кире. – Я здесь. Стою на месте. Или же – идите ко мне.
– Ау, – кричала Кира с удовольствием, и эхо отвечало то ей, то брату. И я пробовал голос.
– Я как-то растерялась, закружилась, – потом сказала сестре Кира, – и даже не представляю больше, откуда мы пришли.
– Да, – обращаясь к брату, сказала Зоя, – где мы теперь? Мы не заблудились?
– Нет, – отвечал он, – мы на правильном пути.
А Кира смеялась, ей было все равно.
– Как хорошо, – говорила она, – сегодня заблудиться. Я у вас в гостях, а где север, где юг, уже и не знаю. Я вам верю, ведите, – говорила она брату и была какая-то легкая и необыкновенно открытая, а он был счастлив, и мы взбирались вслед за ним и скользили по хвое, сбегая. И если он останавливался, то место действительно было хорошее. Он нас так и вел и узнавал: да, ничего тут не изменилось. Я не видел ни у кого таких глаз – светлых, еще более посветлевших от летнего загара и как бы принявших в себя за день много полевого простора и солнца. Таким его и запомнил.
– Куда же мы теперь? – спросил и я, не узнавая места.
– Куда? – улыбаясь и не глядя на меня, ответил он. – Я вас поведу к деду за медом.
– Погоди, Ваня, к какому деду?
– А вот увидишь.
– Мы еще не были здесь, Ваня, я не помню, чтобы мы здесь когда-либо были, – сказала Зоя.
– Как же ты забыла эти места? Вот там, вдали, деревня, из которой взята Ириша. Вон Забавино, тут у нее всюду родня.
– Боже, а я не узнала! – воскликнула с радостью Зоя.
– Да мы подошли к ней с другой стороны.
Сосны редели, и открывались солнечные ржаные поля. Да, мы всегда входили в бор с другой стороны, в эти места обычно не заходили, и мы не в Иришину деревню пойдем, а хлебами, полями отправимся к дедку на хутор. Это ведь с его пасеки за взятком сюда в августе пчелы летят.
– Начнут брать, когда вереск зацветет. Тут в августе, – говорил Кире брат, – вереск до того полон меда, что даже брызжет на сапоги, когда по нему идешь.
Мы вышли на проселок, а там начинались ржаные поля – вначале под бором жидкая рожь, и на этих реденьких полях было много отцветающих и выгоревших на солнце васильков, а потом брат повел нас по мягкой, пыльной дороге, и после бора все было полно светом. День был просто удивительный по обилию солнца и света. Это тепло, исходящее от земли, и дуновение ветерка, и солнце сильное, и золотистый цвет спелой ржи, и свет облаков – вот все, что и сейчас, как и течение наших рек, таинственно живет в моей благодарной памяти и крови, ибо и кровь мою воспитывала наша земля и речное течение. Вот за что всегда сердце мое благодарило родную землю в самые тяжелые дни.
Мы медленно шли, а тут было чудесно. Сухо и горячо шумела золотистая рожь, с полей доносило сытный и телесный даже запах ржаных зрелых хлебов.
– Там уже начали жать, – сказал брат.
Он стоял, ожидая нас, а я помогал Кире и сестре собирать васильки.
– А помнишь, – сказала Зоя брату, – ты когда-то нас уверял, что все наши кузнечики по-китайски разговаривают.
– Да, – сказал я, вспомнив тот разговор, – кузнечики у нас говорят по-китайски.
– Как же? – спросила Кира, посмотрев на брата.
– Тише, – сказал я, – слушайте внимательнее.
– Но что же они по-китайски говорят? – спросила Кира, и радость играла в ее горячих глазах.
Брат, улыбаясь, предоставил мне сказать то, что когда-то долго нас забавляло.
– Чши-чш-чши, – сказал тогда я.
– А ведь и правда, – вскричала Кира, – но до чего же они торопливы. Разговаривают, веселятся и щелкают на лету.
А дальше, склоняясь, войдя в рожь, серпами жали бабы. Начали-то они, видно, на восходе, когда брат был еще в поезде, а мы спали, и, видимо, хорошо потрудились. По снопам видно было, какое тут тяжелое и доброе зерно, и уже снопов положено много, а тут же, у кустов, ребенок в тени сучил голенькими ножками на маленьком одеяле, и стояли крынки, покрытые завернутым в платки хлебом.
– Бог в помощь, – подходя к жницам, сказал брат.
– Спасибо, – ответило сразу несколько голосов.
– Вот и барышни помогать пришли, – распрямившись, сказала одна из них, немолодая, но, видно, веселая.
– А что же, – ответила ей Кира, – дай-ка мне серп. Я тебе помогу.
– Барышня, милая, – ответила та. – Да ты руку серпом порежешь.
– Ну уж нет, – ответила Кира.
– Да дай барышне серп, Агафья, – сказала та, что помоложе. – Пусть бабью работу и она испытает.
А уже все они смотрели на нас и на Киру. Веселая, полная вызова и задора, она передала мне васильки.
– Ну, что же, – сказала тогда пожилая баба, поглядев на своих и протягивая ей серп, – вот он, возьми.
Кира, оставив нас, под смех и замечания взялась помогать, и мои опасения, что у Киры не получится, сменились удивлением. Зоя просто остолбенела, и крестьянки, сначала сделав передышку, смотрели, делая замечания. И мы слышали:
– Смотри-ка, – говорила одна, – правильно захватывает.
– Ну и ну.
– Ай да барышня.
– Вот помощницу-то нашли.
Она, захватывая стебли, подрезала их серпом, клала, потом быстро скрутила свясло и перевязала свяслом сноп. Брат, улыбаясь, смотрел на Киру, он любил быстроту, легкость и во всяком деле сноровку, и он, как потом нам сказал, вначале боявшийся за нее, теперь с удовольствием смотрел, до чего она быстро и ладно жнет. Хороша она была, когда разошлась, чувствовалось, как все ее тело во время работы развеселилось, а две бабы помоложе взялись рядом с нею жать. Мы ею любовались.
– Кира неожиданная, – повторяла сестра, – что я тебе говорила, ты еще не знаешь ее.
– А ты что же не помогаешь? – спросила тут одна из баб Зою. – Вот, бери-ка мой серп.
– А я не умею, – растерянно ответила Зоя, смутилась и растерялась как еще никогда.
– Вот так поработаешь недели две, – говорила баба брату, – ржи накланяешься, и во сне-то потом от солнца да от соломы рябит в глазах, на второй день и не разогнуться.
Кира связала пять снопов, придавив коленом, опоясала скрученным свяслом и оторвалась от работы совершенно счастливая. Распрямившись и отдав бабе серп, она стояла вся раскрытая, свободная, большеротая, как сестра потом говорила, ну, совершенная прелесть и радость, и, откинув волосы знакомым движением – тыльной стороной руки, посмотрела на нас.
Я опять пожалел, что она не надела малороссийского платья. Я хотел, чтобы брат ее увидел с кораллами – такой, какой я увидел ее тогда у крыльца. Казалось, она могла тут с бабами так и остаться и с ними все поле дожать. И надо было видеть, какой радостью блеснули ее глаза, когда они ее похвалили.
– Ну, спасибо, вот и я передохнула, – сказала баба, – а то ведь за утро умаялась.
Тут из-за кустов вывернулась босая девчонка в едва доходящем до колен выгоревшем розовом платье, которая, как оказалось, пряталась за нами и все видела.
– Ах, это ты! – воскликнула Кира и бросилась к ней, а та отбежала.
– Я, – она застеснялась.
– Чего же ты тогда в бору испугалась? Иди-ка сюда.
– Да не бойся, – сказали бабы, но она ускользнула, вырвалась и отбежала в сторону.
– Совсем дикая, – сказала Зоя.
– Как зовут-то тебя?
– Манька.
– Как нам до хутора добраться? – спросил брат крайнюю женщину.
– Вот тут идет дорожка на хутор к деду, да ее засеяли.
– Дедушка Герасим-то жив?
– Слава Богу, жив, все со своими животинками возится. А вы и его знаете?
– Бывал у него.
– Манька вас доведет. Манька, да куда она запропастилась.
– За меня прячется.
– Манька, ты им дорогу покажи.
Она кивнула головой.
– Спасибо, барышня, что нам помогла.
Девчонка быстренько повела нас на хутор, все время оглядываясь на Киру, а та не переставала задавать вопросы:
– А ты чья?
– Савельева. Ишь ты, сколько набрала цветов.
И вот так, крутясь и вертясь, вприпрыжку, она вела нас, все оглядываясь на Киру и убегая от нее, когда та хотела ее поймать, а отбежав, останавливалась, глядя на нас, задорная, босая, со смеющимися глазами.
Маша сказала:
– Вот он, дедкин хутор.
Перед хутором, где начинались кусты при дороге и посаженные молодые липы, оставив нас, она убежала вперед.
– Ты куда, Маша? – спросила Зоя.
Да только мы ее и видели, она, бросив нас, унеслась, а когда мы подошли к изгороди, то нас уже встретил простоволосый, худенький, в тяжелой льняной рубахе с подбоем на груди и плечах и в таких же портках, босой, обстриженный клоками и похожий на подростка старик.
– Здравствуй, дедушка Герасим, – сказал ему брат.
– Здравствуйте, други мои, здравствуйте, ваше благородие, гости дорогие, – кланяясь, ответил брату старик.
Около деда, взяв его за рукав, девчонка незаметно толкала его и что-то шептала.
«Дедка», – говорила ему Маша.
Глаза его весело смотрели на брата и на нас из-под легоньких бровей.
– А где жница-то наша, та умница? – спросил тут он, видно, все уже узнав от девчонки. – Где же та барышня, что бабам моим жать на полосе помогла?
– Дедка, – сказала тут Маша, указав на Киру глазами.
– Как звать-то ее?
– Кира, – подсказала Маша.
– А ну-ка, Кира, покажись, какая ты есть. Откуда же ты, донюшка моя, такая?
– Я, дедушка, дальняя.
– Мы учимся вместе. Это моя самая большая подруга, – сказала Зоя, – Кира у нас это лето гостит.
– Да где же ты жать рожь по-бабьи и прясло перевивать научилась?
– Девчонкой я каждое лето у бабушки на хуторе гостила, на Днепре.
– Ай ты, – удивленно сказал дед, – мы здесь таких дальних еще и не видели.
Кира была обрадована такой встречей и смущена, и щеки ее разгорелись, видно было, что жар ей трудно унять, а Маша, затаив дыхание, ловила каждое ее слово, следила за каждым ее движением, а когда та протянула к ней руку, быстро спряталась за деда.
Дед нас повел в сад, к вкопанному в землю столу. Брата как старшего усадил за стол, и начались хлопоты. Кира с Зоей пошли в огород за огурцами, захватив ведерко, нащипали огурцов с теплых гряд и отправились их мыть у колодца.
– Ну, Феденька, пойдем со мной, я вот вам сот наломаю, – и он дал мне дымарь, и мешок мне надел на голову с сеткой, сплетенной из конского волоса, и повел меня туда, где на деревянных подпорах лежали у него серые колоды, а другие – стояли. Дед ломал соты и складывал их в обливную чашку, которую держал я. Брат, сняв фуражку, отдыхал. Дед принес сточенный нож, хлеб и сказал:
– Бабы-то у меня все на работе, – и попросил Киру быть за хозяйку.
Кира все делала весело, быстро. Нарезала хлеб. Бутерброды мы отложили и принялись за мед, огурцы и свежий хлеб.
– Хозяйка-то у вас молодая и добрая, – сказал дед, принеся нам деревянные ложки, совершенно такие же, как солдаты носят за голенищем и в лагере хлебают щи из бачков, так я брату и сказал.
– Хлеба я тебе сейчас принесу, – сказала Маша, – я бы и подольше с вами осталась, да мать заругает, – сказала девчонка так, как будто она с Кирой давно подружилась.
– Под кустом лежит ее братишка, – сказала Кира, – ей за то, что она в лес убежала, сегодня от матери уже попало.
Когда дедушка отошел, брат Кире сказал:
– Ему тут все пчелы служат, деду, он тут пчелиный князь, и он лечит от порезов и вередов пчелиной.
– Что за пчелина?
– Вот когда пчелы чистят ульи, то все отверстия закрывают похожей на темный воск душистой пчелиной, она легко заживляет порезы и раны.
Кира резала хлеб, прижимая его к груди, – всех оделила по ломтю, чтобы держать и подбирать мед, когда он будет капать с ложки, и вот помню радость нашу, рассказы и расспросы деда, а она была в движениях свободна, вся преисполнена щедрой радостью, и щеки ее так разгорелись, что не только я, но даже и Зоя любовалась Кирой.
– Нет, ты дотронулся бы, – говорила брату Зоя. – Ну, ты и разгорелась, Кира, прямо огонь.
Живым огнем горели ее щеки, она сама то и дело прикладывала к ним ладони, чтобы остудить.
– Я и сама не знаю, отчего вдруг это. И зной, какой зной.
– А ржицу нашу, – спрашивал ее дед, – у вас не сеют?
– Да сеют, дедушка.
– Скажи ты, – повторял он, – скажи.
– Ну да, на Кубани, – продолжала Кира, – уже серпов нет, с косами выходят только те, у кого жнеек нет. Там везде белый хлеб. Пшеница кубанка, граненые колосья. А мне, дедушка, пишут из дома, – желая его обрадовать, сказала она, – такого обилия никогда еще не было.
– Доброе время, – говорил он, – урожай всюду какой.
– И на абрикосы этим летом будет урожай.
– Что же это за абрикосы такие?
Брат ему объяснил.
– Ишь ты, у казаков.
– На хуторах казаки богато живут.
– А хутор-то у него велик ли?
– Да иной хутор как большое село, тысяч десять, а то прямо город, и учебные заведения есть, и у казаков косилки, сноповязалки.
– Вот Господь дал, – сказал дед.
– И туда к казакам косари из центральной России приходят, – сказала Кира, – и у казаков косят. Я сама видела: косари идут в ряд, начинают старые.
– И у нас по старшине, дочушка, косари идут в ряд, начинают старые, они скажут: ну, с Богом, идут, только слышно: «зит, зит». Вот и до тех мест, значит, наши косари добираются. Что ж, – сказал дед, – у нас лес, пески, суглинок, мы живем беднее, полосы небольшие, жнут бабы у нас по старине, нагибаясь. За день-то рубаха на спине не раз взмокнет. А хлеб свой, не привозной, черный едим. Ну, гости вы мои дорогие, – говорил дед, нас угощая, а мед был теплый, обогретый солнцем, соты, вырезанные из старых дуплянок, из осиновых, уже трухлявых колод, были неровные, потолще к середине и светлей к краю.
– Дедушка Василий, – спрашивала Кира.
– Что, дочушка?
– А почему такой темный мед?
Нам хотелось все знать: с каких полей и где пчелы брали, и дед нам объяснял и показывал, приподнявшись, – какого сбору, брали с лугового цвета, а там по берегу и липа зацвела, вот светлый-то брали с липы.
Солнце играло, прорываясь сквозь листву, и мы ели деревянными ложками то темный, а то светящийся на солнце светлый мед, заедая его принесенными с гряд белобокими и прохладными молодыми огурцами. Брат их резал, и на разрезе выступала огуречная роса, мы их поливали медом и ели, и они, по словам Киры, пахли таким свежим, речным и напоминали астраханскую дыню.
Мед с хлебиной – собранной пчелами кисловатой ржаной и приятной пыльцой с колосьев – и вкусом своим напоминал нам дешевое деревенское лакомство: красные, облитые сахарной глазурью дули на выструганных чистых палочках, дули, облитые вишневой глазурью, в которых был сладкий перетертый хлеб с самым дешевым медом.
– Скоро и хлеб новый будем есть, – сказал брат, – вот как подсохнет в снопах зерно, на мельницу отвезут, обмолотят и положат на стол первый горячий каравай – куда там белому хлебу, ржаной самый душистый. Солдаты говорят – от черного хлеба у людей сила, а белый приятен, да расслабляет.
Мы лакомились, а над нами летали и к нам залетали дедушкины пчелы. Зоя вскакивала и отбегала.
– Да ты только от нее не отмахивайся, – говорил дед, – ты ее не бойся, ее не тронь.
И беззаботной радости и смеха беспричинного было за столом много.
– Так-то работают и снуют, как добрые пряхи. Вот туда улетают за взятком и сюда несут, а там, в улью-то, крылышками другие машут – прохладу устраивают, воздух горячий прочь гонят. Ох, сегодня они и работают.
Брат, склонясь к нему, слушал. Он, как и мама, среди крестьян и солдат чувствовал себя хорошо, свободно и просто, он отдыхал.
– А меня ты и не узнал, дедушка, – сказал ему брат.
– Вот что-то и не припомню.
– Когда я еще кадетом был, – сказал нам брат, – с друзьями был у тебя. Мы к тебе вчетвером так же тогда пришли, и ты нас медом так же угощал.
– Прости, сынок, то, что ко мне приходили военные эти ребята не раз, это я помню, – все стриженые, как солдаты, были ребята, все в белых рубахах и черных погонах, все молодые.
– Это я тогда их к тебе на пчельник из бора привел, мы там в палатках ночевали.
– Так-то с ними был унтер-офицер с двумя нашивками.
– Так это, дедушка, и был я.
– Было, было, – сказал он, – да ведь давно, давно, сынок, было, где же вас всех вспомнить. А вот глаза твои, теперь, когда ты говоришь, я как будто припоминаю. Вот ты и офицер, а тогда-то?
– Тогда-то я еще учился. Хочу поблагодарить тебя, дедушка.
– За что же?
– За добрый совет. Ты тогда рассказывал о турецкой кампании.
– А вот что я говорил, какой совет тебе дал, то, кормилец, я уж теперь-то не припомню.
– Что же дедушка тогда вам сказал? – спросила Кира.
– Вот как станешь командиром, – пересказал его слова брат, – если чего по службе не знаешь, то старого солдата лучше спроси и этого не стыдись – уваженья от солдата не потеряешь и дело поправишь.
– Ну что же, ваше благородие, – сказал дед, – ты-то старых солдат уже, видно, спрашивал.
– Как же. Я слова твои запомнил.
– Вот то-то и добро.
– И московским юнкерам в лагере я недавно о советах деда рассказывал, твои слова вспоминал, ты с солдата строго спрашивай, а только правду человеку простому всегда говори и не заносись, потому что он грамоте не умеет. Я твои слова, дедушка, крепко запомнил.
– Ну, спасибо. Помогай Бог. Где же ты теперь служишь, куда определили тебя?
– В Москву, только сегодня, дедушка, я приехал на короткий отпуск в наши края.
– На побывку, что ль, тебя отпустили?
– На неделю.
– Ну, а друзья где же твои?
– Разъехались по разным полкам.
– Ну, помогай Бог. Как хлеба-то под Москвой?
– Везде в этом году урожаи.
– Да, урожаи дружные, добрые.
Брат расспрашивал о внуках.
– Мой Андрюша в Варшаве, в гвардию взят. Строго держат их там в лейб-гвардии в Преображенском полку. Старший, другой, в крепости Осовец, а вот Степана, мужа внучки, далеко угнали служить, на Байкал. Ох, и далеко же теперь служить посылают. В старину, народ говорил, все тут и служили, по своим городам, а потом устав изменили, здешних ребят усылают далеко, а тамошних сюда посылают служить.
Когда дед по своим делам от стола отошел, Зоя сказала:
– Я только теперь увидела. Кирочка, посмотри на меня. Федя, а знаешь, какие у Киры глаза – как пчелы, с золотом.
– Удивительно, – сказал я.
– Да что вы выдумываете!
– Да верно, смотрите, недаром дед тебя назвал – пчелка моя золотая.
– Ваня, – вскричал тут и я, – действительно, когда они на солнце, то они у нее не карие, а золотистые, ну просто пчелиного цвета.
– Ну да, ты скажешь, – смущаясь, ответила она.
– А у других?
– У Феди, – сказала Кира, – речные.
– Нет, у Феди глаза, – сказал брат, – как у медвежонка, который в солнечный день много меда съел.
– А у меня? – спросила Зоя.
– Цвета резеды.
– Да, – закуривая, сказал как бы серьезно брат, – у тебя всегда было в глазах что-то стрекозиное.
– Это ты теперь выдумываешь.
– Зелено-серое, стрекозиное, через полоску.
– А у Вани?
– Теперь темно-серые, а в детстве, мама говорила, были совсем голубые. Как все меняется, даже цвет глаз.
– Спасибо, дедушка, – сказал брат, и я видел, как он оставил на столе золотой. – Добрым медом ты нас угостил.
– Чего, чего, – ответил дед, – а меду у меня завсегда много.
Дедушка пошел нас провожать и повел тропинкой мимо пасеки, где, как серые грибы абабки, видны были долбленые колоды – стояки и лежаки. Мы загорели, да и день утомил. Брат, смеясь, говорил:
– Федя съел столько меда, что его разморило на солнце, и ему, по всему видно, не хочется уходить. А ему, как и медвежонку, нельзя давать много меда, потому что тогда они, сразу объевшись, заваливаются спать и становятся необыкновенно ленивыми.
– Ах, какой замечательный день, – говорила Кира, – кажется, уже давным-давно уехали утром – целая счастливая вечность прошла.
– Это для молодых долог день, – сказал дед, – а у стариков-то, детушки, время быстро летит.
Помолчали, он нас повел покошенными клеверами к своему лиственному леску, чтобы путь наш к бору сократить. Тут уже всюду покошено было, но под лесом у опушки оставлено, а там дальше начинался у ключей на сыринке молодой лес – березняк и осина молодая и легкая, – и тут-то босоногая наша Маша, видно, только и ждавшая нас, убежавшая с поля, где все работали, вывернулась из-за кустов. Тут, у родничка, место было сыроватое, дрожала, отбрасывая прохладную тень, осина, тут цвела удивительная трава, сильный и двойной цвет которой тогда несказанно удивил нашу Киру.
– Как тут хорошо, – сказала она брату, остановившись. – Что это за цветы? Посмотрите, словно вся опушка светится золотистыми и синими огоньками.
– Кира Сергеевна, – обернувшись к ней, спросил он удивленно, – неужели вы ее еще никогда не видали?
– Первый раз в жизни вижу, – ответила она и посмотрела на нас и на брата совершенно счастливая, – я таких цветов в жизни никогда не видала.
– Ай, не знает, – изумилась Маша.
– Иван-да-марья, – сказал брат.
– Да это не цветы, а трава, – добавила пораженная босоногая Маша.
– А я и не знала.
– Разве у вас на юге такой травы нет?
– На юге и в степи такой травы нет. Но ведь это цветы!
А надо сказать, солнце уже склонялось, и я залюбовался светом цветным – в этот день трава светила особенно, золотым и лиловатым.
– Погодит-ко, – взглянув на изумленные глаза Киры, сказал дед и так легко и быстренько прошел вперед, сошел с тропинки, нагнулся, под корень беря, нарвал этой травы и, вернувшись, передал ей:
– Вот, умница, смотри.
Кира смотрела на эту веселую траву, у которой вырезные листья, зеленые снизу, выше становились лиловые и золотистые, – на изумительную, легкую траву, которой у нас, к радости всех ребят, зарастают лесные опушки после первых весенних цветов – троицких цветов, розовой сон-травы, трясунки кукушечьих слезок.
– Это цвет травный, – пояснил тогда дед. – У него один стебелек и как бы два огонька, два естества. Одно мужское, а другое, вон, женское, и предуказано им от Бога на одном стебле в два цвета вместе цвести. Мы так и зовем эту траву, иван-да-марья.
А Маша, видя, что Кира хочет нарвать себе этой травы, бросилась вперед и нащипала целый букет.
– Ну вот, – сказала тут Зоя, – у Киры новая поклонница объявилась.
– Завянет, – сказал брат, – по пути.
– Нет, я ее донесу, – ответила Кира и побежала к ключу, я – с ней, бессмертники, что были завернуты в платок, мы высыпали и, намочив платок в воде, Кира обернула им стебли иван-да-марьи.
– Я на реке стебли сразу же в воду опущу и потом в корме лодки спрячу.
Дед указал нам дорогу, а Маша потом нас нагнала и передала Кире широкие листья мать-и-мачехи:
– Ты в них заверни, тогда не пропадут.
Мы оглянулись. Дед стоял под лесом, и Маша с ним, но, когда она заметила, что мы на нее смотрим, то убежала в поле, на бегу останавливаясь, за нами следила, а когда видела, что все еще смотрим, то опять пускалась в бег.
Брат с Кирой ушли вперед, а мы по вине Зои от них отстали, потому что она, размахивая шляпой, несла ее за резинку, та оборвалась, бессмертники рассыпались.
– Ну, что ты стоишь столбом, не можешь помочь, – сказала Зоя.
– Что с тобой? Почему ты со мной разговариваешь таким тоном? – сказал я.
– Ну, хорошо. Можешь не трудиться. Я сама соберу. Ну у меня и братец.
Это испортило мне настроение – вот так всегда, когда я оставался с Зоей, у нее менялось неожиданно настроение, и начинались у нас долгие пререкания.
– Кира ушла, а ты начала ко мне придираться. Мама права, она всегда говорит, что тебе нельзя уставать.
Я видел, что брат с Кирой за это время далеко ушли. Вначале они останавливались, поджидая нас, а потом пошли, думая, что мы нагоняем, и, занятые беседой, забыли о нас. Кончив спор, мы, перекликаясь, нагоняли их.
– Ну, как же мы дедушку не спросили? – говорила сестра. – Ах, до чего обидно. Как ты думаешь, – по обычаю она начала рассуждать вслух, – какой цвет мужской, а какой женский?
И тут мы с нею начали спорить: Зоя хотела, чтобы женский цвет был золотым, я не соглашался, а она по обычаю мне не уступала.
– Ты так часами можешь спорить, я знаю. – Когда на нее находило, Зоя была спорщица невозможная, а меня от меда растомило, и мне спорить не хотелось совсем.
– Но почему же мужской обязательно должен быть золотой? И отчего родилось такое название? – подумав и помолчав, спросила Кира брата.
– Не могу знать, Кира Сергеевна.
– Как жаль, что ты деда не спросил.
– Почему Ваня должен был спрашивать? А ты о чем думала, спросила бы сама, а то ты теперь начнешь все время спорить.
– Да, теперь не вернешься. Да что гадать! Знаешь, – признавалась сестра Кире, – я и не заметила, как далеко мы ушли.
– Ты столько съела меда, а он разморил.
Оказалось, что до места, где была оставлена лодка, не так-то легко добраться. Наконец мы боровой тропинкой дошли до берега, Кира с сестрой съехали вниз с помощью брата и моей, вытряхнув потом песок из туфель, и, когда мы спустились к реке, сели в лодку, достали весла, спрятанные под корнями сосны, вздохнули свободно, и никто уже не порывался захватить весла.
Брат греб тихо, даже весла, иногда перевертывая, клал лопастями на воду, и они по ней скользили, а иногда приподнимал их, с них срывались капли, – и блаженство охватило нас, мы спускались вниз, и река нас несла. Брат, вынув плоский серебристый портсигар с оранжевым шнуром, закурил, а Кира разбирала цветы, увядшие и слабенькие бросала в воду, и они плыли, но отставали, и в лодке о цветах разговор продолжался.
– Иван-да-марья, – отдыхая, говорила Зоя, – мы с Федей всю дорогу спорили, почему эту траву так назвали и что это значит. И как это мы не догадались деда поподробнее расспросить.
– Ириша все знает, – сказал я сестре, успокоившись.
– Правда, – сказала Кира, – когда вернемся, первым делом у Ириши спрошу.
Брат молча курил. Мы не знали, о чем они с Кирой говорили без нас.
– А ты о чем думаешь? – спросила его Зоя.
– Я в детстве в людской от баб слышал, – ответил брат, – когда ты, Зоя, была совсем мала, а Феди еще не было на свете, что с этой травой связано какое-то предание. Не помню, Кира Сергеевна, теперь – не то это сказка, не то старинное предание о брате и сестрице. Что-то вот такое: в некотором царстве, в незнаемом государстве жил-был брат Иванушка и была у него сестрица Марьюшка.
– Аленушка, – прервала его сестра. – Ваня, ты путаешь.
– Иван да Марья.
– Первый раз слышу, а я наслушалась сказок. Иван да Марья? Нет, – сказала, вспоминая, сестра, – ты с Аленушкой путаешь.
– Иван да Марья, – продолжал вспоминать брат, – не то были муж и жена, а не то брат с сестрицей, и будто бы, не зная того, они повенчались. А честно сказать, я и не помню, как там дело было, мне тогда было пять лет. Но странно, Кира Сергеевна, мне почему-то кажется, что это была не сказка, а предание.
– Я бы так хотела, – сказала Кира, – эту сказку или предание от кого-то услышать.
Она слушала и смотрела на речную гладь, чисто отражающую боровой берег. Кира внимательно перебирала цветы: сначала бессмертники, а потом и нарванную траву – как будто они были живые существа, столько внимания и нежности у нее было в пальцах рук. Она бросала в воду выгоревшие и торопливо нарванные мною васильки, и они уплывали, а трава была спрятана в корме, и стебли обернуты мокрым влажным платком. О чем-то думая, она слушала что-то в себе, брат едва касался веслами воды, и мы с Зоей присмирели и, прислушиваясь к тишине, замолчали.
Мне почему-то стало очень печально, хотя и спокойно на душе – оттого ли, что все уже осталось там, позади, – я все оглядывался, уж очень было тут хорошо, и смотрел, как от весел закручиваются, отходя, воронки.
Помню, брат спросил:
– Как, Кира Сергеевна, вы хотите – сразу же отправиться к пристани?
– Нет, – ответила она, – побудем еще несколько минут здесь, на реке, не надо спешить, пусть наш день навсегда таким и останется, как-то даже не хочется сегодня никого видеть. Здесь так хорошо.
Мы пробыли на Черехе до прибытия парохода. На пристани на этот раз было многолюдно, день был субботний: молодежь, дачники, светлые платья барышень, Савельев с теннисными ракетками во всем белом и с ним рыженькая, необычайно говорливая гимназическая подруга сестры. Пока мы с братом сдавали лодку, Зое пришлось с ней объясняться, а Кира, не поднимаясь наверх, ожидала нас на полпути и как бы под нашей охраной.
– Ну вот, – сказала Зоя, – и смертельная обида, они страшно обиделись, что не заглянули к ним на обратном пути, не вернулись раньше, и они решили, что всему виною приехавший брат и Кира.
Когда я поднялся, брат уже купил билеты и передал их Зое, а сам увел Киру, потому что она ему сказала:
– Не переношу объяснений.
Брат с Кирой успели пройти на нос и мне оттуда махали, но мне туда пробраться не удалось. Я все же попытался, но тут услышал знакомый голос:
– Все гуляете, молодой человек?
Обернувшись, я в растерянности увидел нашего длинного учителя геометрии. Он был в чесучовом, свисавшем с его острых плеч пиджаке. Худой, нескладный, он с удочками возвращался с рыбной ловли.
– Здравствуйте, Константин Константинович, – сказал я, сняв фуражку.
Он был не один, а с расплывшейся, всегда чем-то недовольной и властной женой.
– Помогите-ка мне, – сказала его жена. – Дайте мне ваш пояс.
Она возилась с сыном, невыносимо капризным мальчишкой, одетым в матроску. У него от солнца шла носом кровь, и вот я принужден был помогать. Она держала за воротом мальчишки домашние ключи, но они согрелись.
– Нам нужна ваша пряжка, – и я отдал свой пояс, она им завладела, прижимая пряжку к шее мальчишки, а я должен был, стоя распояской, держать его удочки и корм, ключи и не знал, что делать. Учитель говорил сыну:
– Стой смирно, – прижимая пряжку к его шее там, где она переходит в спину.
– Вот ведь беда, и пряжка-то тепла, – говорил он.
Проходили моими любимыми местами, а я ничего не видел. Было глупо, я завяз здесь окончательно, и нужно же было мне, с досадой думал я, встретить тут не только его, да еще и мальчишку-уродца, и жену. Зоя, забыв обо мне, болтала с гимназистом, который уступил ей место, а я, отстав от своих, смотрел в ту сторону, где были брат с Кирой. День склонялся к вечеру, ослепительным золотом сияла река, когда мы во время остановки в Корытове приняли еще пассажиров, пароход даже слегка накренился.
А потом открылся и низкий наш город, и у дровяных кладок на берегу купалось к вечеру еще больше ребят, по воде доходил слабый запах лесной гари, и один из рыболовов, севших в Корытове, передавал, что где-то там у Устья начался лесной пожар – загорелись торфяные болота.
Как я обрадовался, когда, сойдя с парохода, мы опять все вместе очутились на набережной. Как это в юности бывает, за день отсутствия все мы как бы изменились, и здесь тоже что-то произошло без нас.
Солнце еще освещало вершины деревьев, когда мы подходили к дому. Мама с Иришей нас ожидали, стол был накрыт на веранде.
– Нагулялись? – спросила мама.
Начались путаные рассказы, но мама увела брата к себе, а первая забота у Киры была о цветах. Я с Иришей сбегал к колодцу, чтобы зачерпнуть ведро самой холодной воды, со дна. Васильки поставили в вазу и оставили в столовой, а для иван-да-марьи нашли глиняную крынку с водой.