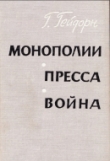Текст книги "Иван-да-марья"
Автор книги: Леонид Зуров
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
– Какую?
– 28 июня 1389 года после битвы с турками на Косовом поле сербы потеряли свою независимость, и для убийства был выбран траурный день для всего сербского народа.
– Но кто же тогда этого гимназиста подтолкнул? – взволнованно спросил я.
– Дело коварное и очень темное. Сербское правительство захвачено врасплох, так как, в сущности, хотя австрийского эрцгерцога убил серб, но это антисербское дело. Эрцгерцог, несмотря на все небылицы, которые про него распространяют, был большим другом России, поэтому убийство в высшей степени таинственно, подготовлено оно теми, кто отлично знал, что эрцгерцог в этот день приедет с женою в Сараево, и дата выбрана точно, и сделано это как нарочно во время маневров австро-венгерских войск. Боюсь, что это убийство направлено против нас.
– Против России? Ты знаешь, на базаре у нас говорили – было тут как-то для стариков знамение.
– Какое?
– Да старики волхвы в обозерских деревнях видели в небе знаки.
– До чего странно, – сказал брат, – прошлым летом под Звенигородом мы с московскими гренадерами принимали участие в маневрах, и, когда на постой в деревенской избе стали, я от старого хозяина услышал приблизительно такие же рассказы.
Брат задумался, а потом сказал:
– Какой странный я тогда видел сон…
– Какой?
– Не знаю даже, стоит ли рассказывать его тебе, – ответил он, о чем-то серьезно подумав.
Я готов был обидеться и напомнил, сколько я в свое время рассказывал ему всего, а надо сказать, радостями своими и печалями я с ним делиться привык давно, несмотря на разницу лет, и были у нас такие счастливые времена, когда я перед ним целиком раскрывался и рассказывал ему то, что скрывал от сестры и мамы.
– Ну вот, ведь я же тебе всегда все рассказывал.
– Но главное, обещай мне – о том, что я тебе расскажу, ни мама, ни сестра не узнают.
– Уверяю тебя. Что ты, – я просил и настаивал.
– Странный сон, – думая о своем, повторил брат, – ну, слушай. – Медленно и очень спокойно он начал рассказывать. – Как я уже сказал, случилось это под осень, в прошлом году. Ты помнишь, наверно, из писем, которые я тогда присылал, что в конце лагерей перед производством я с юнкерами старшего курса участвовал в маневрах вместе с гренадерскими полками. И вот после большого перехода под вечер прибыл я в деревню под Звенигородом, а день был исключительно знойный и, откровенно говоря, я порядком устал, а юнкера от усталости валились с ног. Их квартирьеры развели по избам, а я вышел из избы, чтобы в одиночестве, как я люблю, отдохнуть перед сном. Помню, долго любовался звездами, что загорались на моих глазах, и старинной широкой дорогой, что идет на Москву. Потом я вернулся в избу, денщик скинул китель, помог снять сапоги, я лег на крестьянскую постель в чистой половине и на рассвете увидел сон. Будто бы я уже не под Звенигородом, а здесь, в городе, не дома, нет, – ответил он как бы на мой вопрос, – а в полковых казармах за рекою, и направляюсь из казарм к пристани, а уже осень и утренняя прохлада, сады облетают, утром, видно, выпали росы и заборы влажны.
Я напряженно, сосредоточенно, затаив дыхание, слушал, как он рассказывал спокойно, вполголоса.
– Так ты идешь к Пароменскому спуску? – все сразу увидев, быстро сказал я.
– Да, иду к перевозу, а день светлый, знаешь, такой осенний денек, когда пахнет сырыми заборами, огородами, остывающей землей, опавшими листьями, а солнце где-то за облаками. И все это я во сне особенно сильно чувствую, печально чувствую, как это иногда бывает во сне, а освещение хотя и осеннее, но все же странное, какое и бывает только во сне.
Так вот, – продолжал еще медленнее и спокойнее брат, – я иду, но не помню, что до того было, как и откуда я – из казармы вышел или же просто домой, к вам направляюсь. Знаю я только одно – иду к нашему полковому перевозу, чтобы попасть в город, и не один, а впереди меня направляются к перевозу вместе с унтер-офицером моего взвода несколько молодых солдат, очевидно, отпускных.
И знаешь, – поправив шашку и удобнее положив ее на колени, отчего золотой темляк упал ему на колено, а на груди золотая портупея отстала, продолжал брат, – в природе как бы все приглушено. Да нет, – поправился он, – не то слово. Как бы тебе сказать, – приподняв голову и как бы прислушиваясь к себе, вспоминая и желая, как всегда, быть малословным и точным, сказал брат, – ощущение такое, что во всем царят, я бы сказал, особенная тишина и внутреннее замирание. Да, – согласился он сам с собой, – все в каком-то спокойствии, настраивающем отчего-то на печальный и особенно лирический лад. И вот осенняя желтизна, а я еще без шинели, и очень печально и в то же время очень легко чувствую свое одиночество. Я медленно иду, а впереди к полковой ладье отпускные идут, не в разбивку, а посреди дороги с унтер-офицером, и почему-то они не в защитном, а в черных шароварах и в черного сукна старого срока мундирах. Все это мои солдаты, я это знаю, и они, как и я, направляются к перевозу, спускаясь мимо церкви.
– Пароменской, – сказал тут я, – ты так сегодня рассказываешь, что я все вижу.
– Да, – продолжал брат, – и на сыром зеленом берегу белеет отсыревшая внизу церковь, и все мне знакомо до малейшей подробности, как будто я никуда из полка никогда не отлучался, не жил в Москве, все здесь так же, на своих местах, и я вижу до малейших подробностей и причалы, и мостки, и большую полковую ладью, и реку, все это я вижу, как и то, что солдаты почему-то раньше меня к берегу подошли и почему-то раньше меня в большой ладье разместились. Я на мостки ступил.
«Смирно», – слышу, командует старший. Я иду, а гребцы почему-то вдруг приветствуют меня, приподняв над водой весла по-флотски.
«Здорово, братцы», – почему-то не удивляясь странному приветствию веслами, сказал тут я. «Здравия желаем, ваше благородь», – ответили они мне очень отчетливо и дружно, и я вижу – гребцы молодые, самые ловкие, которых я не только перебежкам, стрельбе, штыковому бою, но и грамоте обучал, все мои же ребята, как на подбор. А Миронов стоит на корме, у руля и руку держит у козырька. «Вольно», – сказал тогда я, переступил в ладью, она качнулась, а когда я сел, Миронов оттолкнул ладью от мостков и скомандовал: «На воду».
Солдаты весла опустили. «Навались. Веселей».
И так сильно двинулась ладья и пошла. Смотрю я на гребцов и любуюсь, и думаю: когда же они так научились, ведь гребле я их не обучал. Вот я, придерживая шашку меж колен, загляделся на небо, на величавое осеннее течение, далекий Ольгинский мост и возвышающийся над городом с серыми каменными башнями Детинец. Задумался, засмотрелся, и вот, знаешь, когда мы были уже посредине реки, мне показалось, как будто даже шире и полноводнее стала наша река, и я об этом хотел сказать сидевшему на руле солдату, а когда обернулся к гребцам, то уже они так изменились, что все похолодело у меня внутри.
– Что же ты увидел? – спросил я брата, приподнявшись на локте.
– Я, Федя, увидел, что это уже не живые люди гребут, а одетые в солдатское мертвецы. И фуражки надеты на черепа. Набекрень надеты бескозырки, как полагается, третий полк дивизии – черный околыш, а кант красный, а на плечах наш черный погон и на нем желтые цифры – двойной номер полка, – и они так же сильно гребут. Не пугайся, ведь это же был сон, Федя, – сказал он, видя мои широко раскрытые глаза.
– Да что же это?
– Да, – ответил он, – вот так же, как и ты сейчас, я сам тогда себя во сне об этом спрашивал и видел в то же время, что все, улыбаясь, минуту тому назад еще с веселыми молодыми глазами, а тут уже без глаз, с провалами костяными вместо носов, блестя молодыми зубами, страшно и весело на меня смотрят. И я вижу в ошеломлении, как каблуки их смазных сапог упираются, как всегда, при гребле в прибитую к днищу ладьи деревянную планку, и как весла, погружаясь, забирают воду, и завивается маленькими воронками, вырываясь из-под весла, та же живая вода.
Тогда я обернулся к Миронову и вижу, что и у моего унтер-офицера так же, как и у других, по-мертвому уже оголилось лицо. И когда я на него, обернувшись, внутренне холодея, пристально посмотрел, он мне тут очень спокойно, по-солдатски сказал.
Я молчал. Дыхание даже у меня сократилось.
– «Что вы удивляетесь, ваше благородие, – он спокойно мне говорит, – ведь вы сами себя не видите, вы такой же, как и мы. И будете вместе с нами убиты».
– А ты? – замирая, спросил я. – Ты ему что сказал?
– Помню, я на это ему ничего не ответил. И вот, Федя, – брат продолжал свой рассказ медленно, очень спокойно, – после его слов что-то словно во мне изменилось, воды речные как бы расширились, и хотя в основе своей все вокруг осталось таким же, как было, но, как мне показалось, уже пребывало в прошлом, преисполненном какой-то безгласной печали. И таким был уже и цвет вод, облаков и берега, да и я сам как будто еще здесь, а в то же время нахожусь уже вместе с ними со всеми в измененном навеки мире.
Рассказывал он все очень спокойно, находя настоящие слова, я смотрел ему в глаза, воображение у меня было живое, я слушал, уже не перебивая, и как бы вместе с ним и плыл, и словно его глазами видел все, что и он. Утро разгоралось, заливая солнечным светом зеленый наш сад, в доме стояла тишина, на подоконник уже упало солнце, и за окном все купалось в чистом утреннем свете. И вот это солнце, зелень, худощавая загорелая тонкая рука брата на моем колене и его удивительные, ясные при полевом загаре глаза – все создавало ту двойственность, в которой, слушая его и глядя на него, жил я.
Помню, он на секунду, вспоминая свой сон и переживая его еще раз, задумался.
– А что было потом? – прервал я молчание.
– Я даже не заметил, как мы подошли к Георгиевскому спуску, – ответил он, посмотрев на часы, – когда причалили, гребцы снова по команде отдали мне мокрыми веслами честь, из качнувшейся ладьи я ступил на деревянные мостки и мимо Георгиевской церкви поднялся на городскую набережную.
– И направился домой, к нам, – закончил я.
– Как тебе сказать.
– Куда же ты пошел?
– Да, я чувствовал сердцем, что все родное у меня дома, здесь, – сказал брат, – но я пошел не как обычно по набережной домой, а зачем-то отправился переулками сна на главную улицу. Странное чувство непреодолимо направило меня не к дому, а туда, и хотя мне по пути и попадались люди, но выходило, что я их раньше не встречал и они меня не знают и не обращают на меня внимания. Подходя к Великолуцкой, я услышал, – да, -приподнимая голову и как бы прислушиваясь, продолжал брат, – издали до меня стали долетать удивительно медленные звуки труб полкового оркестра, и, помню, я даже пошел медленнее, по привычке соразмерив с доносящимися медными звуками свой шаг. Когда я подходил к главной улице, то уже разгадал, что оркестр протяжно играет «Коль славен наш Господь в Сионе».
– Что же это было?
– Погоди. Хоронили с воинскими почестями офицера, народ стоял на тротуарах, и люди, крестясь, смотрели, как от вокзала двигалось через весь город, за реку, на военное Мироносицкое кладбище похоронное шествие.
– Ну и что же? – с замиранием сердечным торопил я его, потому что таких снов я не видел никогда.
– Люди стояли на панелях, и я стал смирно, вытянулся, отдаю приближающемуся покойному честь. Смотрю и вижу: на орудийном лафете везут большой гроб, и я уже знаю, что хоронят меня и на гробе моя фуражка и шашка.
И тут, признаюсь, холодок у меня по спине пробежал, а брат так же спокойно, глядя на меня, продолжал:
– Да, Федя, но гроб мой не один, за моим, первым гробом, я вижу, незнакомые мне люди несут на руках другой гроб. И тут я не знаю, кого хоронят, но сердце чувствует, что вместе со мной хоронят близкого мне человека, которого я очень люблю. И вот я стою навытяжку, – поднимаясь, продолжал брат, – и ты идешь за гробом, и мама, я узнал ваши лица.
– Что ты, Ваня, – сказал тогда я, охваченный внутренним страхом.
– Мать в темном, – продолжал он, глядя на меня, – и как она постарела. Ты, Федя, ведешь под руку мать. Ты в гимназической шинели, но ты как будто вырос, стал как бы взрослым, и тебя уже трудно узнать.
– А где же Зоя? – с прерывающимся дыханием спросил я.
– Зои нет. Ее я не видел.
– Какой странный сон, – сказал я тогда, сидя на постели, и, задумавшись, повторил: – До чего странный.
Брат, подняв голову, показал глазами наверх. А там наверху начали просыпаться.
– Да, – подтвердил брат, посмотрев мне в глаза, – сон неприятный.
В то же время он с радостью прислушивался ко всем шумам пробуждающегося дома, а утро разгоралось и обещало быть безоблачным, и наверху уже были слышны голоса Зои и Киры.
– Ну, уже все проснулись, – и брат встал, подошел к окну и посмотрел наверх, – там кто-то позвал:
– Ириша.
– Да она уже ушла за покупками.
– Они одеваются, а ты еще побудь со мной и доскажи.
Я еще находился под впечатлением рассказа брата, и он, видя это и уже улыбаясь, сказал:
– Помни, ты мне обещал.
– Ясно, Ваня, конечно, – ответил я взволнованно и горячо, – но, Ваня, все, что ты мне рассказал, так странно – и наш город, лодка, река…
– Да, – подходя к окну, задумчиво ответил он, – в том сне все было очень странно, но довольно об этом.
Он подошел к окну, прислушался, и лицо его изменилось. Слышен был голос мамы. Я тогда хотел еще о чем-то спросить, но не успел.
– Это ты, Ириша? Ты швейцарского сыра купить не забыла? Принеси мне выглаженное платье.
– Барышни, – сказала Ириша в столовой, видимо, спустившейся Зое. – Барин-то, Иван Тимофеевич, кажется, приехал.
– Что ты! – воскликнула Зоя.
– Да, Платошка говорит, видел вещи его в саду на скамейке составлены, а я в столовую прошла – вижу, лежит на перилах его офицерская фуражка. Я ее знаю.
– Да что ты. Мама, ты слышишь, иди сюда.
– Но где же он?
– Не знаю.
– Может быть, в саду.
– Надо покликать и посмотреть.
Я смотрел, улыбаясь, на брата, а он, улыбаясь, слушал, он хотел привстать, но я с самым лукавым видом удержал его за руку.
– Подожди одну еще минуту.
– Мамин голос, – сказал он и поднялся, направился к двери, но тут, уже догадавшись, что он у меня, в комнату вбежала в халатике и в шлепанцах на босую ногу сестра.
– Вот где они, – с укором закричала она и бросилась брату на шею, возмущенная и радостная, возбужденная до предела, и чуть не задушила, целуя и обращаясь то к брату, то к маме, ко мне, кричала: – Что же это. Федька, ни за что этого тебе не прощу. Ваня, как не стыдно, ведь это прямо заговор, мы не знаем, а они шепчутся здесь. И ты хорош, – обращаясь ко мне с укором и обидой, – вместо того, чтобы всех сразу позвать, – и Зоя на весь дом закричала от радости: – Мама, мама, он у Феди.
Тут пришла мама, были слезы.
– Ну вот, ну вот, – говорила она, совершенно ошеломленная от радости.
Он целовал мамины руки, а мама вглядывалась в него, и каждая морщинка у нее сияла.
– А я Ирише сначала и не поверила, – говорила мама, – не поверила, – и я видел у нее на глазах слезы радости.
– Отпустили, – отвечал он, – хотя я им и говорил: господа, это не по правилам, из лагерей летом отпусков не дают.
– Ты все должен нам подробно рассказать.
– А надолго?
– Для поправки, только на неделю.
– А чем же ты, Ванюша, болен?
– Пустяки.
Я уже спустил было ноги с постели и хотел одеваться и Зою попросил:
– Передай, пожалуйста, мне рубашку.
– Отстань, – ответила она, все еще держа обиду на меня, а дверь в гостиную была открыта, и там уже промелькнуло Кирино платье.
– Мама, да где же Кира? Кира, – звала сестра.
– Я здесь, – откликнулась та, и судя по голосу, она была полна любопытства.
– Мама, что же это, – возмущенно сказал я, – Зоя ее зовет и распоряжается в моей комнате, а я еще в постели. Господа, я не одет, дайте же мне встать. Зоя, право, ведь неудобно.
– Боже мой, – сказала сестра, – подумаешь, какая важность – он еще не одет.
– Видишь, она со мной совсем не считается, – сказал я брату и услышал, как Кира в гостиной рассмеялась.
Брат, улыбаясь, посмотрел на меня. Мама держала его руку.
– Надо дать Феде одеться, – спохватившись, сказала тут мама, – перейдемте в гостиную, что же мы тут стоим.
– Пожалуйста, не закрывай двери, – закричал я, когда они весело уходили, – я все хочу слышать.
– Ах, вот как, – сказала Зоя и нарочно захлопнула за собой дверь, но тут я, выскочив из постели, босой, в короткой рубашке, приоткрыл ее и закричал:
– Я сейчас, погодите, я все хочу слышать, – но я ничего не услышал, так как Зоя снова закрыла дверь. Тогда я оделся так быстро, как во время пожара, когда ночью я выбегал на двор и смотрел на ночное зарево, и через две минуты был готов, но Киру познакомили с братом без меня.
Начались расспросы, и брат даже растерялся.
– Да нет, пустое, – отвечал он весело маме, – отлежался, я третьего дня надел сапог и ходил, немного хромая, а вчера ничего почти уже и не чувствовал.
– Ах, ты так ровно загорел, – говорила Зоя.
– Ванюшка, я и верить уже перестала.
– Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Ириша принесла вещи, которые извозчик поднял на дворовое крыльцо, а мама смотрела на брата, как бы не доверяя своим глазам. И я слышал, как Зоя сказала:
– То, что ты приехал, просто чудо, так неожиданно, я даже опомниться не могу. А мама почему-то твердо решила, что тебя ни за что уже не отпустят.
– И не отпустили бы.
– Ты что же не предупредил?
– Не хотел тебя волновать. Ведь я тебе не раз писал – получить отпуск во время лагерей дело почти немыслимое. Я бы не покинул юнкеров, но случай.
– Как же это произошло?
– Оступился, когда показывал юнкерам, как нужно преодолевать препятствия, вывихнул ногу, а оказалось – вывих с растяжением связок, три дня пролежать пришлось. После этого нужен для ноги полный покой, и это быстро проходит.
– Ты мне ничего не писал! Ты еще хромаешь?
– Да нет, пустое, – отвечал он весело маме, – отлежался, я третьего дня надел сапог и ходил, немного хромая, а вчера ничего почти уже не чувствовал.
– А ну-ка, пройдись немного.
– Пожалуйста.
– Ну, слава Богу, – и мама была счастлива, расспросам не было конца.
– Откровенно говоря, стыдно было уезжать, я отказывался, – говорил он, – но меня друзья просто выпроводили.
– Спасибо им, – с радостью сказала сестра. – Я этого доктора расцелую.
– Он маленький и рыжий, как черт.
– Ты голоден?
– На вокзале я выпил чаю, а в вагоне побрился.
Брат не успевал отвечать на вопросы, и впечатление было такое, как будто у нас в гостиной много народа, а Кира то была тут, то скрывалась и опять появлялась.
– Ваня, ты вовремя приехал, – сказала сестра, будто вспомнив, что мы решили, – как хорошо. Едем с нами.
Брат удивленно на нас посмотрел:
– Куда вы собрались?
– Как, ты не знаешь? Разве Федя тебе не рассказал? Но о чем же тогда вы говорили? Мы вчера, – торопливо продолжала она, неодобрительно посмотрев на меня, – сговорились отправиться на Череху. Прогулка, и знаешь какая.
– Зоечка, да дай ему осмотреться, ведь он только что приехал, еще не опомнился.
– Если ты не хочешь, – сказала ему сестра с обидой, – то и мы не поедем.
– Погоди, погоди, – сказал брат.
– Но, мамочка, день-то будет какой, и Кира сказала, что Ириша уже все закупила.
Этот путаный разговор, начавшийся в гостиной, быстрые расспросы, когда брат успевал только, поворачиваясь, нам отвечать, продолжился и на веранде, где стол был уже накрыт и где Кира, немного смущенная, но улыбаясь и весело блестя глазами, ожидала, когда мы окончательно решим, так как не знала, нужно ли делать бутерброды.
– Мамочка, знаешь, – воскликнула Зоя, – поедем с нами! – И бросилась к ней, и начала ее уговаривать отправиться всем вместе.
– Погоди, ты меня затормошила совсем.
– Мама, милая, и ты с нами поедешь. Будет чудно.
– Где уж мне за вами угнаться, – улыбаясь, отвечала она. – Я старенькая.
– Неправда. Нет, нет.
– Без тебя мы не двинемся, – сказал я брату. – Если ты, Ваня, не хочешь, то мы отложим поездку.
– Может быть, у Вани дела, – сказала мама.
– Да нет, – ответил он, – если мама поедет, то отправлюсь с вами и я. Я был уже у воинского начальника, сразу же по приезде все сделал, чтобы времени не терять.
– А не устал ли ты, Ваня, с дороги? – спросила мать.
– Я в вагоне выспался за ночь.
Тут воспротивилась жертвенно, как всегда, мама:
– Куда там мне ехать, в леса забираться, а вот ты, Ванюша, поезжай с ними обязательно, поезжай, а уж мы с тобою потом, вечером, как вернешься, наговоримся.
Я видел, что она наглядеться на него не могла. Но она повторила:
– Обязательно поезжай.
Зоя только того и ждала.
– Согласился. Да, – закричала она и расцеловала его и маму и сказала ей: – Ну, честное слово, до чего же ты, мамусенька, добрая. Едем, едем. Кира, уговорили.
– Ну, да что с вами поделаешь, – сказал брат.
Кира во время уговаривания молчала, у нее только веселые искры в глазах заиграли, когда она посмотрела на нашу хитрую и ласковую Зою.
– Но я не знаю, куда вы меня повезете. В Корытово?
– Нет, дальше, – сказал я, – в Корытово заходить не будем, отправимся в Череху, и там на месте все решим.
– Хорошо, – сказал брат, – тогда мне надо умыться с дороги.
И сразу начались сборы, мы делали бутерброды и пили чай, Зоя побежала одеваться, а я, захватив полотенце, пошел с братом в сад к колодцу, туда, где он любил летом по утрам умываться и делать гимнастику. Я повесил на яблоню полотенце, брат сбросил китель, и я, зачерпнув ведро холодной воды, лил ему на руки и рад был бесконечно, когда брат мотал от удовольствия головой и говорил:
– Дома, Феденька, ах, до чего же хорошо.
А я, любуясь, смотрел на его веселое, освещенное утренним светом лицо, на ладность играющего мускулами, послушного и свободного во всех движениях тела. Он был выше среднего роста, тонок в талии и плечист.
– А ты гимнастику, я вижу, забросил, – сказал он, с наслаждением растираясь мохнатым полотенцем.
– Я ее в купальне делал.
– Но отчего у тебя пошли тройки по математике, ведь ты, судя по маминым письмам, этой весной едва проскочил. Хорошо, мы с тобой об этом еще на досуге поговорим, – сказал он, улыбнулся и посмотрел вокруг.
Потом на веранде мама ухаживала за ним. Нас ожидал чай и бутерброды с только что принесенной Иришей чайной колбасой и ветчиной, и мы пили чай, и масло таяло на теплых еще французских булках.
– Это Ириша, – говорила мама, – постаралась, все свежее принесла.
И я видел веселые глаза Ириши, а за ними сияющее радостью лицо мамы.
– Ты небось проголодался, – говорила мама. – Ну, как ты нашел всех?
– Федя потемнел.
– Но и у тебя волосы в юности были светлее, а теперь ты больше похож на прадеда даже, а не на деда.
– А я? – спрашивала его Зоя, она слышала каждое слово, как и Кира, хотя они, переговариваясь, ох как были заняты – приготовляли бутерброды.
– О тебе я уже и не говорю, – так измениться и за такое короткое время.
И тут Зоя начала расспрашивать его, да так быстро, что я слова больше вставить не мог.
– Да дайте ему чаю попить.
Я посмотрел на Киру, и хотя она работала молча, но и у нее насмешливо блестели глаза, и так в расспросах, суете и рассказах мы быстро напились чаю.
– Ну, уж вы меня простите, – сказала нам мама, – вы по дороге на пароходе вдоволь еще наговоритесь, – сказала мама, – а сейчас я Ваню к себе уведу.
Я было пошел за ними, хотел еще о чем-то брата спросить, но Зоя одернула меня:
– Что за новости, иди-ка нам помогать, не мешай, пусть он поговорит с мамой.
Зоя все время бегала и болтала, а Кира, глаза которой искрились от любопытства, подгоняла меня. Кира делала все быстро: отбрасывая рукой падающую на глаза прядь, намазывала бутерброды свежим маслом, я разрезал булки, Зоя носилась, заглядывая в гостиную, где брат на диване беседовал с мамой, и мы видели, что она наглядеться на него не могла, а он сиял и казался среди нашей домашней вольницы полевым и особенным человеком. Когда мы кончали заворачивать бутерброды в папиросную бумагу, брат вышел с мамой на веранду и сказал:
– Я готов, – и посмотрел на часы, а он, как оказалось, единственный из нас помнил пароходное расписание. Выяснилось, его часы были сверены по московским вокзальным, а у нас все отстают. Зоя мне вручила охотничью сетку отца с бутербродами, я ее закинул за плечо и, сдвинув по-походному свою любимую старую фуражку, первым спустился в сад. Мама с Иришей вышли нас провожать. Об одном только я пожалел в это утро: ах, если бы, подумал я, Кира надела сегодня свое малороссийское платье. Но оно, выстиранное Иришей, еще висело в саду, и на Кире было простенькое ситцевое платье с голубыми цветами, перехваченное тонким пояском, а в руке плетеная из золотистой соломки летняя шляпа. Зоя была в пестреньком, я – в белой льняной прохладной рубашке.
Когда мы вышли из дома, мне сразу весело стало с братом и легко, как еще никогда. Мы доехали на трамвае до Троицкого моста, где стояли прибежавшие, как говорят у нас рыбаки, с Талабского озера и островов ладьи. Холодок был под аркадами каменных торговых рядов, и утренняя свежесть шла от реки, тень в рядах, а все остальное – собор, и город, и площадь – сияло в чистом утреннем солнце.
Все было тут по-домашнему, несмотря на проходившие через площадь трамвайные рельсы. Тот же босой Калина ободранной метлой подметал вымощенную крупным булыжником площадь. У гауптвахты стоял на часах солдат.
– Даже удивительно, до чего здесь все осталось по-прежнему, – сказал брат, когда часовой при его приближении взял по-ефрейторски на караул. Брат отдал ему честь и сказал Кире, что каждое лето в наших казармах держат караул солдаты присланного из Юрьева батальона, в то время как наши полки уходят в лагеря.
– И ваш полк ушел туда в лагеря, – сказала Кира и даже показала в ту сторону. – Я знаю, туда, где Владимирский лагерь.
– Вот как! – обрадовался брат. – Вы знаете, Кира Сергеевна, эти места. Может быть, бывали там?
– Я там не бывала, а когда мы проезжали эти станции, – сказала Кира, – я их на всю жизнь запомнила. Кондуктор по вагону идет: Струги Белые, Владимирский лагерь…
– Это я показала, – сказала Зоя. – Мы стояли у окна.
– Военная платформа, – сказал брат, – да, да, там пассажирские поезда проходят мимо, не останавливаясь. Даже странно летом очутиться здесь, никого из полковых друзей не увидишь, казармы пустые, я на свободе, а все друзья в лагерях.
– А вчера мы были, – сказала Зоя, – вечером на реке, и Федя рассказывал, как вы играли с солдатами в городки, какие там чудесные барабанщики и как он ел солдатскую гречневую кашу со шкварками.
– Да, – добавил я, – и до чего вчера заря была хорошая. Уходить не хотелось. Ты и не почувствовал вчера, а мы о тебе говорили.
– Да нет, какое, я спал.
– Но до чего все же там, где лагеря, болотисто и пустынно.
– Это только у линии железной дороги, где лес давно положен, – ответил брат, – но если бы вы знали, какие потом начинаются в лесах дикие озера, вот сегодня я вам покажу наш бор на Черехе. Ведь он когда-то, так мне рассказывали старики, от нашего города в другие боры переходил, – и не только до Струг Белых шел, но даже до моря. Петербуржцы и не подозревают, что под столицей в лесах живут медведи и лоси, а туда, к Финскому заливу, лесисто, дико и много глухарей, и какое там очаровательное и дикое побережье, – в море камни, громадные валуны, и береговая сосна, и какая сосна, бор просто рай дикий. Глухари весною токуют, на меня в лесу меж озер как-то старый лохматый лось с лосицею выбежали.
– Вы охотились?
– Бродил в лесу. Охоты я не люблю. А дальше начинается боровой обрыв – древний глинт, морской берег, заросший сосновым лесом, и уходит бор к морю, и с лесного обрыва видишь, как там каждый вечер по-иному за Финский залив солнце заходит.
Я слушал это и наслаждался: я там не бывал, а брат рассказывал хорошо, легко, и я шел и не мог на него нарадоваться, потому что знал, что когда он дома и на прогулке, то нет на свете более открытого и веселого человека. Мы шли берегом к пароходной пристани, и я первый взбежал на нее, а она деревянная, посредине – навес и пароход был связан с нею сходнями. Пока брат просматривал пароходное расписание, видно было с пристани, как уклейка поблескивала в воде живым серебром.
– Ах, прелесть какая, – подойдя к краю, сказала Кира.
Знакомые ребята удили с мостков, большеголовый, в разорванной на плече рубахе босяк, что сидел, греясь на солнце, с ухмылкой на нас оглянулся. Я видел, как смотрели на брата мальчишки, которых я всех в лицо знал, и я рад был, что еду с братом, я им гордился.
Пришли мы вовремя, у пристани уже ожидал пароход – маленький, старый, хоть и заново покрашенный, но ветхий уже пароход «Александр» с белыми поручнями, желтой капитанской каютой и широкой трубой. Мы спустились по сходням, брат пропустил вперед Киру и Зою. Капитан знал его и нашу семью, хотя мы с сестрой не часто ездили. Народу было немного: нянька с одетыми в белые матросские курточки и короткие штанишки детьми, дачники и возвращающиеся торговцы, крестьянки. Медный, хорошо отчищенный колокол казался новеньким. Тепло шло из машинного отделения. Мальчик няню спрашивал:
– А где же папа?
– Да вот он, – сказала баба.
С набережной кто-то в чесучовом пиджаке торопливо сбегал, махая шляпой, его забрали, вкатили две пивные бочки, пароход дал последний гудок и отвалил от пристани.
– Вот было бы делов, – сказал торговец брату, утирая лоб платком, – было бы делов, если бы пиво погрузить опоздал.
Плотный, он не мог отдышаться.
Кира сняла соломенную, с широкими полями, легкую и гибкую шляпу и стояла под ветром с непокрытой головой. Во всем этом было что-то праздничное, как сказала Кира – от солнца.
– День будет жаркий, – сказал улыбающемуся брату купец, – а я уж и так за утро запарился.
Утро было на редкость прекрасное, небо чистое, и ветерок, что родился от движения парохода, и солнце, несмотря на речную прохладу, сильно обогревало нас, стоящих у борта, и пароход с низенькой трубой, брезентовым навесом, вдоль бортов которого шли скамейки, сделав полукруг, начал забирать против течения.
– Смотреть на воду, – говорила Кира, – одно наслаждение, я радуюсь всегда, когда подымаюсь вверх по реке.
И вот, как всегда, посредине нашей глубокой судоходной и сильной реки открылись выходящие к берегу улицы – Плоская, Спасская, где Епархиальное училище, и там где-то за зеленью и моя гимназия. А там, на берегу у Георгиевского спуска, у солдатской переправы, прибежавшие из города купаться ребята раздевались, как обычно, не обращая внимания на баб, прополаскивающих вываренное с золою белье, плавали голопузые мальчишки, мелькнув, вытянув руки, ныряли, а другие стояли на мостках, и один из них кричал:
– Санька, гляди, как я сейчас нырну.
И один с этих мостков бултыхнулся вниз головой, нырнул, чуть ударив по воде пальцами ног, и вынырнул далеко, плыл потом к пароходу под волну саженками и кричал: