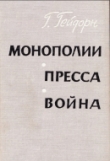Текст книги "Иван-да-марья"
Автор книги: Леонид Зуров
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– Гвардия ликует, – говорил красивый петербургский лицеист с маленькой головкой, – подумать только, не воевали с турецкой войны, наконец-то гвардейские офицеры получат боевые красные темляки. Я за войну.
– Почему же, я спрашиваю, молчит Англия?
– Ну, знаете, англичане самый медлительный в мире народ, никогда не торопятся, самые медленные и деловые люди на свете англичане. Я их знаю, – говорил гвардейский офицер, командир полка.
А тут солдаты, уже снявшие скатки, вкатывали на платформы патронные двуколки и кухни, грузили патроны, пулеметчики были с кривыми бебутами на поясах, как у турецких янычар.
– Мамочка, – говорила Зоя, – смотри-ка – Ириша с почтальоном там, она на вокзал все же пробилась.
А почтальона жандармы пропустили, потому что у него была телеграмма, адресованная командиру полка, рассыльный нашел нас и передал матери по ошибке две телеграммы.
– Это от барина, – говорила Ириша, а мама растерялась, и я отдал ему всю мелочь, какая у меня была в кармане, потому что мама забыла дома кошелек. Руки у мамы дрожали, она долго не могла найти в кармане юбки очки, потом нашла и прочитала, перекрестилась, передала телеграмму Зое, и мы вместе впились в наклеенные слова. Когда я прочел ее, то почувствовал гордость за брата, боль, и радость, и я был счастлив, что он идет на войну, – он написал маме, что подал рапорт и возвращается в полк.
– Я Ваню знаю. Он и не мог иначе поступить, – сказала мама.
– И я бы так сделал, – говорил я Зое.
– Зоечка, Кира теперь приедет к нам, – сказала мама.
– Вот это славно, – сказал командир полка, – подал рапорт об отчислении. Ну, значит, скоро встретимся.
И тут было разговоров, по какому пути его отправят и что произойдет, когда он приедет.
– Чуяло мое сердце, – говорила нам мама, – как только я узнала, что объявили войну, так первое, что сердце сказало, – вернется в полк.
– Значит, Кира одна в Москве, – проговорила сестра, побледнев. Зоя все время была уверена, что брат останется в военном училище, и даже радовалась, что Ваня на войну не пойдет, так как она еще больше мамы не любила военной службы, но мама за этот день совершенно изменилась, что-то раскрылось в ней горячее, что ее роднило со всем народом, который провожал своих и чужих, со всеми самыми простыми деревенскими бабами. Я не удивился, когда Зоя сказала:
– Мама, я еду в Москву, где она, там и я. – И мы с мамой согласились, что она должна привезти сюда Киру, что теперь о переводе на Высшие женские курсы и речи не может быть, а Кира там переживает, нельзя ее оставить в такое время одну, и сестра рвалась к ней.
Началась посадка, и нас оттеснили, пропустили только родных. Да, грузился полк брата, и я видел роту, в которой когда-то был брат, и фельдфебель подбежал к маме:
– А я уже солдатам сказал, что его благородие нас нагонит.
– Спасибо, Савелий Васильевич, – сказала мама.
Он снял фуражку, и мама перекрестила его, а потом мать крестила молодых офицеров и солдат издали, а с ними уж и Ваню вместе – вместе с вами, как сказала она, и слезы на ее щеках не высыхали. Мама что-то забыла сказать командиру батальона, но уже все были заняты.
– Фединька, – со слезами на глазах спрашивала она меня, – где же он, куда же подевался, – и слезы стояли у нее в глазах.
Капитана я увидел в открытом окне вагона и подбежал к нему. И он, считая, что война кончится очень скоро, был по-петушиному возбужден, вертел головой, отдавал приказания и даже меня поцеловал. От него пахло мадерою, он показывал, что из-за шума ничего не слышит, а звуки полкового оркестра покрывали ропот и крики. Посадка окончилась, и эшелоны отходили – три полка, не считая второочередных, отправлялись из нашего города, – и уже непонятно было, что делать в этой суете, кого слушать, на кого смотреть. Всем хотелось пройти к вагонам через пути, толпа хлынула, а тут железнодорожники: освобождайте пути, но народ пробивался через все ограждения.
– Батюшка-то, смотрите, – сказал железнодорожник, и мне холодно стало, когда я увидел, как худощавый священник из привокзального прихода благословлял солдат и эшелон принесенным из церкви крестом, и он при движениях загорался золотыми искрами в его руке.
– Наши-то, – говорил кто-то, – тоже небось сейчас отправляются, и их крестят. В Польше там наши в разных гарнизонах, раскинутых по всей русской земле, а тут в наших полках все дальние, – говорили люди. – Ведь никто из своих не приедет их провожать, а тяжело, едут, не попрощавшись с родителями и женами, где-то и наших люди провожают.
И я вспомнил, как брат рассказывал мне, что отсылают наших отбывать службу в далекие места, а дальних присылают сюда, и мне от всего становилось холодно в этот знойный день, по телу то жар бежал, то холод, а эшелоны уже двинулись, и я помню жалкое лицо сестры, мокрые от слез щеки мамы и сияющий солнечный день.
От посадочных платформ мы шли медленно на пассажирский вокзал, а Зоя с радостью бросилась вперед. Не пошла, а почти побежала паковать вещи, чтобы на пассажирской станции узнать расписание, записать, когда в Москву поезд прибывает, не ночью ли, но ни одного извозчика не было, всех разобрали, было пусто, только обронено фуражными сено, и прыгали воробьи. Я маму с Зазулиным довел до остановки трамвая, что у вокзала, тут очередь подошла у кассы, я побежал, у Зазулина деньги взял и передал их Зое – вот деньги, возьми билет.
– Билет-то я вам продам, – сказал кассир, – но за то, что вы найдете место, не поручусь. Все пассажирские поезда отменены, кроме двух почтовых. Путь занят идущими войсками, на станциях скопление срочных грузов и багажа, так что не советую вам много с собой брать, а то и втиснуться в поезд будет трудно.
– Все равно, все равно, мне бы поехать.
– Так ты не уходи, – сказала мама. – Оставайся на вокзале, а мы все уложим и сюда привезем.
На привокзальной площади стоял сплошной женский плач, причитания, стон – отправляли запасных.
– На муки, крестные муки опять пошли.
– Да, дети, дети наши.
– Кому нужна эта война.
– А только не нам.
– И то, забрали мужиков прямо с поля – снопы возили, а тут бросай все, на войну справляйся. Мой шурин узнал, лоб вытер, перекрестился, а баба-то так и засовалась, не знает, за что и схватиться: не то снопы убирать, а не то торбу с бельем мужу в дорогу справлять.
– Что же это, Василий Семенович, с ума они там, что ли, сошли, али я что-то на старости лет запуталась? – У мамы глаза запухли от слез, я помню ее худобу и косынку ее темную шелковую, кружевную.
– Вот, запасные едут, я с одним говорил – только и думки у него: не дожал двух десятин ржи, глаза от горя остолбенелые, дома остается жена с двумя ребятами, а уж и пьют дома, и по пути пьют. Нет, Прасковья Васильевна, не подъем тут, а народное горе, это у городских подъем, у офицеров, солдаты исполнительны и вымуштрованы, старые офицеры в гарнизоне засиделись и, не размышляя, радуются, а ведь для народа что же – горе, кровь и слезы война эта принесет. Да что же себя обманывать – помрачение жизни и величайшее горе, – сказал он при выходе с вокзала. – Вот и случилось то, чего я боялся: впутали нас снова в войну. Оправиться нам не дали. Кое-что исправили, конечно, за это время, да далеко не все. Вот и кончилась девятилетняя передышка.
Зазулин вспомнил слова брата: боялся Иван Тимофеевич, что втянут нас в эту войну. Он говорил в вагоне с офицером генерального штаба, и тот рассказал, что зимой уже было покушение на эрцгерцога на Варшавском вокзале зимой, в декабре, когда в заносы, вы уже и не помните, поезд его через наш город проезжал. В присутствии гвардии и великого князя, что ныне назначен командующим, не удалось подкупленному машинисту его сбить – он хотел было из вагона шагнуть, а тут машинист и рванул, чуть было он не упал тогда, да справился, откачнулся. А только не писали тогда об этом, все истолковано было как простая оплошность железнодорожников.
– Да, с Иваном Тимофеевичем мы не раз толковали, и он мне говорил: «Мир нам нужен, долгий, Андрей Степанович, мир, нам надо работать над устроением государства и народа, нельзя нам теперь воевать, надо научить всех трудиться, многое перестроить, пересмотреть. Мы еще не закончили перевооружения, хотя и оправились после японской войны, и если разразится вооруженный конфликт, война будет для нас величайшее несчастье, нам нужно минимум двадцать лет мирной обстановки».
Я все справил, купил билеты, все узнал. Пока я стоял в очереди, меня обступили мальчишки, передавали, бегая, какие идут воинские эшелоны, потому что пяти минут не проходило – один за другим следовали поезда, и мне хотелось все видеть, я сгорал от лихорадочного нетерпения.
Дама, что утром приехала на автомобиле с офицером генерального штаба, при мне спрашивала у начальника станции, проходили ли гвардейские эшелоны и кавалергардский полк.
– Не могу вам ответить, – вежливо сказал начальник станции.
– Почему же?
– Это военная тайна.
Ведь отсюда путь шел к западной границе и на Варшаву. Уже полки Петербургского округа прошли на фронт, и ночью к границе бросили гвардию, и там уже на всех путях и по границе выступили стоявшие в Польше и великом княжестве Литовском части, и гвардейская конница шла, я на нее засмотрелся, потому что никогда не видел такого количества белобрысых и уверенных офицеров и таких рослых солдат. Уже петроградские шли эшелоны – это участвовавших в маневрах, за полком полк, бросали в Восточную Пруссию.
– А молодцы, до чего хороши в полевом, защитном, и погоны уже перевернуты у солдат. Обученные, молодые, – говорил железнодорожный мастер.
– Да, самые здоровые, – отвечал носильщик, – отобранный цвет.
– И до чего научили при всех обстоятельствах глядеть молодцами, – восхищался железнодорожник. – Гвардия – для них праздник начался в Красном Селе, они и едут, как на прогулку.
Ожидая поезда, мы с сестрой, с захлопотавшейся мамой, что прибыла на вокзал, долго смотрели вслед уходящим к Вержболову, как оказалось потом, эшелонам. На сестре лица не было – так она волновалась, что сразу похудела за утро и на щеках у нее выступил румянец, а мама только смотрела и говорила:
– Вот, еще один.
Помню станцию, залитую солнцем, гул очередного подходящего эшелона и то, как мы посадили сестру и передавали в раскрытое окно чемодан, и запах паровозного дыма, смешанного с запахом гари. С большим трудом она едва втиснулась – кого там только не было, коридоры были забиты, замученные люди стояли везде.
– Ну вот мы с тобой, Фединька, – сказала мама, – и остались одни.
Мы ожидали, что Кира приедет, и у нас все было готово для ее встречи, но Зоя не вернулась. Зоя едва доехала, сперва на площадке пришлось стоять, а потом сидеть в проходе на чемодане, поставленном на попа. Брата она в Москве уже не застала: выполняя полученное предписание, он должен был спешно отправиться на фронт.
– Вот неожиданно как вышло, – сказала, получив письмо, мама, – а пришло сразу несколько писем и от брата, и от сестры, – вместо того, чтобы привезти Киру, Зоя сама осталась в Москве.
«Мама, – писала Зоя, – ты только подумай, что Кира пережила за это время. Об объявленной мобилизации брат ее известил по телефону из лагерей, она бросилась туда, полки возвращались, горячая, душная Москва, ночь была такая, что казалось, быть грозе, и по улицам поздно вечером полки пошли походным порядком из лагерей в Москву. Москва замерла. Целую ночь Кира жила в тревоге, и, когда узнала, что объявлена война, сердце ей подсказало, что Ваня не останется в училище, а отправится на фронт. Ведь в Москве остается только военное училище да запасные в казармах. И знаете, – писала сестра с Кириных слов, а Кира даже писать в те дни не могла, – кадровые части ушли не так, как у нас, а бесшумно, с быстротой небывалой, словно никогда и не было их. А Ваня еще оставался с юнкерами в лагерях, он ей позвонил, и она к нему поехала с какими-то женами офицеров, туда из Москвы идет трамвай, и вот движение там их и застигло: высадившись из трамвая, они видели, как идут части, поспешно и молча, как на походе.
В Москве творилось что-то гадкое, громили магазины немецких музыкальных инструментов, какие-то богатые и подозрительного вида перепившиеся люди ездили на автомобиле и среди них молодец в красной шелковой рубахе с толстой мордой и пьяными глазами на Красной площади рвал рубаху на груди и взывал о любви к родине.
Ваня сказал: „Я не мог остаться в училище, в глубоком тылу, в то время как мой полк и все товарищи будут в бою“, – и Кира с ним согласилась. Он подал рапорт по начальству, думал, удастся поехать к нам, попрощаться с мамой и нами, а вышло не так, он должен был сразу же выехать.
Когда он ей все сказал, Кира с ним согласилась, не сказала против ни одного слова, вместе с Кирой они все купили в гвардейском экономическом обществе, она с ним ходила и делала все лихорадочно, совершенно забыв о себе.
Он взял только офицерский вьюк, шинель, шелковое белье, захватил с собой купленную в гвардейском экономическом обществе походную раскладную койку системы Гинтера, и вечером того же дня Кира, офицеры и юнкера его провожали. При провожающих Кира держалась, а потом, – писала Зоя, – оставшись в училище одна, ночь напролет плакала».
На казенной квартире она не осталась, они нашли комнату около Никитских ворот, недалеко от столовой, излюбленной студентами. Зоя с Кирой перебрались туда и все вещи брата перевезли, поселились вместе, по-студенчески, но самым удивительным для мамы и меня была короткая строка, где Зоя сбоку написала, что о переводе на Высшие женские курсы они решили пока не хлопотать.
– Что же это, – сказала мама, – оставаться в Москве? Их ничего не задерживает, а главное, Кире теперь ни до театров, ни до музеев.
Деньги у них были, Ваня почти все Кире оставил, да и отец выслал ей перевод. Случилось так, что в назначенное время он в Москву выбраться не смог, приехал позже, и Зоя его видела, но толком описать не могла, а Ваня так его и не увидал.
«От Вани с дороги, – писала сестра, – мы получили три открытки и письмо, все уже без адресов отправителя и с отметкой военной цензуры. Думаем, что есть известия и у вас, напишите о них нам, пожалуйста, Кира очень просит, ведь она не может ему писать – не знает, куда адресовать, а о нас не беспокойтесь».
С тех пор ночи и дни были наполнены для меня ожиданием, и внутренняя связь с теми, что уехали и были там, объединяла нас, ребят, – мы жили этим даже во время наших игр. Я уже знал, что Кира в Москве получила известия, что брат на месте, в полку, и все наши помыслы были с ними там, а вся наша жизнь здесь была как будто вторичной, и такое чувство было не только у меня и мамы, но и у Ириши, и у босоногих ребят, потому что это был общий язык и мы этим жили. Брат нашел полк где-то на походе, прибыл верхом и принял не взвод, как мы думали, а полуроту и написал: «Я, мама, здесь со своими, меня приняли с радостью, вернулся в родную семью. Я написал Кире и сестре, думаю, что она вернется к тебе, и сердце у меня теперь за нее спокойно, почти каждый день пишу ей несколько слов и отсылаю письма с ординарцем в штаб полка. Я очень жду, чтобы вы жили все вместе, чтобы Кира продолжала учиться, я рад, что с нею Зоя, но буду еще больше рад, если они приедут к тебе».
Полк брата был среди тех частей, которые сразу же бросили на прусскую границу. Начались встречные бои, и в пятом часу дня у нас было солнечное затмение.
До того в солнце все веселилось и жило. А тут на реке перестали колотить белье бабы, и голые мальчишки вылезли из воды. Я домой побежал, когда пепельная пелена начала покрывать берег, город, реку, поля. Старый собор постепенно мрачнел, все меньше и меньше становилось света, и тревожно стало. Глаза всех были обращены к солнцу, простые женщины на нашей улице крестились. Солнце тускнело, и тень медленно опускалась на дома, сады и поля.
Когда я добежал до своего дома, все были на улице. На огне свечи я закоптил осколок стекла, и мы по очереди смотрели через бархатную копоть на красное, уменьшающееся, словно пойманное тьмой, солнце.
Всю зелень как серой пылью припорошило. Курицы нахохлились и забились под скамейку, и Ладе было страшно, она, как бы ища защиты, на нас поглядывала, поджимая хвост, держалась у маминых ног. И хотя нас учили, что Солнце прикрывает на время тело Луны, что все это наукой объяснено, но для простых людей, как и в летописях, это было недобрым знамением.
Еще стояли жаркие дни, продолжали гореть торфяные болота, а где-то далеко на Западе уже занята была Бельгия, повалены пограничные столбы, немцы двинулись на Париж, и мы должны были помогать французам.
Уже потом отставной генерал говорил Зазулину, что, выполняя просьбу французов, мы сорвали и уничтожили выработанные за десять лет военные русские планы – ведь наши войска должны были наступать на Вену и уже оттуда на Германию. Но на Западе сделано было так, что австрийцы не объявили нам войны, хотя все загорелось из-за сараевского дела и австрийского ультиматума, – там, видно, знали отлично о наших разработанных на случай войны тайных планах, потому-то Германия объявила нам войну раньше Австрии, а Австрия задержалась на девять дней.
«Трудно представить хаос, который царил в штабах. Мы не имели никакого представления, – писал в дневнике брат, – кто и что справа, и кто слева, и какие силы перед тобой, а в лесах какие тропы и заготовленные заранее немецкие западни. На привале большинство солдат после нервного напряжения в бою засыпает тут же при дороге, в канавах, а проснувшись, усталые и голодные люди не могут понять – где они, куда идут и откуда пришли. Да и у меня усталость такая, что если бы не часы и карта с отметками в планшетке, то и я бы потерял чувство времени и пространства».
В то время как немцы уже заняли Бельгию и через плодородные земли стремительно двигались на Париж, французский посол настоял, чтобы Россия отвлекла на себя немецкие военные силы, сосредоточенные на французском фронте, когда немцы решительным ударом на запад хотели добиться быстрой победы. Союзники упросили великого князя, влюбленного в Париж и люто ненавидевшего немцев, чтобы русское командование ускорило наступление на Восточную Пруссию, и вот он яростно бросил туда полки, ради помощи французам принося в жертву наши лучшие силы.
«Нас послали на верную гибель, – писал брат, – повели на смерть, мы попали в мешок, штабы запутались, полки не знали, где находятся отставшие штабы, а штабы утеряли связь с частями. Пехоту вели во весь рост, и немцы косили ее из пулеметов, как спелую рожь, мы попадали в засады, армия Самсонова была обречена».
И французская столица была спасена, потому что смелое и успешное поначалу наступление нашей армии во второй половине августа заставило немцев снять с французского фронта два корпуса и отправить их против нас. Немецкое наступление было приостановлено, но каких нам это стоило страшных потерь. Тогда раскрылось то, что на всю жизнь ранило не только меня, но и босоногих ребят, – раскрылась беспомощность верховного командования и неподготовленность и запутанность наша. Вокзал. Тревога и горечь. Зловещие, смутные вести, мрачность железнодорожников, что первыми узнавали все, и недоумение и горечь простого народа.
Вы помните, как тогда жизнь пошла, словно изменяя все привычное на наших глазах: запуталась далеко меж озер и болот армия Самсонова, и пленных наших немцы гнали в Германию.
Мы жили обостренными чувствами, и уже тревога докатилась до наших мест. Да что, страшно даже подумать, сколько стоил нам великокняжеский удар – мы потеряли триста тысяч отборных войск, посланных чуть ли не с красносельских смотров, – отборную, обученную и исполнительную пехоту.
Зоя прислала отчет в коротеньком письме: у нас с Кирой все решено и обдумано – какие могут быть занятия, когда там льется кровь, разве можно по-прежнему продолжать ученье на высших курсах. Здесь все говорят, что на позициях уже не хватает сестер, и они решили поступить на курсы сестер милосердия. Оказалось, что такие курсы военного времени еще не открыты, но им дали добрый совет, и они уже работают в госпитале под руководством врача.
«А потом мы можем держать экзамен. Жить как раньше, бегать по театрам и концертам, как прошлой зимой, – это отлично, но теперь все изменилось, милая мама, и поверь, таких, как мы, в Москве уже много. Ты, пожалуйста, не волнуйся, ты знаешь Киру – она жена офицера и иначе поступить не могла, она всегда повинуется тому, что говорит ее сердце».
– Ну, вот, – сказала мама, – придется и мне, старой, туда поехать.
Дома все было приготовлено, и я даже поставил в комнате у Киры нарванные цветы, и мы ожидали со дня надень их приезда в эти тревожные дни фронтовых известий. По лицу мамы я видел, что это серьезно.
– Как же теперь, барыня, будет? – спросила Ириша.
– Уж и не знаю.
Как мне хотелось отправиться в Москву вместе с мамой, но уже начались занятия, и она сказала: ты останешься за хозяина. Я не мог ее проводить, потому что был в гимназии, и волновался, а на переменах только и разговоров было, что о войне и о том, что какие-то мальчишки сели в солдатский вагон и уехали на фронт, и все мечтали о том, как бы вот так на фронт бежать. Я в первый раз один садился за стол, и Ириша подавала мне как большому и часто спрашивала, что пишут в газетах, и я ей рассказывал все, что узнал, а мама вернулась одна и, вернувшись, рассказывала мне и Зазулину при Ирише, которая только ахала:
– Ох, уж эта Москва, – говорила она, а у нее на вокзале сумочку обрезали, хорошо, она документы и деньги носила на груди. – А Кира и Зоя – да разве можно их уговорить, я и не стала, я и видела их мельком, больше по вечерам. Глаза горят, одна другую перебивают, бросились мне на шею, и у той и у другой слезы на глазах, живут по-студенчески, пьют чай и едят то, что успевают купить по дороге. Все по-походному: чемоданы раскрыты, вещи разбросаны, все время пропадают на практике, концы длинные, а Москва путаная, пестрая и шумная, богатая, и говорят, я и верить не хочу, будто бы еще веселее зажила с войною Москва. Деньги, говорят, у нас есть: брат оставил, и Кире еще отец прислал, и у них с Кирой все общее. Вы бы на Зою теперь посмотрели – работают в госпитале и учатся, слушают курс у нескольких докторов. Там у них и подруги завелись, одна – дочь знаменитого московского врача, – совсем как одержимые, только одно я и слышала за ужином: ах, поскорее бы окончить.
Кира решила попасть в полк брата или в дивизионный подвижной госпиталь, и Зоя от нее не отставала. Тут я благодаря своему возрасту почувствовал себя обойденным: вот даже и Зоя будет нужна, а я буду сидеть за партой и бегать на вокзал.
Мне Кира прислала прекрасную карту военных действий, большую готовальню и кожаный портфель, и в готовальню вложила бумажку: «Учись хорошо».
Поздней осенью они прислали счастливое письмо: прошли через все испытания, сдали экзамены, порадуйтесь с нами, окончили курсы и теперь добиваемся включения в какой-нибудь отряд для отправки на фронт. И не в санитарном поезде, куда стремятся многие попасть, а на фронт.
«А Москва, – писала Зоя, – как тебе, мамуся, сказать, несмотря на то, что она в первые дни вся была захвачена войною, теперь, когда мы осмотрелись с Кирой и пошире открыли глаза, то поняли, что здесь, в Москве, что-то неблагополучно. Знаешь, у нас молодой врач с масляным лицом начал даже ухаживать за Кирой в госпитале, а когда она ему сказала: стыдитесь, доктор, он ей говорит: „Ну что вы такая строгая. Я достал два билета в Художественный театр, не сердитесь, пойдемте, что же с того, что война, человек должен жить“. После этого мы с ним даже не разговариваем, а он из интеллигентной семьи, бывает в литературно-художественном кружке, знаком со знаменитыми литераторами, артистами, а о том, как эти круги живут, мы знаем от дочери московского профессора, что знает все и всех и, рассказывая, удивлялась нашему неведению и восхищалась, как она говорит, нашей наивностью. Если бы ты слышала, что она нам рассказывала – что в московских семьях происходит, и о художественной среде, и о том, что творится в доме Перцова против храма Христа Спасителя, где живут художники, – о каких только уродствах мы не слышали. Мы-то жили до сих пор, словно в младенческом сне, и теперь вспоминаем слова Вани на крыльце, когда он более чем сдержанно о Москве говорил, а мы, изумляясь и ничего в сущности не понимая, засыпали его вопросами. Все здесь избалованы и лакомы до всего необычайного и нового, все так привыкли жить только для себя и самих себя ублаготворять, чем образованнее и богаче люди, тем взбалмошнее, Москва полна бездельниками всех сортов, все театры полны, а там – это мы знаем от раненых – полная лишений позиционная жизнь. Жизнь московская представляет такой контраст и раскрывает какой-то общественный порок, и мы ждем часа, чтобы выбраться из Москвы.
Диплом получили, – писала Зоя. – Обучение продолжалось один месяц – страшно мало, но так работать, как мы, редко кто работал. Ассистент предложил Кире давать хлороформ во время операций, а я все время пульс считала».
Короткие письма, написанные второпях, как-то переплетались с письмами брата и с вестями, полученными от других, от раненых на вокзале, потом была осень, мама жила в беспокойстве – от Вани долго нет писем, и Кира, получив от него весточку, сразу же посылала нам выдержки из писем брата. Мы знали: русские войска несли страшные потери, отступали из Восточной Пруссии к границам и погибали.
В сентябре началось новое наступление: наши осадили Перемышль, везли поезда пленных австрияков, но одержанные на юге победы не прикрыли того, что произошло в Пруссии. Помню, я проснулся ночью – мама молится, а я думаю: где-то там с полком брат, под ночным дождем, и слышен стук обозных колес, и вспыхивают огни, – леса, болота, туманные и сырые поля…
«Темно, – как писал потом брат, – кругом пожары, все дороги запружены обозами, начались дожди, лошадь под седлом качается от усталости, а о людях что и говорить. Отходили по мхам и болотам, многих затянула топь, кругом пылают подожженные немецкие деревни, и только зарево освещает всю местность, переходы большие, идем в темноте, на хвосте друг у друга, моросит мелкий дождь».
Корпус, в который входил полк брата, под Сольдау, во время разгрома русских сил, был переименован в летучий – он был соединением двух армий, и его все время бросали в те места, где приходилось выдерживать удары страшной силы.
В октябре говорили, что немцы уже под Варшавой, я тогда не знал, что полк брата переброшен в Польшу, но на вокзале видел, как туда весело ехали одетые уже по-зимнему сибирские стрелки. И речь-то, и говор был совсем иной, сибирские стрелки были прямо с эшелонов, как писал брат, брошены в бой и шли через Варшаву, и брат видел, как польки благословляли их, когда они проходили через город с песнями, и дарили иконки Ченстоховской Божией матери. Они отстояли Варшаву, но почти все там и полегли, – мать, читая письмо, перекрестилась, а я поверить не мог, что вот уже и тех сибиряков, которых мы оделяли папиросами на станции и которые, оглядывая нас, улыбались, уже и в живых нет.
Тут Кира все сделала, а Зоя ее только послушно сопровождала, согласная на все, – чтобы во время обилия потерь, необыкновенного количества раненых и нехватки персонала попасть в тот корпус, где находился брат, в ту дивизию, вернее, остатки полков, где вместо батальонов оставались роты.
«Мы и спали урывками, – писала Зоя, – и думали только об одном. Кира страшно волновалась, когда шла к медицинскому генералу.
– Вы кто же? – спросил он подозрительно. – Теперь ведь разные поступают, и те, что ищут авантюры и хотят выскочить замуж за офицера, ведь это легко в военные времена.
– Ваше превосходительство, я жена офицера, – сказала она, и, когда тот просмотрел ее бумаги, и что она студентка, и посмотрел ей в глаза, – а ты бы сама в них посмотрела, с такими глазами она всего добьется, – то он сразу переменил тон и стал необыкновенно вежлив, а то все говорили, что обычно язвителен и довольно груб, и не особенно жалуют здесь добровольцев и любительниц острых ощущений, а таковых много».
Мы удивлялись, что Зоя стала писать такие письма, потому что обычно они у нее отличались легкостью мысли, она легко схватывала только поверхностное и так же легко забывала. Мама, думая о здоровье Зои, писала, выдержит ли она, но уговорить ее было уже нельзя. В начале зимы они хотели заехать хотя бы на день к нам, и у нас все для их приема было готово, но назначение произошло неожиданно, от них пришла телеграмма: надо было немедленно дать ответ и выехать на фронт с отрядом, где оказались свободные места. Путь на фронт не идет через наш город, и, верите ли, минуты не оказалось заехать к нам, и мы получили с дороги несколько коротких писем, где начинала Кира, а заканчивала сестра. Зоя писала, что доктора чудные, и их доктор, что был на японской войне, на прощанье сказал, что для сестры нужно не только уменье, но и доброе христианское сердце – вот чем отлична от других настоящая наша сестра и почему ее солдаты называют сестрицею. Среди этого ужаса надо сердце иметь, и не огрубеть, не зачерстветь, формальных знаний мало, надо душу живую иметь.
Время было зимнее, суровое, в пути им пришлось многое увидеть и испытать, и мы еще не знали, куда им писать, потому что они получили назначение только в Варшаве, где на станции остановка долгая была – что-то забирали из складов и запасов. Наконец дали назначение в полевой госпиталь, что работал в тылу нашей дивизии, – причем старшая сестра чуть было Зою не забраковала и не оставила в Варшаве, и были слезы, но все обошлось, – посмотрим, сказал врач, пусть остается.
«В Варшаве, – писала сестра, – мы заглянули в гостиницу, а там столько гвардейских офицеров и титулованных сестер из Петербурга, и тон головокружительный – светские дамы, английская и французская речь, у подъезда штабные автомобили и, как говорят, столько неожиданных фронтовых романов и изысканная придворная атмосфера. Кофейни полны тыловыми офицерами, и тут же царит оперетка, мы почувствовали себя провинциальными бедными родственниками, полюбовавшись на все эти проборы, улыбки, аксельбанты, мы сбежали и кормились на вокзале. Кира угощала пирожным, мы пили кофе по-варшавски, а потом вспоминали все это, как какое-то наваждение. Наступила осенняя слякоть, зарядили дожди, дороги раскисли, раненых тучи – отовсюду везут и везут. Все завалено ранеными, земля попадает в рану, и начинается столбняк, невозможно обсушиться и обогреться по неделям, а что на фронте, мы понятия не имеем, потому что об этом в журналах и газетах не прочтешь. На станциях, где ожидают погрузки, свалены тысячи людей с кое-как сделанными перевязками, и в темноте слышен только стон да скрип телег – все везут, подваливают. Врачи и сестры растерялись, рук не хватает – ведь это беда, беда, все в суете, но мы счастливы».