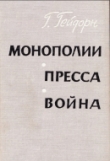Текст книги "Иван-да-марья"
Автор книги: Леонид Зуров
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
– За ночь, может, в холодке и отойдет, – говорила Кира.
– Что же вы домой травы принесли? – как и Маша там, смеясь, спрашивала Ириша, а я ей помог втащить на крыльцо второе ведро с водой.
– А вот ты скажи нам, почему ее так зовут? – спрашивала Кира.
– Так все ее зовут.
– Разве это ответ?
– Ахти, тошненько, какие настойчивые. А вот и не знаю. Ну, думаешь, зовут и зовут, а вот раньше-то спросить людей было и не в догадку.
– А мы надеялись. У кого же спросить?
Шуму было много в кухне. Зоя уже знала, что приготовлено, и говорила о биточках с луком в сметане.
– Вот чудные, – отвечала Ириша, – да она завяла, что же в воду-то ее ставить.
– Нет, надо поставить в воду, – говорила Кира, – я ее унесу к себе наверх и утром обязательно хочу на нее посмотреть.
– Вот хлопот-то, – сказала Ириша. – Кира Сергеевна, я ваше платье выгладила и в вашу комнату отнесла, оно на постели лежит.
– Спасибо, Ириша, какая ты милая.
– Тут без вас соседка приходила на бумагу узоры снимать, – все хвалила, говорила: а и вышивка-то у них до чего хороша.
– Я голодная, – плакала Зоя, – мама, где же она?
– Да вот, барыня, – говорила Ириша, когда мама разливала раковый суп с рисом и укропом, – принесли барышни наши в кухню целый ворох травы.
– А Феденька за день-то похудел, – сказала мама.
Брат сидел на отцовском месте. Мама была счастлива. За ужином мы ей обо всем рассказывали, смеялись, говорили, что день был какой-то особенный, его ни с чем сравнить даже нельзя, рассказывали наперебой, ели с наслаждением, и трудно описать шумное наше веселье. У нас были первый раз вареники с вишнями – это я вчера днем залез на крышу амбара и нарвал первые, самые зрелые, лежавшие на крыше вишни.
– Неужели и ты, мама, – спрашивала Зоя, – ничего не знаешь об иван-да-марье?
– Как же, знаю, – ответила мама, – знаю, что она полезная, деревенские люди ее заваривают и пьют от ломоты, от всякой хворости. Она лекарственная, как золототысячник, – сказала счастливая мама, – что кровь очищает: если после тяжелой работы его выпить, то телу сразу легче становится.
– А почему ее так называют?
– Вот этого сказать не могу, – ответила мама, – иван-да-марья. Ну, вот на порубках растет иван-чай розовым цветом, почему его прозвали так – может быть, за красоту, потому что невысокий и весело цветет, а может быть, и за другое, не знаю.
– Дедушка сказал, что она так названа, потому что два цвета несет, – сказал брат, – мужской и женский.
– Желтый и синий, – добавила Зоя.
– Синий-то синий, – сказала мама, – только вечером он у иван-да-марьи темный, а по утрам ярко-лиловый, и меняется он в зависимости как солнце на него падает, я за веселость и дружбу иван-да-марью люблю. Я Киру Сергеевну понимаю, трава эта очень красива, и у нее вырезные легкие листья. Издали посмотреть – цвет, а поближе приглядишься – трава и трава.
– Правда, мама, она очень нежна и легка, Ваня говорил, что завянет, не довезем. Но все же, мама, почему ее так назвали? – опять упрямо спросила Зоя.
– Назвали другую сон-трава, – сказала мама, – взяли и назвали.
– Я сказал тебе, что были брат с сестрицей, ты, мама, эту сказку не помнишь?
– Кажется, Ваня прав, жила будто бы сестра с братом, – сказала мама, – а может быть…
– То Аленушка, – сказала Кира.
– А может быть, я и путаю.
– Мы всех расспросим, – сказал я.
– Ириша, – позвал брат, – надо деревенских на базаре расспросить.
– Спросим, раз дело такое, – весело сказала Ириша, – вот жаль, барыня, что Андреиха прошлой зимой померла, все знала, что ее ни спросишь, вот какая была старуха.
– Да, у народа со старины каждая травка названа, – сказала мама.
Мы перебирать начали.
– А у кукушкиных слезок какое предание – не знаешь?
– Ну, старая кукушка летала, детей своих искала по опушкам, когда они куковали, и слезы на опушках теряла.
– А другие говорили, – сказала мама, – что в Гдовском уезде эту травку называют богородицыны слезки. А вот тысячелистник как называют, знаете?
– Нет.
– Да просто, – сказала мама, – матрешка.
Все засмеялись.
– А отчего? – подражая голосу Зои, сказал я. – А почему?
– А отчего да почему, о том я вам не скажу, – кончила мама.
Разговор был окончен, мы уже съели компот, усталость как рукой сняло, я выбежал в сад и там покрутился, звал Киру и Зою, но они сели на крылечке, выходящем в сад, и тут было разговоров.
– Ожили, – сказала мама.
А потом брат привел на крыльцо и маму, видно, они опять успели хорошо поговорить. Мы сидели на крыльце и о чем только в тот вечер ни говорили: начали с маминого детства, потом Кира с Зоей начали расспрашивать брата о Москве, о Художественном театре, Качалове и Станиславском, о пьесах Чехова, кто играл в пьесе Ибсена доктора Штокмана, бывал ли он на «Трех сестрах» в Художественном театре и кто выступал в каких ролях.
На крыльце сидя, чувствуя друг друга, говорили о болезни Врубеля и о его Царевне. Зоя спорила, как всегда, сама себя перебивая и торопя, говорила, как зимой красиво, когда зажигаются огни в Петербурге, о профессорах, о том, как они мерзли с Кирой, стоя за билетами в очередях, в столице глаза разбегаются на выставках, нет времени и возможности все посмотреть, каждая минута была на счету.
Брат рассказывал, что и Москва живет зимой возбужденно и лихорадочно, и все там во что бы то ни стало торопятся жить. Чем больше знакомишься с внутренней жизнью Москвы, тем больше иногда охватывает тревожное чувство.
– Почему? – спросила Зоя удивленно.
– В этом есть что-то болезненное, какая-то путаница, сбитость, – и брат, смеясь, сказал маме, как один его друг, вернувшись из отпуска, определил, что военное училище среди всего, что творится зимою в Москве, – строгий мужской монастырь, если сравнить с жизнью студенческой.
– Я чего-то, Ваня, не понимаю. Почему ты так думаешь?
Брат сказал, что все это вспыхнуло и родилось не от естественного развития, а вызвано ослаблением государственной власти и срывом, понесенным во время японской войны, после крови и баррикад. Москва с тех пор и живет зимой до чрезвычайности сбито и возбужденно, словно жизнь должна обратиться в сплошной праздник, и это особенно замечаешь, выходя после занятий и размеренной военной жизни.
Я, понятно, внимательно слушал, но понять тогда, о чем говорит брат, не мог, да и не задумывался, а Зоя сказала:
– Как странно, а мы в Петербурге этого не чувствовали.
– У нас там голова закружилась, – сказала Кира.
– Ваня, ты строг, откровенно говоря, я тебя слушаю, но не понимаю, что же тревожит тебя, ведь очень хорошо, что там жизнь такая шумная и разнообразная.
У меня же начали слипаться глаза, и я чувствовал, что представить себе Москву не могу. Я еще нигде не бывал, никуда не выезжал из нашего города, но погодите, думал я, вот потом и я поеду учиться туда и сам все увижу.
– Ты нас слушаешь или спишь? – спросила меня Кира.
– Слушаю, но многого не понимаю.
– Потом и ты, может быть, меня поймешь, – сказал брат, – жизнь сложная, мой дружок.
– И я, знаешь, – сказал я маме, – потом туда поеду.
– Знаешь что, – сказала она, – шел бы ты спать.
Но я не хотел уходить.
Вечер был тихий, когда разговор прерывался, наступала какая-то тишина, я бы сказал – сердечная. Мы на крыльце, сад тих, да и город тих, а наш старый, деревянный, ветхий, уже посеребренный временем дом так обогрет за день солнцем, такой он был свой. Как хорошо, прислушиваясь к беседе, думал я, – вот Ваня, и мама тут, и Кира здесь среди нас, и сердцу становилось тепло. Вот так бы навсегда остаться всем вместе и слушать, прикорнув у материнского плеча, между мамой и братом. Глаза у меня начали слипаться, и я, чувствуя во всем теле приятную, но расслабляющую усталость, хотел бы прилечь, положив голову кому-нибудь на плечо или на колени.
– Да ведь ты засыпаешь, – сказала Кира, которая сидела рядом со мной.
– Нет, – ответил я, пытаясь раскрыть пошире глаза. – Я немного еще посижу.
– Вечером его не уложить, – сказала Зоя, – а утром не добудиться.
– Который час?
– Поздно.
– Шел бы ты, Фединька, спать. За день-то небось набегался, а там тебе в отцовском кабинете Ириша на кожаном диване постелила.
Я вспомнил, что должен уступить комнату брату, но идти в кабинет мне не особенно-то хотелось.
– Ну, поднимайся, поднимайся, – сказала мама.
Я встал, задержался было на веранде, послушал, но усталость была сильнее меня.
Проснувшись утром в полутемной комнате, я почему-то решил, что еще очень рано. Не зная, что Ириша по маминой просьбе вчера вечером тихо прикрыла ставни, я снова заснул, а когда проснулся, то заметил, что сильное солнце проникает через ставни. Этой комнаты я не любил, с нею была связана долгая болезнь отца, а до того – объяснения, когда отец был раздражен и вызывал меня, я стоял у стола, а он меня отчитывал. Окна выходили на улицу, а не в сад, в доме было тихо, и голова у меня немного болела – не знаю, может быть, ее напекло за день солнцем. Как же это случилось, что я проспал, а хотел, как и вчера утром, первым увидеть брата. Я быстро оделся, умылся, заглянул в его комнату – брата не было, все было убрано, чисто, постель на походной койке он сам застелил. Когда я вышел на веранду, то сидевшая за столом Зоя сказала:
– Здравствуй, тетя Соня.
– Где мама, Кира и Ваня?
– Мама у Зазулина. Все давно уже отпили чай.
– А где Ваня?
– Ты бы еще дольше спал, – весело ответила она, – они с Кирой отправились в город за покупками, и он обещал показать Кире собор.
Сестра чистила землянику, пальцы у нее были в ягодном соке. Несмотря на то, что Кира ушла в город с братом, чувствовала она себя отлично, ее волосы золотились на солнце, и уже перебранная земляника, засыпанная сахарным песком, была выставлена на блюде на перилах.
– Но почему же ты меня не разбудила? – наливая чай, обиженно сказал я.
– На этот раз я не виновата, – мягко ответила она, – это мама сказала: он еще очень худ, идет в рост, за вчерашний день устал. Пусть сегодня утром подольше поспит.
– Вот, вот, – начал я, – и ты хороша. Ваня приехал, а я – пусть поспит. Не надо его будить, он растет. Спасибо. Вот так и всегда, а я не ребенок.
– Мы все говорили вполголоса и ходили на цыпочках. Кто же виноват, что ты такой соня.
Что на это сказать – я проспал и досадовал. Вот теперь, подумал я, они в городе, а я остался вдвоем с Зоей. Вечером мне не удалось поговорить с братом, и я дорого бы дал за то, чтоб очутиться с ними в городе. Сестра, оставшись чистить принесенные Иришей с базара ягоды, была в отличном настроении и даже тихо что-то напевала.
– На что ты злишься, – сказала она, – хочешь земляники? Тут на блюдечке помятая.
Это предложение обидело меня еще больше.
– Не хочу, пожалуйста, ешь сама.
А сестра как ни в чем не бывало, пока я пил чай, говорила:
– Разговорились мы после твоего ухода. Мама ушла, а мы с Ваней расстаться не могли, запоздно засиделись, пошли к беседке и сидели бы на крыльце до зари, если бы мама нас всех спать не погнала. Ваня нам о своей жизни много рассказывал, о характерах молодых юнкеров. А Кире рассказывал о городе и обещал показать собор и свой корпус. Передай мне пакет сахарного песку.
Я молча передвинул к ней пакет. Я был огорчен, а равнодушие сестры меня задело. Стакан с чаем я отодвинул и не притронулся к оставленному мне блюдцу с земляникой.
– Что с тобой?
– Ах, пожалуйста, – сказал я, поднимаясь, – оставь меня в покое, не делай вид, что ты ничего не понимаешь.
– Подумаешь, какое несчастье. До чего же ты иногда становишься несносным, вот посмотрел бы на себя со стороны. Жаль, что Кира не видит твое лицо. Отправляйся-ка ты лучше купаться.
– Лучше тебя знаю, что делать. Пожалуйста, не учи.
И потому, что она сказала о купанье, я решил в это утро один, без брата, не купаться.
Я прошел в отцовский кабинет, но там уже убирала постель Ириша, подумал – не отправиться ли к Зазулину, но, почувствовав прилив горечи и одиночества, отправился в сад, достал спрятанные в беседке под половицей тетради со своими стихами, бродил по саду. А утро было в полной силе, и день обещал быть на редкость знойным. Пахло розами, их много раскрылось на кустах – мелких, желтых, – из той породы, которую сколько ни срезаешь, с каждым утром еще больше бутонов. В раскрывшихся розах сидели бронзовые жуки, которых я снимал и выбрасывал за забор, хотя они даже и не притворялись мертвыми, а щекотали ладонь.
Чувствуя себя разбитым после вчерашнего похода, отбросив книгу, я лег в тени у корней рябины. Там я открыл было тетрадь со стихами, попытался читать, но в это жаркое утро они мне показались плохими. Отбросив тетрадь, я лег на спину и закрыл лицо руками. Я был обижен на Зою и говорил себе: это она потому меня не разбудила, что вчера, когда Ваня в моей комнате был, я ее не разбудил. Я лежал, горевал, что брат ко мне не зашел, – как бы я хотел отправиться в город, мне так хотелось быть там с ними.
Я лежал под рябиной, положив руки под голову, глядя на ветви, и листву, и уже завязавшиеся рябиновые ягоды и пытаясь в чувствах своих разобраться. Слышно было, как на реке перекликаются бабы, колотя пральниками мокрое белье. Еще через полчаса я услышал далекий голос сестры, но не откликнулся.
– Федя, – звала она, и по голосу я знал, где она меня ищет – в вишеннике, – где ты? Ау!
Я слышал даже голос Ириши, но мне в это утро не хотелось никого видеть, и я не откликался, а Зоя, выбежав на покошенное место, заметила меня и закричала:
– Ну, что ты? Я тебя всюду искала.
Тогда я приподнялся и сказал:
– Не мешай. Никого не хочу видеть.
Но сестра, подбежав, схватила меня за руку и насильно подняла.
– Федя, что сегодня с тобой?
– Она еще спрашивает, – обида держалась у меня в голосе, а до того я думал так: ну и не надо, брат вчера говорил, что уйдет со мной утром купаться, а Зоя назло поддакивала маме, что не надо меня будить. И всему виною эти прикрытые ставни и этот диван, в котором я утопал. – Оставь, пожалуйста, меня в покое.
– А вот и не оставлю, – закричала она, не обращая внимания ни на мои слова, ни на мое настроение.
Тут я заметил, что она как-то растрепана, а лицо у нее было счастливое, нет, вернее, совершенно растерянное и сияющее глазами лицо.
– Подумать только, – закричала она, – он сердится. Ты до сих пор сердишься на нас всех. Глупый ты, Федя, глупый. Ты знаешь, это чудо.
– Да в чем же дело? Отчего ты такая растрепанная?
– Ни за что не угадаешь. А вот сразу и не скажу.
– Тогда отстань.
– Глупый, – схватив меня за руку, закричала Зоя. – Глупый мальчишка. Ничего-то ты в жизни не понимаешь. Кира – невеста.
– Ты всегда все выдумываешь.
– Не веришь?
Сестра, схватив меня двумя руками за плечи, пела и ликовала.
– Не веришь? – изумленно повторила она. – Правда, истинная правда. Вот тебе крест, – сказала она вдруг истово и серьезно, как когда-то в детстве. – Ваня сделал ей предложение, они у мамы, и она уже их благословила и согласилась, и они попросили меня найти тебя.
Она схватила меня за руку, и мы побежали к веранде.
– Как же это так? – спрашивал я.
– Ну, ты, видно, еще не проснулся, – отвечала сестра, – они ходили в город, и там он все сказал и сделал Кире предложение, а она, не думая ни секунды, посмотрев на него, согласилась.
Со слов Зои я мог понять только одно: что они были на Соборной горке, потом в Анастасиевском сквере и что брат привел Киру к маме, все сказал, мама заплакала, этого никто не ожидал, все произошло внезапно, хотя Зоя вчера кое-что и заметила. Ириша позвала ее и сказала, что мама почему-то в слезах, а когда она вбежала, то плакала уже и Кира, плакала и улыбалась, а Ваня целовал мамины руки, и Ириша была в слезах, но только не Зоя.
– Я так была ошеломлена, что бросилась их всех целовать, они и попросили тебя отыскать. Я думала, что ты ушел купаться, но Ириша сказала, что ты отправился в беседку, я туда, а там – никого, начала звать, а ты не откликаешься.
Подбежав с Зоей к веранде, я увидел Киру, а главное – ее глаза, и то, что она была в малороссийском платье и очень бледна, а у мамы в руке был скомканный мокрый платок, и рядом я увидел счастливое лицо брата.
– Поздравь нас, Федя, – сказал он мне, когда я взбежал по ступенькам.
Но я был настолько растерян, что даже не знал, что в таких случаях я должен сказать. Кира же, видя мое лицо, не дав мне и слова сказать, но чувствуя все, что я переживаю, расцеловала меня при всех, не только щеки, но и губы у нее были от слез еще мокрые. Слезы подступили у меня к глазам и готовы были брызнуть, но я сдержался, я не знал, что сказать брату, а он стоял около матери и улыбался.
– Вот так иногда бывает, – сказала мама. – Что же ты, Фединька, ни с Ваней, ни со мной не поздоровался, сегодня ведь мы еще не виделись.
Тут пришел Зазулин, и все спустились в сад, и у мамы были на глазах слезы, а сестра, смеясь, Кире говорила:
– Федя-то растерялся.
– Фединька, – говорила мать. – Федя еще не очнулся.
Я посмотрел на всех. Брат улыбается счастливо, но в то же время смущенно, мама в слезах. Все произошло без меня. Тут мама сказала Зазулину:
– Ну что же, если сердце сердцу сказало, то этому противиться грех.
Надо было видеть Зою. Что с нею происходило! Зоя Кире говорила:
– Вот теперь ты, Кируша, совсем наша, наша.
Она летала, как на крыльях.
Сразу начались хлопоты: во-первых, совещания с мамой и вызванным Зазулиным, у которого лицо раскраснелось.
– Ведь у Вани-то, – сказала мама, – каждый день на счету.
В то же утро брат с Кирой, мамой и Зазулиным отправились к нотариусу, а Зоя, путаясь, с маминых слов объяснила мне:
– Ну да, земля общая у нас, неразделенная, Ваня не хотел, чтобы тогда была выделена его часть.
– Но зачем это все? – твердил я, считая, что это не имеет отношения к чувствам и всему тому, что происходит в сердцах.
– Как зачем? На военной службе существуют такие правила, – со слов мамы и брата объясняла сестра, а она узнала обо всем, когда я через сад бегал к Зазулину, – молодой офицер свободно может жениться, если он уже в капитанском чине, а до капитанского чина нужен реверс.
Этого я не понимал, такого слова не знал, – что за слово.
– Что такое реверс?
И слово какое-то непонятное и иностранное.
– Во всех армиях такие правила, – сказал сестре брат, – и переменить их нельзя, а реверс это или вносят деньгами несколько тысяч, или же надо послать начальнику училища – прямому начальству – бумаги.
Пока брат был с мамой у нотариуса, Зоя с Кирой ожидали их на набережной и волновались, но все прошло благоприятно. Бумага там же была составлена, мать подписалась, и нотариус подпись заверил: что мать имеет землю такую-то и сдает ее исполовщикам, а земля – луга и покосы – приносит такой-то доход, что имеет дом, который оценен на такую-то сумму, и будет сыну помогать, так как есть и его невыделенная часть. Хорошо, что нотариус еще задержался, а мама и купчие крепости, и все старинные планы принесла, и все бумаги.
Все бумаги, заверенные у нотариуса, надо было послать с рапортом, который тут же, у нотариуса, брат и написал и просьбу приложил о разрешении вступить в брак, и тут же написал письмо друзьям. Надо было сразу отнести все на почту, они встретились на набережной, и все отправили в Москву, и Кира отцу написала письмо, раскрасневшаяся и взволнованная, а Зоя несколько раз бросалась ее целовать, и Кира была смущена.
У нас в саду был недовольный Толя. Никого не найдя, кроме Ириши, а она ему сказала на кухне – ушли в город по делам, он вышел недовольный, увидел нас и был неприятно удивлен, что мы все такие радостные.
Зоя сказала, что маме с Зазулиным надо было составлять какие-то бумаги, а мы отправились гулять и завтрак пропустили.
– Стол накрыт, Ириша одна, первый раз так – прихожу, никого нет. Третьего дня вы просто меня подвели, я ждал вас у кассы и чуть не опоздал к первому акту, вчера явился, – вы на Череху уехали, но Прасковья Васильевна была дома, а сегодня – дом пуст.
– Ни слова не говори, – шепнула Зоя, – до тех пор, пока Ваня не получит разрешения, никому больше не скажем.
– Хорошо, – сказал я.
Лада играла с нами, и с Кирой, и со мной, и била по сапогам брата рыжим хвостом, и тыкалась мокрым холодным носом, и крутилась меж нами. В обед все были взволнованы, разгорячены, и Лада забралась под стол и клала морду мне на колени, просила и переходила то к одним, то к другим, Толе мы предоставили возможность вдоволь поговорить, и он разглагольствовал, в то время как мы переглядывались, и у мамы было взволнованное лицо и в то же время печальное, у Киры то и дело горели щеки, а Зое не сиделось. Мы должны были говорить за столом о чем угодно, но только не о том, о чем нам бы хотелось, и у всех блистали глаза, и брат был взволнован, выдержан, предупредителен, и они сидели за столом не рядом, а Зоя сияла больше Киры.
Тут и Зазулин пришел, и Зоя, сорвавшись, выбежала ему навстречу – предупредить, чтобы при Толе он не проговорился. Тут же нам всем дали по рюмке токайского, и мама выпила, а Толя, приподнявшись, поздравил брата с приездом, брат поцеловал мамину руку, а потом посмотрел на Киру. Мы с нею чокались первый раз, и такой румянец залил ее щеки, счастливый и открытый румянец смущения и радости, и такая она была прелесть, даже лучше еще, чем на жнивье среди баб вчера, а Ириша смотрела издали на нас и показала смеющимися глазами на ухаживавшего за Кирой умного Толю, который, видя, что все его хорошо слушают, оказался на этот раз исключительно красноречив.
Брат слушал его, сиял, и его спокойная и чистая, я бы сказал, твердость и выдержка нравились мне, и в то же время все меня тайно смущало: и как во время рассказов Толи вспыхивало Кирино лицо румянцем, когда брат смотрел, улыбаясь, на нее, и как необыкновенно была взволнована Зоя.
А Зазулин маму спрашивал:
– Так значит, Прасковья Васильевна, сегодня все вами сделано?
– Как же, надо было торопиться, время-то какое горячее.
– В добрый час, в добрый час.
– Вы чем же сегодня заняты были? – спросил Толя.
– Да надо было к нотариусу зайти.
Тут Зазулин спросил его об отце, которого он знал, когда Толя был гимназистом.
Я все еще не мог привыкнуть к тому, что изменило нашу жизнь, потому что это случилось так неожиданно для всех нас, к радости Зои и к моему горю, я не мог представить, как же так – они вчера утром впервые говорили, а уже, словно разбуженный, по-новому зажил и без того оживленный наш дом.
Я спрашивал Зою:
– Где Кира?
– Да они с Ваней в саду, в беседке, где же им быть. Ну, что ты носишься по дому как угорелый. Чуть с ног не сбил, даже испугал меня. Пожалуйста, туда не ходи. Оставь их одних.
– Почему?
– Надо ему все объяснять. Удивительно. Они за-ня-ты. Понимаешь? Вот видишь, мама: почему, зачем. Я устала даже. Пожалуйста, объясни ему, мама.
– Где же, Фединька, им быть, – говорила мама, – они пишут письма, и им не надо мешать все обсуждать, а обсудить им многое надо, – медленно говорила мама, сидя в плетенном из ивовых прутьев кресле на веранде, смотрела на Зазулина и просила меня продеть нитку в иголку.
– У тебя глаза-то, Федя, молоденькие.
Мама терпеливо все объясняла:
– Разрешение на брак, наверно, быстро дадут. Слава Богу, земля у нас есть, вот и дом, и сад, и Кира дочь инженера, но и Кира должна получить согласие отца. А как же, Фединька, нельзя без этого, она уже в первом письме попросила отца, чтобы он съездил в Таганрог, где ее крестили, и получил метрику – выписка так называется, Фединька, из церковных книг, о ее рождении. Они вместе написали большое письмо отцу Кириному, в котором она просит дать благословение на брак, да я в то письмо вложила письмецо свое, потому что после того, как Кира к нам приехала, мы с ним в переписке. Хотя мы и знакомы только по письмам, но я ему все отписала.
Я удивлялся, как все сложно и как много нужно хлопотать и сделать, а они писали письма в оплетенной диким виноградником и заросшей старыми кустами жасмина и сирени беседке – там были деревянный круглый, потрескавшийся от времени стол и скамейки, под легко вынимающейся половицей я прятал там наши деревянные мальчишеские мечи с окрашенными рукоятками, сделанные Платошкой из фанеры, и раскрашенные щиты, а теперь под той половицей были спрятаны заветные тетрадь со стихами и мои дневники. И вот там они писали письма, и Лада там же – так к Кире привязалась, что жила в нашем саду у беседки и кухни, где ее Ириша кормила.
Брат был так занят, что у меня с того дня ни одной беседы с ним не получилось, мы виделись при всех, только вот купаться по утрам он меня брал. Плавал он удивительно, был бодр, но торопился домой. Как-то так получилось, что из-за стола они уходили и брат шел к маме, а Зоя перехватывала Киру и уводила наверх.
Я жаловался маме:
– Смотри, Зоя ее опять наверх к себе увела.
– Да ты бы, Фединька, пошел бы к своим приятелям, что же ты их совсем забросил, или рассорился?
За весну я от приятелей, с которыми в прошлое лето все время проводил на реке, отстал, над чем не раз смеялся Платошка. Я был просто выбит из колеи, ведь я потерял свою комнату, жил временно в кабинете отца, общий сад без Киры был не тем радостным садом, да ведь и он не принадлежал теперь мне беспредельно, потому что, когда я бежал туда к беседке, мама говорила:
– Что ты все время вертишься перед глазами как неприкаянный.
Теперь, казалось, я всем в доме мешал, все, кроме меня, были заняты, и только я – ни пришей ни пристегни, как смеясь сказала мне Ириша.
Я рано вставал, выбегал навстречу старому коротконогому почтальону, – он сперва заносил газеты Зазулину, а потом направлялся с расстегнутой сумкой к нам – он уже знал, что мы ожидаем известий из Москвы и с юга. Я встретил его, когда получено было согласие от Кириного отца. Он мне издали головою кивал:
– Почта. Есть и для ваших, и не одно, а вот расписаться надо.
И я его повел:
– Ваня, Кира, письма, – закричал я, и все собрались на дворовом крыльце.
Я был счастливым вестником, почтальон вынул из потрескавшейся кожаной сумки письмо, Кира расписалась, потом брат одарил его за доброе послание, мама вынесла стаканчик рябиновой, а через день брат получил разрешение от начальника училища.
– Резолюцию, – сказал он Зазулину, – поставили, и отпуск получил дополнительный для свадьбы. Подумать только, свадьба разрешена.
Второе письмо было от адъютанта – брат быстро его пробежал, передал Кире, и лицо его на мгновение омрачилось.
– В чем дело, Ваня?
Брат разъяснил, что разрешение от начальства, как и полагающийся в таких случаях отпуск, 28-дневный, благодаря друзьям, он легко получил, но адъютант советует, чтобы он целиком отпуском не пользовался.
– «Обнимаем, заранее поздравляем, – пишет он, – мы и юнкера, свадьба твоя для нас дело радостное, но для училищного начальства непредвиденное, отпуск хотя и полагается тебе большой, но так как в такое время отпуск из лагерей дело необычное, лучше было бы для службы, если бы ты добровольно его сократил и вернулся до начала маневров, чтобы принять все же участие с юнкерами в маневрах и присутствовать при производстве юнкеров в офицеры».
– Как же быть, Ванюша? – сказала мама, просмотрев письмо.
– Ну что же, – сказала Кира маме, – придется вернуться в Москву. Вот что значит казенный человек, – вздохнула она.
Они вместе отправились на почту, и в ее глазах в тот день была готовность на все жертвы. Теперь самое главное была Кирина метрика, отец ее съездил в Таганрог, все, что нужно, успел сделать и прислал метрику и денег. Брат был изумительно раскрытый со своими, внутренне щедрый, полон необыкновенной бодрости, изменился он на глазах.
– Все ладится удивительно, – говорил он, – мама, я счастлив.
Он мне столько подарил своих книг, отбирая их с Кирой, но я от этого еще больше страдал. Я любил брата и Киру. Чувства мои были сложны: я был ошеломлен, не мог оправиться и привыкнуть к тому, что происходит. Ну вот, говорил я себе, они поженятся, уедут в Москву, для них радость, а меня охватывала иногда печаль, что уже нет той свободной, готовой на все Киры. Но когда она с ним возвращалась, на ее широком, открытом лице сияла радость любви и горячая, летящая навстречу брату прелесть.
В доме у нас столы были завалены чем-то легким и белым, прибегали знакомые с советами, а в гостиной работала длиннолицая, очень высокая портниха – уже шили из шелка подвенечное платье и еще что-то, по словам Ириши, необычайное, и все, как говорила Зоя, самое необходимое, ведь у нас первый раз такая радость в доме, ведь Ваня старший, и сестра бегала, подыскивала платья для себя и шафериц, их выбирали из тех барышень, кто бывали у нас летом. Сестра просто на глазах похудела от беготни и хлопот и еще больше покрылась веснушками, меня же временами просто не замечала, со всеми своими подругами советовалась, с мамой и Кирой, и даже веснушки от счастья светились у нее на лице. Совещались, устраивали примерки перед высоким трюмо в гостиной, куда вход мне и брату был запрещен, ходили выбирать материи и купили цветы флердоранжа.
– Удивительно сделаны, посмотри, – говорила мне и Ирише сестра, вынув их из тонкой папиросной бумаги и разглядывая на солнце. Они из воска, беленого воска, Иришенька, посмотри, что купили. – Я хотел их тронуть, но она не давала, а только, вертясь на солнце, показывала: – Удивительнее же всего, что их делают не в столице, а инокини в каком-то киевском девичьем монастыре, – и так полагается, чтобы их делали молодые монашенки.
– Мне казалось всегда, что это что-то выдуманное, что таких цветов нет.
– Да нет, это цветы апельсиновых деревьев, и там, на Средиземном море и в Сирии, я даже не знаю где, их целые рощи, как и в Италии. Веночек из них на голове у невесты, и к нему прикрепляют прозрачнейшую фату, и еще они на свече с повязанным атласным бантом.
– Они от солнца-то не растают?
Все жили в волнении, в начавшихся хлопотах все оказались при деле, а я, хотя Кира была необыкновенно ласкова со мною, как никогда, но я чувствовал себя все время на отлете. Брат говорил со священником нашей церкви, так как полковой батюшка находился в лагерях, и венчаться решили в нашей церкви. Помню, как они постились несколько дней, и, когда они у батюшки утром исповедовались и причащались, все мы были тогда в нашей старой с неровными побеленными стенами церкви, за века вросшей в землю. Нищенки, которых Кира оделяла, говорили:
– Дай Бог счастья, барышня, счастья.
Все в приходе и на улице знали, что в нашем доме невеста, и соседки приходили к Ирише, и я слышал, как по-мирски, по-простонародному они с нею у калитки все обсуждали.
– Что же, бабы говорят – как же это, невеста выйдет к венцу из дома жениха, из одного дома, как-то не так.
– Так пришлось – она, конечно, не у себя, кроме отца, близких у нее нет, бабушка ее совсем уж стара и слепа.