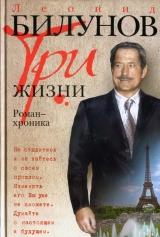
Текст книги "Три жизни. Роман-хроника"
Автор книги: Леонид Билунов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
ПОДКОП
За убийство Беса суд добавил нам с Костей по шесть лет. Наши матери подали на кассацию. К тому времени управление лагерей получило массу писем от родителей, чьи дети отбывали срок в воспитательной колонии в Прилуках. Поток этих писем уже невозможно было скрыть. Отбыв наказание, вышли на свободу многие из тех, кого Бес искалечил на всю жизнь. Выяснились новые подвиги Беса, среди них – изнасилование малолетних заключенных. Киевский кассационный суд переквалифицировал обвинение на превышение пределов необходимой самообороны и снизил срок до двух лет. Мы снова подали жалобу, и Верховный суд учел поведение Беспалова, многочисленные жалобы на него и отменил наш новый приговор, хотя нельзя сказать, чтобы смягчил предыдущий: нас оставили досиживать первоначальные сроки, зато в других, еще более страшных лагерях.
Меня отправили в лагерь особо строгого режима возле города Самбор Львовской области.
Когда этап прибыл в лагерь, нас раздели и голых выстроили в шеренгу перед столом, за которым сидел принимавший нас майор. На столе лежало десятка два папок с делами на каждого из стоявших перед ним в чем мать родила малолетних преступников. Как бы ты ни был нечувствителен, отсутствие одежды делает тебя гораздо более беззащитным, и все невольно сжимались под взглядом майора. Вдоль шеренги шел старшина с дубинкой в правой руке. Мне это было уже знакомо. Это повторялось при каждом прибытии на новое место, но чем дальше, тем все более жестоко и унизительно. Я знал: старшина должен ошеломить, запугать каждого из новичков, чтобы потом легче было его подчинить.
– Почему так стоишь? – неожиданно спрашивает он подростка, который стоит точно так же, как все остальные. И тот получает страшный удар дубинкой в живот ниже пояса. Такие удары хорошо смотреть в кино со Шварценеггером: там уже через минуту герой оправляется и бодро движется дальше. На деле подобный удар ты чувствуешь месяц, даже больше, а если не повезет, и всю жизнь.
Очередь доходит до меня. Я знаю, что лучше не смотреть ему в глаза, но смотрю. Старшина замечает у меня на груди крестик на суровой нитке. Нательный крест считался в тюрьме нарушением правил, и его всегда отбирали, а чаще грубо срывали с шеи вместе с кожей.
– А это что такое? – спрашивает он грубо. Я не отвечаю. Этот первый мой крестик я сделал в кузнице для себя и для Кости, разрезав банку из-под сгущенного молока. Не думаю, что я тогда был действительно верующим. Но мы инстинктивно чувствовали, что нам необходима вера в нечто высшее, необходима связь с чем-то таким, что недосягаемо для наших ни во что не верующих тюремщиков. Старшина протягивает руку, чтобы сорвать крест, но я с силой ее перехватываю. Дубинка в его руке поднимается и вот уже должна с силой обрушиться на мою голову. Однако майор, листавший мое дело, неожиданно подает старшине знак.
– Это он… Оставь его!
Слово «он» означает, что они уже обо мне говорили до моего прибытия, что меня причисляют к людям, о которых известно, что у них были поступки. Они уже дорого заплатили шрамами за свой опыт, за свою безопасность, за право на жизнь. Лагерная администрация знает, что такого человека не удастся сломать и заставить полностью подчиниться. А ведь майор – тоже человек. Он проводит большую часть жизни в лагере, бок о бок с нами. У него семья, и наверняка есть дети. Ему тоже не хочется зря рисковать своей жизнью.
Дубинка в руке старшины опускается, мне разрешают одеться.
В этом лагере сидели тоже несовершеннолетние, но за более тяжкие преступления – в основном за убийства. Помню Юрия Афанасьева, вдвоем с матерью убившего своего отца. Отец был пьяница, бил мать, не раз избивал до полусмерти сына, пропил все, что было в доме, и однажды привел к себе дружков, которым за выпивку продал мать на круговую потеху. На следующее утро мать с помощью Юрия убила отца, пока он еще не проснулся после пьянки. Они разрубили его на куски, завязали в мешки и повезли на санках в лес, подальше от дома, чтобы там закопать. Путь их шел мимо тупика железнодорожной станции, где стояло много поездов. Людей, везущих на санках мешки, заметил проводник. В те годы многие воровали из поездов каменный уголь, который жгли в печке, чтобы зимой отапливать квартиру. Думая, что в мешке уголь, проводник потребовал высыпать его на землю. Юрий с матерью бросились бежать, не выпуская из рук веревку от санок. Проводник стал свистеть, сбежался конвой, охранявший поезда. Можно только представить себе, как они были потрясены, развязав мешки.
В этом лагере я сидел до совершеннолетия.
Когда мне исполнилось восемнадцать, меня отправили в лагерь для взрослых в город Дрогобыч той же Львовской области. В этом лагере было около четырех тысяч человек. Были такие, кто сидел еще с войны и почти не надеялся выйти на волю и кому терять было нечего. Некоторые обвинялись в сотрудничестве с немцами. Были политзаключенные, брошенные сюда по сфабрикованным уголовным делам. Многие сидели за хищения в особо крупных размерах, например, по нашумевшему тогда делу о Львовской трикотажной фабрике, руководство которой ухитрилось прикарманить чудовищные для той эпохи суммы.
Это была настоящая школа жизни.
В советских тюрьмах существует совершенно замечательная система информации. Когда ты становишься известен, слухи о тебе опережают тебя на каждом этапе. На месте твоего назначения еще до твоего прибытия знают, что некий Леонид идет в Дрогобыч. Доступа к телефону заключенные не имели, письма строго контролировались. Однако информация передавалась мгновенно, словно по воздуху. До сих пор не понимаю, как это происходило.
Когда я появился в Дрогобыче, обо мне уже все было известно. Все знали, что я видел смерть, испытал побои и унижение и вышел из них закаленным. Вокруг меня начала собираться молодежь. Лагерь особо строгого режима в Дрогобыче – это целый город арестантов, который был известен поножовщиной между группами заключенных, часто выливавшейся в кровопролитные драки со смертельным исходом. Я понимал: чтобы выжить в этих условиях, мне надо иметь друзей. Поэтому я особенно обрадовался, встретив здесь снова Володю Затулу.
В советских лагерях заключенный обязан работать. Меня поставили штамповать детали для светильников. Мы работали в третью смену, то есть ночью. В ночную смену работать тяжело, особенно молодым. В бараке почти невозможно выспаться днем, поэтому ночью тянет в сон. Самое страшное – заснуть за штамповочным прессом. Многие в бригаде были без пальцев, а то и без руки.
Я отказался работать. Подневольный труд с риском для жизни был не для меня. За это меня наказывали, сажали в штрафной изолятор, лишали питания. Я часто голодал, но ходить на работу не соглашался. И решил любым способом вырваться на свободу.
Я начал расспрашивать вокруг себя кого только мог о нашем лагере, о его истории, о том, были ли побеги и чем они кончались. Многие ничего не знали, другие не интересовались. Большинство и не думало о побеге.
Старый зэк Петрович, сидящий уже третий десяток лет за службу у немцев (он работал поваром в немецкой тюрьме, кормил наших пленных), рассказал мне однажды, что при немцах тут был концлагерь.
– А главный эсэс каждую ночь ходил подземным ходом в город. У него там была зазноба. Так хорошо ходил, никто не знал. Она потом в горсовете работала, большая стала антифашистка!
– А где этот ход? – заинтересовался я.
– Кто ж его знает? Может, взорвали? – пожал плечами Петрович.
– Да где хоть он был? Откуда шел? – не отставал я.
Но Петрович больше ничего не знал.
Подземный ход занял все мои мысли. Я хотел отыскать его во что бы то ни стало.
Кто-то сказал мне, что главный корпус лагеря, мрачное кирпичное здание с бетонными заплатами по фасаду – бывшая тюрьма, построенная еще при Екатерине Великой. Это дало моим мыслям новый поворот. Кто не знает, что в старых замках, старых тюрьмах почти всегда имелся подземный ход, известный только одному человеку, максимум двоим-троим. Мне нужно было только одно: примерное направление этого хода. Я бросился в библиотеку.
В лагерной библиотеке было много всякой всячины – и великая классическая литература, и детективы, и советские брошюрки, и растрепанные старые книги с буквой «ять», изданные еще до революции. Спрашивать у библиотекаря, такого же зэка, было бессмысленно: помочь он не сумеет, а доложить по начальству о моем интересе вполне может. Я стал искать сам и вскоре наткнулся на какой-то исторический роман о Потемкине. Там много говорилось об отношениях знаменитого фаворита с императрицей, о полученных им от нее подарках, но екатерининские тюрьмы не упоминались. Правда, мелькнуло упоминание тюрьмы в какой-то малороссийской станице, и уже это обрадовало меня, как далекое обещание свободы.
Я написал письмо Вале Рожковой и отправил его надежными путями. Валя, не раздумывая, бросилась мне помогать. Я объяснил ей в письме, что нужно смотреть в энциклопедиях, особенно в старых, такие статьи, как «Тюрьма» или «Темница», где в конце всегда есть список книг на эту тему. Я не знал, что в публичные библиотеки у нас пускают только людей с высшим образованием, которого, конечно же, у Вали не было. Неизвестно, как ей это удалось, но вскоре мне передали от нее все теми же тайными путями книгу о царских тюрьмах, изданную сразу после революции. Нетерпеливо прочитав ее, я нашел упоминание о подземном ходе, который обычно выходил за город, куда-нибудь к обрыву над водой или в лесную чащу. Я обошел территорию лагеря и, как мне казалось, понял, куда он мог направляться.
– Будет и на нашей улице пень гореть! – весело сказал я Володе Затуле в тот вечер. – Завтра выхожу на работу.
Володя меня не понял, но у нас было не принято задавать лишние вопросы. Я решил во что бы то ни стало отыскать этот ход. Я рассчитал, что, если идти от штамповочного цеха, мне его не миновать. Теперь я могу посмеяться над моей тогдашней молодой самонадеянностью, но в то время меня переполняло желание действовать.
– Начальник, можешь назначать меня на штамповку, – сказал я бригадиру. – Пойду.
Бригадир обрадовался: ему за меня тоже доставалось от начальства.
В ночную смену было спокойно. Мы работали в паре с Володей, который всегда выполнял норму. От меня нормы и не ждали, лишь бы выходил на работу. Под штамповочным цехом, в полуподвале, находилась компрессорная. Я проник в нее через душевую и огляделся. Равномерно шумели компрессоры, всасывая наружный воздух и с огромной силой посылая его по трубам наверх. Над головой грозно, но мягко, как в подушку, уехали прессы. Время от времени ударял самый большой, стотонный, и после его удара все вокруг еще долго гудело, отзывалось и не успокаивалось. Приглядевшись, я заметил, что многие компрессоры не работают. У меня в голове сложился план.
Следующей ночью я выбрал не включенный компрессор и принялся за работу. Сначала нужно было снять его с фундамента. Мы с Володей сделали тележки на колесиках, отвинтили гайки с болтов, что крепили его к полу, и, с огромным трудом сдвинув компрессор с места, поставили на тележки. Теперь я мог легко передвигать его сам. Я решил рыть под компрессором, а под утро закрывать пролом в полу, снова надвигая на него машину. Предстояло раздробить бетон, и я принялся за работу, подключив отбойный молоток к сжатому воздуху. Каждый раз, когда ухал стотонный пресс, я вгрызался в бетон и мог спокойно работать пять минут. Потом ждал следующего мощного удара. Осторожность никогда не мешает.
Целую неделю я долбил бетонный фундамент, а осколки выносил в карманах куртки и старался незаметно разбрасывать по территории. Сначала Володя помогал мне выносить щебень, но потом отказался.
– Добавят срок, пошлют в крытку, [16]16
Крытка – внутренняя лагерная тюрьма (сл.).
[Закрыть] – сказал он мне честно. – Ты как знаешь, а я пас.
Я продолжал рыть и уже прошел через мягкий грунт, когда меня поймали.
Однажды в дневную смену, пока мы отсыпались, мой компрессор включили. Раздался страшный грохот. Незакрепленный мощный агрегат метался из стороны в сторону на своих тележках и всей массой бил своих соседей. Под ним зиял подкоп, идущий в глубину метров на восемь. Нетрудно было вычислить, чья это работа.
Событие вызвало в лагере сенсацию, а меня перевели во внутреннюю лагерную тюрьму – барак усиленного режима, где я должен был дожидаться суда за попытку к побегу.
Я поднимался на новую ступень моих испытаний.
Как оказалось потом – не последнюю.
РАЗБОРКА
Я сидел в БУРе, бараке усиленного режима, и ждал суда, когда обстоятельства потребовали, чтобы я появился в лагере хотя бы на день.
Моя «семья» [17]17
Группа друзей, которые делятся в лагере продуктами, обсуждают общие проблемы, делятся новостями о своих близких, защищают друг друга (сл.).
[Закрыть]занимала в лагере ведущее положение, хотя мы были самыми молодыми. На лагерных разборках, где обсуждались серьезные конфликты, за ней всегда оставалось решающее слово. В мою семью входили Володя Затула по прозвищу Булка и Игорь Кащеев – Кащей. Вокруг нас было немало людей, которые нам симпатизировали и на которых мы могли положиться.
Пока я был в БУРе, в Дрогобыч пришел Костя Назаренко из Львова, новичок в лагерной жизни. Костя служил в армии и не выдержал обычных в этой среде издевательств и грубых шуток. Дедовщина доставала его, доводила до отчаяния. Особенно отличался молодой лейтенант. У лейтенанта была неприятная манера публично высмеивать тех, кто слабее. Эта манера сильного дворового подростка, которого никогда по-настоящему не били за такие шутки, перешла у него с годами в привычку глумиться над подчиненными. Шутки лейтенанта были самые примитивные, но встречались хохотом нетребовательных подхалимов и больно ранили Назаренко. Лейтенант не унимался даже тогда, когда высмеиваемый не обращал на него внимания. Например, он спрашивал с самым невинным видом:
– Эй, Назаренко! А баба у тебя на гражданке была?
И стоило ответить «да», как раздавался следующий язвительный вопрос, вызывавший бурный восторг окружающих:
– И как же звали этого симпатичного молодого человека?
Избрав Назаренко жертвой, лейтенант потешался над ним с утра до вечера. Особенно любил он касаться Костиной мамы и подробностей появления Кости на свет, что доводило Назаренко до слепого бешенства, и однажды в оружейной, когда взвод разбирал свои «Калашниковы», он не выдержал и разрядил автомат прямо под ноги лейтенанту, прострелив ему голень. Этот случай привел тогда в ужас всех насмешников части – впрочем, кажется, ненадолго. За ранение офицера Костю приговорили к пятнадцати годам, хотя он твердо держался своих показаний, что автомат, мол, выстрелил случайно. Мать Затулы была хорошо знакома с матерью Кости, поэтому мы встретили его как земляка.
Через несколько дней, когда Назаренко работал в ночную смену, дружки харьковчанина Южного, враждовавшего с моей семьей, почти силой втянули его в азартную лагерную игру «платок». Обычный носовой платок берется за середину и пропускается через кулаки. Игроку предлагают потянуть за торчащие из кулака «уши» – углы платка. Если он вытянет два противоположных угла, он выиграл, если два угла на одной стороне платка – проиграл. Естественно, что шансов выиграть вдвое меньше: ведь диагонали у платка только две, а сторон – четыре. К тому же при известной ловкости «банкомета», умело путающего углы, букетом выступающие из кулака, игрок почти всегда будет в проигрыше.
Костя не успел опомниться, как проиграл пятьсот рублей, которых у него не было и в помине – немалую сумму в то время даже на воле, а в заключении и вообще огромную. Южный дал ему срок неделю, до конца месяца. Через несколько дней, после обдумывания разных отчаянных, но безнадежных вариантов получения денег, Костя признался в проигрыше Затуле. Сидя в БУРе, я не переставал следить за лагерной жизнью. Раздатчики баланды с риском для себя дважды в неделю передавали мне ксивы [18]18
Записка, письмо или документ (сл.).
[Закрыть]из зоны. Эти ксивы были для меня как газеты на воле, по которым российский гражданин следит за тем, что происходит с его страной. Я сразу понял: это ловкая комбинация, в которой Костю использовали против нашей семьи. Если он не отдаст деньги в срок или отдаст их хоть бы на пять минут после того, как часы последнего числа месяца пробьют полночь, моя семья будет опозорена. Конечно, Костя еще не мог считаться «по понятиям» нашим, но раз мы его встретили, другие будут думать, что он под нашей защитой.
Последнее число стремительно приближалось, мы решили помочь Косте, но я запретил разговаривать с Южным об отдаче долга до последней минуты.
Около десяти вечера, когда до конца месяца оставалось два часа, харьковские не выдержали. В бараке послышались отдельные возгласы:
– Конец!
– Я же говорил, что не отдаст!
– Мы с ним поговорим!
– И с теми, кто его здесь встретил!
Не могу поклясться в дословности передачи прямой речи, но я обещал по возможности переводить на русский и держу свое обещание.
Возгласы слились в общий гул, хохот и всяческие выражения радости. Южный потешался больше всех. Это было оскорблением, за которое харьковские должны были поплатиться: нельзя начинать глумиться даже за десять минут до срока: в течение этого короткого времени все может произойти!
И действительно, в разгар общей радости харьковчан в дверном проеме их отделения появился Затула и с размаху бросил Южному в лицо пачку денег, которая со звуком смачной пощечины ударила его по лбу и рассыпалась на отдельные рублевые бумажки, залепив глаза и рот. Южный сразу почувствовал свой промах, понял, что за словами последуют действия, вскочил с нар и успел подставить плечо, так что нож задел только предплечье. За спиной Затулы встали наши, готовые к драке, но тут прозвенел отбой и появились надзиратели. Все вернулись на нары, а Южный в темноте начал сам перевязывать плечо: пойти к лепиле [19]19
Врач (сл.).
[Закрыть]он, естественно, не мог.
Такой инцидент потребовал разборки, в которой должен был участвовать я. Только я мог раскачать эту ситуацию и повернуть ее в нашу пользу. Но я находился в бараке усиленного режима, отрезанный от лагеря, в ожидании суда.
Мне нужно было попасть из БУРа в зону хотя бы на день, и я принял решение. Внутривенная инъекция никотина вызывает у человека состояние, близкое к смерти, когда температура поднимается до сорока – сорока с половиной и сознание отключается. Такая симуляция опасна: можно и действительно не вернуться назад. В лагере человека в таком состоянии сразу увозят в больницу, расположенную на территории зоны, откуда всегда возможна связь со своими.
Я высыпал в алюминиевую кружку полпачки махорки, залил водой и зажег полотенце, скрутив его жгутом. Хлопчатобумажное полотенце разгорелось, как факел, а дым выходил с другого конца жгута, и я разгонял его свободной рукой по камере. Уже через несколько минут вода в кружке выкипела, и на дне осталась черная зловонная жидкость – концентрированный настой табачного никотина. В камере почти всегда есть медицинская игла, обычно искусно спрятанная в стене. Когда жидкость остыла, я соорудил шприц из иглы и целлофанового пакета вместо поршня и, сжав зубы, ввел эту отраву в вену с внутренней стороны бедра, в таком месте, где это трудно заметить. Если бы врач обнаружил укол, то даже с самой высокой температурой меня оставили бы умирать в изоляторе. Никотин стал мгновенно распространяться по телу. Ощущение было такое, словно по сосудам разливается расплавленный металл. Меня начала колотить лихорадка, температура бешено взлетела вверх, и я потерял сознание. Сокамерники забили ногами в дверь, вызывая надзирателей.
Два дня я провалялся в больнице без сознания. Нельзя сказать, что врачи боролись за мою жизнь: единственным лекарством, которое мне давали, был аспирин, остальное доделал мой здоровый организм.
Едва оправившись, я сбежал оттуда на пару часов и пробрался в барак. Около десяти человек собралось там на разборку, и все ждали меня. Барак был пуст, остальные ушли на обед.
– Вопрос первый, он же последний, – начал один из собравшихся, Ушастик, названный так за действительно огромные уши, не только отстающие от головы, но еще и грустно клонящиеся вперед. – За что Булка порезал Южного?
– Сейчас отвечу, – сказал я и повернулся к Южному.
– Вы обыграли, а по сути ограбили молодого парня, – сказал я ему. Говорить мне было трудно: во рту и в горле все было покрыто волдырями, язык распух. – И чего вы хотели? Чтобы еще один стал сотрудничать с мусорами? Вы же знали, что у него таких денег не может быть. Кроме того, вы не выдержали и начали парафинить [20]20
Оскорблять (сл.).
[Закрыть]его за два часа до срока оплаты.
Южный дернулся ответить, но его осадили:
– Погоди. Пусть скажет.
– Этот человек оказался случайно в нашей жизни, – продолжал я, указывая на Южного. – Он уцепился за подножку идущего поезда и очутился среди нас. Посмотрите на него – с кирзовой рожей он лезет в хромовый ряд. В его биографии не было никаких серьезных поступков. И я не понимаю, почему из-за него сегодня столько шума?
Мой дальнейший монолог был коротким.
– У меня есть три предложения, – сказал я им. – Первое: замять дело и разойтись. Считать, что ничего не произошло. И конечно, принести извинения парню. Южный получил ножом за оскорбление. Или мы уже не можем защищаться от оскорблений? Если кто-то так считает, пусть скажет. Вы знаете наши законы.
Я огляделся. Все кругом молчали.
– Но если вы думаете, что мы чего-то не понимаем, поступили неправильно, и хотите устроить здесь поножовщину, мы всегда готовы. – Я кивнул на пришедших со мной друзей. – Будем считать это вторым предложением.
Мне снова никто не ответил.
Нужно добавить, что при разборке проблем во время толкования все должны быть без ножей.
– И наконец, третье предложение: послать ксивы в другие лагеря и разобрать этот эпизод с ворами, – закончил я.
Тут один из моих противников не выдержал, дернулся схватиться за нож, торчавший у него из сапога, но другие его удержали.
– У вас еще, оказывается, с собой ножи? Вы пришли сюда с ножами! – заметил я. Это был аргумент в нашу пользу. Человека с ножом с позором выгнали из помещения. Вступаться за Южного всем расхотелось.
– Пошлем ксиву, – подумав, согласился Ушастик.
На том и порешили.
Правда, позже я узнал, что ксиву так и не послали, дело замялось.
В результате после моей отправки Володя Затула еще долго оставался одним из самых авторитетных людей в Дрогобычском лагере. А мне на прощанье собрали мешок продуктов в дорогу. Володя написал ксиву своему знакомому в Житомирскую тюрьму, куда, по всей вероятности, я должен был попасть.
Этот маленький клочок бумаги оказался куда полезней, чем я мог предположить.








