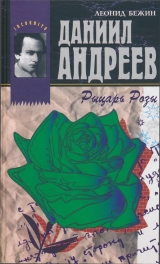
Текст книги "Даниил Андреев - Рыцарь Розы"
Автор книги: Леонид Бежин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Часть вторая
Повесть о сожженном романе
Глава двадцать четвертаяБРАТЬЯ ГОРБОВЫ – САША И ОЛЕГ
Трубчевск, брянские леса, Десна и Нерусса во многом связаны с ранним, довоенным периодом творчества Даниила Андреева, и прежде всего с его лирическими циклами и романом «Странники ночи». Может быть, и на неоконченную поэму «Песнь о Монсальвате» они оказали косвенное влияние, проступая в очертаниях романтических декораций, диких круч, колдовских провалов, дремучих сказочных лесов, по которым странствует гордый король, королева и ее свита в поисках Чаши Грааля. Во всяком случае, чисто реалистические описания природы в ранней лирике Даниила Андреева хранят отголоски романтической образности, а поэма «Немереча» – это тоже поиск выхода из непроходимых топей жизни, из мрака – к свету, от сна – в явь, от смерти – к бытию.
Поэтому косвенное влияние – да, может быть, но с романом Трубчевск связан непосредственно, вплетен в основной сюжетный узел. Во второй главе археолог Саша Горбов, обветренный, загорелый, русоволосый, с подкупающе доверчивым взглядом серых глаз на открытом лице, один из трех братьев Горбовых, главных героев романа, ночью возвращается в Москву из Трубчевска. Там он несколько месяцев провел в экспедиции, оторванный, отрешенный от московской жизни, от дома в Чистом переулке, от своих родных, ото всего, что творится в стране. Влюбленный в природу, всецело погруженный в ее светлый и гармоничный мир, мир брянских лесов, он словно бы и забыл, что «на дворе» – тридцать седьмой год, страшное время показательных процессов, арестов, пыток и казней. И вот – катастрофа, крушение поездов, опи-
1^1
санное в романе безжалостно, во всех натуралистических подробностях и в то же время обобщенное до метафоры, символического пролога дальнейших событий.
Саша видит искалеченные, обезображенные тела, кровь, обезумевшие глаза, выражение нечеловеческих страданий на лицах, слышит отчаянные возгласы, стоны, горячечные мольбы. Он пытается помочь тем, кому еще можно помочь, разгребает завалы, гасит пламя, извлекает из‑под обломков, спасает оставшихся в живых. И недавний рай, чувство отрешенности, блаженного выпадения из времени, растворения в природе оборачивается адом, кошмаром, кромешным наваждением. Вся сцена исподволь готовит читателя к тому, что такая же катастрофа, такое же крушение ждет и всю семью Горбовых, обитателей дома в Чистом переулке, их друзей и знакомых.
Саша – образ автобиографический, выражение сокровенных глубин души автора, персонификация его пантеистических наитий, восторгов и вдохновений. Свое вдохновение, упоенность природой Саша черпал во всем том, из чего рождалась ранняя лирика Даниила Андреева, – бродяжничества по брянским лесам, дубравам и березовым рощам с их пугливой тишиной, нарушаемой дальним зовом кукушки, стуком дятла, воркованием ручья под замшелыми камнями, верховым шумом сосен, клонимых ветром, шелестом вереска и багульника. И не только лирика, но и романная проза: в описаниях природы заметно родство, эти описания так же образны и лиричны.
Вот как сам Саша Горбов вспоминает в романе о своих скитаниях: «Образы, вспыхнувшие в его памяти, но только это были образы тихих хвойных дорог, похожих на светло – зеленые гроты, молчаливых полян, не вспоминаемых никем, кроме аистов. Открылась широкая пойма большой реки, овеянная духом какого‑то особенного раздолья, влекущего и таинственного, где плоты медленно плывут вдоль меловых круч, увенчанных ветряными мельницами, белыми церквами и старыми кладбищами. За ними – волнообразные поля, где ветер плещется над золотой рожью, а древние курганы, поросшие полынью и серой лебедой, хранят заветы старинной воли, как богатырские надгробия. С этих курганов видны за речной поймой необозримые леса, синие, как даль океана, и по этим лесам струятся маленькие, безвестные, хрустальночистые реки и дремлют озера, куда с давних пор прилетают лебеди и где он встречал нередко следы медведей; словом, он ударился в лирику».
Автор вовремя останавливает, сдерживает себя, не позволяет отдаться потоку нахлынувших образов, ведь лирическим даром – даром словесного выражения пережитых восторгов, – им наделен другой герой романа, брат Саши Олег, внешне очень похожий на него, такой же сероглазый и русоволосый, но по характеру совсем иной, более сложный, противоречивый, даже надломленный. Ему вручена лира. Если Саша – вольный скиталец, бродяга, воплотивший в себе страсть автора к путешествиям, покорению пространства, – страсть так до конца и не утоленную, то Олег – вторая ипостась его души, тоже покоритель, но пространства внутреннего.
Олег Горбов – поэт, изведавший тайные глубины творчества, где добро и зло подчас неразделимы, сплетены в единый клубок и художественные обретения оборачиваются нравственными срывами и падениями. Кроме того, он готовит себя к выполнению важной духовной миссии – написанию литургических текстов и предшествующим этому аскетическим подвигам, постам и борьбе с плотью. Олег так любит бывать в храме, благоговейно, с умилением душевным взирает на лики икон, горящие лампады и свечи, слушает пение хора на клиросе. Его пленяет и захватывает красота православного богослужения, в котором он видит высшее выражение русской культуры, ее неповторимой самобытности. Но при этом Олег убежден, что литургическое творчество не может застыть и окостенеть, оно должно продолжаться, что наряду с церковнославянскими нужны молитвы, гимны, стихиры, акафисты на русском языке, исполненные такого же истинного, обжигающего вдохновения. Ведь было время, когда вновь созданные гимны свободно исполнялись в церквах, оценивались, критиковались, некоторые отвергались, а некоторые включались в чин богослужения, и это естественно, в этом жизнь. Да, церковь, по мысли Олега, жаждет вдохновенного поэтического творчества, церковь ждет новых златоустов, гениев слова, ну если не таких, как царь Давид или Роман Сладкопевец, то близких им по духу… а может быть, и таких, таких! И Олег мечтает по мере сил ответить на это ожидание, эту жажду. В этом заключается его литургическая идея, – главная идея всей его жизни.
Даниилу Андрееву она была так близка, недаром в тюремных письмах к жене он, усыпляя бдительность цензора, ведет речь о некоем Олеге, которому приписывает свои заветные мысли. Этот Олег и есть герой романа. Саша как бы остался для Даниила Леонидовича там, за воротами тюрьмы, в безмятежном прошлом, а Олег здесь, рядом, в череде тюремных будней. И, что еще важнее, он присутствует во всем его тюремном творчестве.
От Саши же значение духовных миссий, аскетических подвигов, бездонные пучины творчества скрыты. Он, добрый, открытый, доверчивый и простодушный, отдается жизни непосредственно. Может быть, поэтому Саша не испытывает таких жгучих соблазнов, фаустовской жажды жизни во всех ее проявлениях. Не испытывает желания все изведать и испытать, мучительного раздвоения между земным и небесным, которое в итоге приводит Олега к попытке самоубийства, а затем к уничтожению всего написанного и за счет этого обретению нового права на жизнь.
Можно сказать и так: Саша – человек дневной, трубчевский, а Олег – ночной, московский.
Чего больше в самом Данииле Андрееве, ведь оба образа автобиографичны? Да, это так, и, забегая вперед, добавим, что столь же автобиографичен и образ третьего брата – Адриана Горбова. И сравнивая, сопоставляя их по степени погруженности в глубины души автора, можно сказать так: Саша с его вольными скитаниями, добротой, искренностью и застенчивостью – первый замер этой глубины, Олег с его порывами, сомнениями и метаниями – второй и Адриан – третий. Таким образом, Адриан тоже московский, но его Москва особая…
Вот мы и приблизились к самому, может быть, главному – Москве и ее отражению на страницах романа. Если Трубчевск присутствует в романе ретроспективно, показан через воспоминания Саши Горбова, то основное действие развертывается именно в Москве и ее предместьях. Здесь стягиваются все сюжетные нити, свершаются судьбы героев, наступают развязки их подчас запутанных и сложных взаимоотношений. Но Москва не просто служит фоном для этого – она живет как самостоятельный персонаж, художественный образ, дышит, колеблется, меняет очертания и оттенки: то пропадает, затихнув, замерев, затаившись, то является во всем ослепительном блеске. Москва! Дивная, чарующая, загадочная – врубелевская, и в то же время родная, милая, овеянная теплотой – поле– новская. В этом образе слилось все: впечатления от детских прогулок по Кремлю с няней, воспоминания о юношеских блужданиях по переулкам Пречистенки, мечтах в скверах у храма Христа Спасителя, церковных службах. Все это хлынуло на страницы романа, чтобы воплотиться в образе Москвы.
Москвы утренней, полуденной, предзакатной и особенно – ночной. Собственно, отсюда и название романа – «Странники ночи». Описанные в нем события происходят в несколько ночей, когда залитые солнцем поленовские дворики окутывает врубелев– ская синева. Да, врубелевская, лиловеющая в фосфорическом свете луны Москва господствует в романе, и очертания крыльев поверженного демона угадываются в ней как зловещий призрак. Недаром описание картины Врубеля приобретает в романе такую же символическую значимость, как и истолкование, разгадка, расшифровка внутреннего смысла Пятой симфонии Шостаковича: «Репродукция была великолепная, судя по подписи – английская, сделанная, видимо, в девяностых годах, когда гениальное произведение еще сияло всеми своими красками, всей своей страшной, нечеловеческой красотой. Казалось, на далеких горных вершинах еще не погасли лиловые отблески первозданного дня; быстро меркли его лучи на исполинских поломанных крыльях поверженного, – и это были не крылья, но целые созвездья и млечные пути, увлеченные Восставшим вслед за собой в час своего падения. Но самой глубокой чертою произведения было выражение взора, устремленного снизу, с пепельно – серого лица – вверх: нельзя было понять, как художнику удалось – не только запечатлеть, но только хотя бы вообразить такое выражение. Невыразимая ни на каком языке скорбь, боль абсолютного одиночества, ненависть, обида, упрек и тайная страстная любовь к Тому, Кто его низверг, – и непримиримое «нет!», не смолкающее никогда и нигде и отнимающее у Победителя смысл победы». И далее автор приводит реплику одного из героев романа, Леонида Федоровича Глинского:
– Видите? – промолвил Леонид Федорович после долгого молчания. – Это – икона, но икона Люцифера.
Таким образом, ночь в романе – это ночь люци– ферическая, демоническая, ночь отпадения от света, ночь советской деспотии и бездуховности, и странники в ней – те, кто не согласен смириться с царством тьмы, еще несет в себе искры добра и света. Зримым воплощением ночи становится возвышающаяся над городом темная громада Лубянки, где на всех этажах светятся окна, за которыми пытают и допрашивают. Сюда после ареста привозят и Леонида Федоровича, и многих других, кому суждена участь бесчисленных и безвестных узников и жертв застенков, тюрем и лагерей.
Глава двадцать пятаяМАРТИРОЛОГ
Однако вернемся к Саше Горбову. После всех пере– житых потрясений, связанных с ночным крушением поезда и спасением людей, он наконец попадает домой. Там его встречают мать, отец и братья, от которых он уже успел отвыкнуть за долгие месяцы своего отсутствия, как, впрочем, и от всей уютной, патриархальной обстановки их дома в Чистом переулке, родных стен с картинами и фотографиями в рамках, стульев, шкафов, диванов, разбросанных в беспорядке вещей. Да и его близкие первое время смотрят на него как на пришлеца, чужака, существо из другого мира и, хотя, конечно же, рады его возвращению, испытывают перед ним некоторое неудобство, неловкость как перед человеком, который многого не знает из того, что произошло, изменилось в их жизни, и которому многое надо объяснять, подыскивать слова. Поэтому они силятся улыбаться, быть приветливыми, но холодок некоего отчуждения проскальзывает меж ними и Сашей.
Саша торопится рассказать им и о случившемся ночью, и о своей жизни в экспедиции, странствиях по брянским лесам, купании в Неруссе, ночных бдениях у костра. Домашние же слушают его не то чтобы неохотно, без интереса – нет, они участливо кивают, задают вопросы, но Саша чувствует, что их мысли заняты чем‑то совсем иным. Это наводит его на подозрение, что беспорядок в вещах и странное поведение домашних вызваны какими‑то неприятностями, может быть очень серьезными, которые от него скрывают. Саша набрасывается на них с жадными, нетерпеливыми расспросами, стараясь допытаться до истины, но они отмалчиваются и опускают взгляд. Наконец мать уводит его в другую комнату, закрывает дверь и наедине сообщает, что случилось нечто ужасное, что многие друзья их дома арестованы вместе с семьями, стариками и маленькими детьми, что от них никаких вестей и судьба их окутана мраком. Скорее всего, их ждет тюрьма или лагерь, они их никогда больше не увидят, но еще ужасней то, что со дня на день могут прийти и за ними. Постучаться ночью, затолкать в воронок. Никто не защищен, никому не уберечься, и еще эти страшные голосования на собраниях за смертную казнь…
При этом разговоре мать Саши перечисляет имена всех, – реальные имена друзей и знакомых Добровых, арестованных в те годы. Отсюда и название главы – «Мартиролог».
Саша поражен всем услышанным. Ему кажется невероятным, что людей можно так жестоко и безнаказанно вырвать из привычного уюта и благополучия семейного круга, из комнат с изразцовой печкой, фикусами в кадках, абажуром над овальным столом, нотами на пюпитре рояля. Да, вырвать и бросить на холодный каменный пол тюремного застенка, лишить всего, последних надежд. Даже недавняя железнодорожная катастрофа отодвигается в сравнении с этим на задний план, тускнеет в его сознании. Ему страшно за мать, отца, братьев и всех его близких. И он готов обвинить себя за то незаслуженное счастье, которому он так бездумно отдавался, скитаясь по брянским лесам, купаясь в Неруссе и ночуя у костра.
Аресты среди друзей и знакомых – не единственная новость, ожидавшая Сашу. Саша узнает, что его брат Олег собирается жениться на Ирине Федоровне Глинской, сестре Леонида Федоровича, и в семье готовятся к их венчанию и свадьбе. Казалось бы, личная жизнь Олега устраивается, налаживается, в ней наступает некая определенность, чему можно только радоваться, но, когда Саша робко пытается выразить эту радость, он ни в ком не находит поддержки. Более того, его неуместный оптимизм вызывает досаду и раздражение, заставляя Сашу снова почувствовать, как он ото всех далек. Хотя, собственно, с братьями Олегом и Адрианом он, самый младший из всех, никогда и не был особенно близок, их внутренний мир – мир поэта Олега, влюбленного в русскую церковность, и ученого – астронома Адриана – оставался для него скрытым, недоступным, и это отсутс твие подлинной близости он особенно остро ощутил именно сейчас.
Когда Горбовы собирались вместе в гостиной за большим столом, ужинали и пили чай из самовара, о свадьбе старались не говорить, прежде всего, потому, что сам Олег избегал этой темы. Олегу казалось, что близкие понимают все не так, как ему хотелось, мнилось, мерещилось, будто они в душе не одобряют, будто они против этого брака, и он готов был ринуться с открытым забралом защищать свой выбор, свою выстраданную любовь к Ирине. Но никто и не был против – просто всем было ясно, что сам Олег не уверен в своем выборе, и поэтому все боялись его ранить, задеть, оберегали его. И лишь Адриан вел себя подчеркнуто безучастно, суховато покашливал, изучал лепнину на потолке, постукивал по столу ножом, делая вид, будто его ничего не интересует, кроме того, что ему подадут в тарелке. И Саша, переводя взгляд с одного брата на другого, терялся в догадках, что с ними происходит, какие бури кипят у них в душе.
Итак, за столом говорили о постороннем, а то и вовсе молчали, и только когда все расходились по своим комнатам, в душе у каждого прорывалось. Мать вытирала слезы, вздыхала, что‑то беззвучно шептала, уткнувшись ладонями в лицо, отец глухо молчал, Олег ходил большими шагами от стены к стене, а Адриан раскачивался в скрипучем кресле, листая случайную книгу и больше следя за номерами страниц, чем за тем, что на них написано.
Всем было известно, что у Олега кроме Ирины есть еще и Имар, его давняя любовь, с которой он не решается порвать, мечется, терзается угрызениями совести. Имар с ее черными змеевидными косами и узкими татарскими глазами нужна Олегу как земная женщина (в ее окне вечерами горит пунцовая лампа – знак того, что она его ждет), к Ирине, более утонченной душевно, он стремится как к мечте, совершенному идеалу, но достижим ли этот идеал, возможен ли? Олег сомневается в этом, сомневается в себе, в Ирине и в их любви, он не уверен, что выдержит те обеты, которые собирается принять. Сомневается и не знает, от кого ему на самом деле бежать, от верной ему Имар или от этих сомнений, этой неуверенности.
Так я представлял себе обстановку в доме Горбовых после возвращения Саши. Представлял зримо, слышал голоса героев, вникал в подоплеку их сложных взаимоотношений, угадывал их мимику, жесты, выражения лиц. И все‑таки чего‑то не хватало, какого‑то штриха, завершающей детали, которая объединила бы разрозненные (все‑таки разрозненные!) фрагменты в целостную картину. И я, странствующий энтузиаст, решил поехать в Чистый переулок.
Отшумел последний июньский ливень, в центре Москвы все омыло, очистило пенным потоком воды, обдало волной какой‑то свежести, а затем небо прояснилось до фиалковой голубизны и во влажном воздухе засияло, заискрилось, заклубилось столбиками мелких иголок солнце. От мокрых, зыбких мостовых потянулась испарина, засверкали витрины и крыши Арбата. С Малого Афанасьевского переулка я свернул в Филипповский, миновал церковь, где меня когда‑то в детстве крестили, пересек Сивцев Вражек и по На– щокинскому переулку вышел к Гагаринскому. Пройдя по Гагаринскому, свернул в Чертольский, который и вывел меня на Пречистенку.
Вывел, и я, повторив про себя все эти названия, изумился их чарующей красоте, дивной музыке: Афанасьевский, Филипповский, Нащокинский, Чертольский… Вот она, матушка – Москва, – та, подлинная, сохранившаяся, по которой бродили герои «Странни ков ночи»! Да, здесь, здесь они жили, братья Горбовы, Саша, Олег, Адриан! От мокрой земли в палисаднике напротив школы тянуло грибной прелью: этот запах они тоже наверняка чувствовали, этим воздухом с детства дышали!
Следующим переулком был Хрущевский, затем – Пречистенский, а затем – Чистый. В Чистом переулке сладко, дурманно пахло липами. Я постоял возле двух старинных особняков, смотревших окнами друг на друга: от одного вида этих окон, белых колонн и мезонина повеяло чем‑то патриархальным, уютным. Двинулся дальше, мимо канареечного цвета домика, где некогда жил осанистый, седобородый крепыш, композитор Танеев, которого Даниил Андреев мальчиком вполне мог встречать на улицах (он умер в пятнадцатом году) и вот он, Большой Левшинский.
По Большому Левшинскому я дошел до места, где Денежный переулок переходит в Малый Левшинский. И вот тут‑то мне все стало ясно, ведь Чистый переулок и Малый Левшинский – соседи. Да, да, Хрущевский, Пречистенский, Чистый и – сразу же следом – Малый Левшинский. И что же? Даниил Андреев, живший здесь, в Малом Левшинском, не стал далеко отпускать своих героев, слишком они были ему близки и дороги. Поэтому и поселил их совсем рядом, под боком, в Чистом переулке.
И для меня вдруг как‑то по – особому выявилось, высветлилось, что дом Горбовых – это дом Добровых, что Горбовы – старшие списаны с Добровых – старших и прототипом Адриана был не кто иной, как Александр Викторович Коваленский. А уж Коваленского‑то мы знаем, нам о нем рассказывали, мы читали, поэтому и Адриана Горбова нам легче представить: такой же суховатый, язвительный, невозмутимый внешне и страстный в душе. Астроном, влюбленный в туманность Андромеды! Созерцатель и мистик!
Да и многие штрихи, детали обстановки и быта в добровском доме перенесены на жизнь в горбовском. Вот вам и картина: восполнилась! Завершилась!
Вдумаемся: для Даниила Андреева добровский дом – целая эпоха, он прожил в нем сорок лет. Сорок лет, заключенных между двумя датами: привозом новорожденного Даниила из Берлина в 1906–м и его арестом в 1947–м. Детство, юность, возмужание, первые поэтические опыты, начало писания романа – все в этом доме. И вот роман закончен и его автор арестован. Из добровского дома его увозят на Лубянку, где целый год длятся следствие, допросы, очные ставки. В результате роман будет сожжен, добровский дом снесут, когда Даниила Леонидовича уже не будет на свете. Но сохранилась память о доме и о романе, память тех, кто его читал; уцелели переулки – Малый Левшинский и Чистый, Даниил Леонидович в тюрьме восстановил несколько отрывков из романа. Значит, он сам приступил к воскрешению романа, сделал первый шаг, что для нас очень важно, почти символично. Человека воскресить нельзя: это дело божеское. Но роман воскресить можно: это дело человеческое.
Наше общее с Даниилом Андреевым дело.








