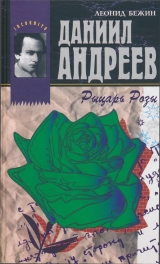
Текст книги "Даниил Андреев - Рыцарь Розы"
Автор книги: Леонид Бежин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
НОЧНАЯ МОЛИТВА
В следующих главах фабула романа переносит нас СЗ5 из дома в Чистом переулке за Москва – реку, на Якиманку. Там в мезонине маленького дома живут Леонид Федорович и Ирина Федоровна Глинские, брат и сестра (у каждого из них по комнате, третью комнату в квартире занимает сосед). Жилище Леонида Федоровича поражает, даже завораживает необычностью обстановки: множество книг от пола до потолка, глобусы, карты. Здесь же слоновий бивень, фигурки многоруких индуистских богинь, резные буддийские четки, молитвенные барабаны и прочие экзотические атрибуты, свидетельствующие о том, что владелец этой коллекции, собранной за многие годы, – кабинетный ученый, страстно влюбленный в Индию, посвятивший жизнь ее изучению. Это действительно так – даже в облике хозяина проскальзывают черты, выдающие его пристрастие: он несколько смугл, темноволос и чем‑то неуловимо похож на индуса. Правда, сутулые плечи, желтоватая седина на висках, глубокие морщины наводят на мысль, что он рано состарился, а частое покашливание и нездоровый румянец на щеках заставляют заподозрить, что он неизлечимо болен туберкулезом.
Страсть к путешествиям роднит Леонида Федоровича с Сашей Горбовым, вольным трубчевским скитальцем. Но вся трагедия Леонида Федоровича в том, что его заветная мечта побывать в Индии, увидеть южные моря, услышать шуршание прибрежной гальки под набежавшей пенистой волной, вдохнуть соленый, йодистый запах прибоя никогда не осуществится. Не осуществится, во – первых, из‑за болезни, а во – вторых, времена‑то какие, тридцать седьмой год… какие уж там путешествия!
И вот в романе описывается ночь, которую Леонид Федорович проводит один в своей заставленной книгами и экзотическими предметами комнате. За окнами иссиня – черная, непроглядная тьма, занавески задернуты, город спит тяжелым, как похмельный дурман, сном. На столе горит лампа под абажуром, и ее свет кажется мертвенно – желтым. И Леонид Федорович испытывает ту мучительную, беспросветную тоску, которая охватывает человека, замурованного в склепе, от невозможности вырваться на свет, осознания полнейшей безнадежности своего положения и бессилия что‑либо изменить. Ведь по возрасту своему он застал и хорошо помнил прежнюю Россию и как ученый формировался в те годы, когда еще можно было дышать, свободно высказываться, общаться в своем кругу, не опасаясь, что на тебя донесут, и переписываться с зарубежными коллегами, получать от них новые книги в запечатанных сургучом посылках. Он чувствовал свою избранность, посвященность, принадлежность к той блестящей плеяде ученых, которые составляли цвет тогдашней науки, и мог гордиться добытыми знаниями, трудами, открытиями.
И вот постепенно, не сразу, та Россия стала отходить и погружаться в небытие, следы ее повсюду стирались, а вместо нее выперло что‑то бесстыжее, бессмысленное, хамское, широкозадое, вызывавшее у него глухую ненависть. И что стало с блестящей плеядой? Леонид Федорович перебирал имена знакомых профессоров, с кем вместе учились, дружили, чаевничали, мечтали, спорили: этот в лагере, этот в тюрьме, этот сгинул без следа, этот проходит по безумному показательному процессу, публично кается, сам на себя клевещет, признается в несовершенных преступлениях, выдает на такую же расправу близких и друзей.
Страшное время, но все ли понимают весь ужас происходящего? Нет, не многие, единицы тех, в ком теплится еще свет веры, свет духовного знания. Еще и в прежней России интеллигенция подчас бравировала, кичилась своим атеизмом, а теперь и вовсе вместо Бога обрела себе идола, рябого и усатого, в серой шинели, с изрытым оспой лицом и желтыми глазами под низким лбом. Да и какая там интеллигенция!..
Но Леонид Федорович из числа последних, кто несет в себе веру и знание, недаром он так влюблен в Индию. Как ученый, он всегда был чужд стремлению слепо следовать за фактами, отвергая то, что не укладывалось в их прокрустово ложе. Он смутно чуял, угадывал, распознавал, что в истории все не ограничивается зримым полем действия, вечевой площадью, полями сражений и битв, – нет, на историю влияют потусторонние силы, в нее вмешивается то незримое, что народы в своем религиозном творчестве наделяют обликом богов и богинь. Ему была приоткрыта высшая мудрость – софийность – истории. Он мог считывать ее тайные знаки и в этом смысле сам был историософом.
Как историософ, мистический созерцатель Леонид Федорович разработал целую теорию чередования в истории синих и красных эпох, показывающую, что за всей пестротой исторической жизни, многообразием человеческих воль и стремлений, в том числе за стремлением к техническому прогрессу и революционным преобразованиям, скрывается противоборство двух начал. В синие эпохи усиливается, преобладает, торжествует духовное начало, эти эпохи отмечены знаком высших откровений, огненных пророчеств и мощного религиозного творчества. В эти эпохи приходят великие Учители человечества, основатели мировых религий – Заратуштра, Моисей, Буд да, Христос, Мухаммед, создаются священные книги, возникает чувство близости Бога, открытости неба (вспомним лестницу Иакова и сходящих по ней ангелов), пламенное горение веры. Это эпохи святости, аскетических подвигов, чудотворства, мистических озарений, порывов и экстазов. В результате этого духовного движения, первичного толчка, заданного истории, складывается сообщество верующих, будь то буддийская сангха или мусульманская умма, зарождается Церковь – православная, католическая или протестантская. Возводятся украшенные витражами соборы, громовыми раскатами звучит орган, под сводами разносятся звуки певческого хорала.
Но затем церковные формы жизни начинают окостеневать, живое и пламенное чувство веры затухает и гаснет, аскетические подвиги прекращаются, чудотворство исчезает и наступает красная эпоха, ознаменованная торжеством материального начала. Вот тогда‑то творческие силы общества и устремляются на достижение технического прогресса и революционное переустройство, ломки и нововведения. Могучие умы совершают великие открытия, но используются они в сугубо утилитарных целях, подчас убийственных для человечества. Провозглашаются идеалы братства, равенства, счастья, но не в Царстве Небесном, а в царстве, которое мыслится как рай, опрокинутый на землю. И этот опрокинутый рай оборачивается кострами инквизиции, охотой за ведьмами, газовыми камерами, террором и трудовыми лагерями.
Спасает от удушья в этой гнетущей атмосфере лишь то, что остается маленькая горстка людей, не сломленных веком, способных на сопротивление его низменным страстям, похотям, грубым, плотским, материальным началам и сохраняющих верность заветам прежней эпохи, – своеобразное синее подполье.
Они таятся, скрываются, их выслеживают, за ними охотятся, их хотят уничтожить, но эти люди не сдаются, храня в ладонях и передавая друг другу тлеющий уголек, последнюю искорку священного огня. Пусть он едва теплится, трепещет в ладонях – вместе с ним не иссякает надежда…
Такие подпольные люди, хранители синего огня, есть и в окружении Леонида Федоровича. Скоро они соберутся в его мезонине на Якиманке для того, чтобы пожать друг другу руки, услышать друг друга, вселить надежду, поддержать веру, укрепиться духом. Соберутся, несмотря ни на что – слежку, охоту, травлю. Соберутся, и это служит залогом того, что в ночном небе еще покажется сияющая утренняя звезда, предвестница наступления новой эпохи.
А пока Леонид Федорович молится, – молится своей удивительной, вдохновенной молитвой за всех, за все мироздание, весь необозримый Божий мир: за диких слонов, трубящих в джунглях, рассеченных потоками солнечного света после отшумевшего тропического ливня, за пятнистых газелей и антилоп, грациозно спускающихся каменистой тропой к водопою, царственных жирафов, проплывающих над вершинами лиан, гигантских черепах, спрутов и осьминогов в пучинах южных морей, которых ему не суждено увидеть, рокочущий шум прибоя, который он никогда не услышит. Молится за рыбаков с иссохшими, морщинистыми лицами, сгорбившихся в лодке под камышовым парусом, бритоголовых монахов в вылинявшей желтой одежде, с посохом, четками и бронзовым от загара оголенным плечом, за последнее зернышко риса, прилипшее ко дну их чаши для подаяний. Молится за чеченские сакли, украинские хаты, почерневшие избы русских деревень, мужиков и баб на перевозе, шершавые грубые руки, тя нущие трос, босоногих мальчишек, распластавшихся на спинах коней. Молится за хоры светоносных ангелов, славящих Бога, и шестикрылых серафимов – стражей у престола Всевышнего. Молится и этой молитвой как бы возносит, передает в руки Бога весь сотворенный Им мир…
По свидетельству Аллы Александровны Андреевой, многие, читавшие роман, переписывали эту молитву, хранили и повторяли, помнили наизусть…
Образ Леонида Федоровича Глинского тоже отчасти автобиографичен, и дело не только в том, что Даниил Андреев вложил в него всю свою любовь к Индии, которую он, как и его герой, не видел воочию, но лишь изучал по книгам. Еще важнее, что Леонид Федорович – знающий, хотя этот образ, созданный еще до Владимирской тюрьмы, не мог вместить того мистического опыта, тех видений и откровений, которые были посланы ее узнику. Отсюда и фраза из тюремной переписки с женой: «Я знаю то, о знании чего Леонид Федорович только мечтал…» (письмо 25). В другом письме Даниил Леонидович пытается донести до жены смысл узнанного, сопоставляя себя с героями романа, в том числе и с Леонидом Федоровичем Глинским: «Ты вообще совершенно не представляешь, до чего дело дошло и куда направляется. А насчет близости старых друзей скажу так: теперь мне ближе всего был бы Адриан такой, каким он стал после случившегося с ним внутреннего переворота; Олег – каким бы мог бы стать в конце пути, и Леонид Федорович, если бы случилось вот что: его доктрина (теория чередования красных и синих эпох. – Л. Б.) была только попыткой обобщить положительный опыт прошлого. Она должна была подготовить путь для истинно нового. Именно этого нового ей не хватало. Так вот, представь, что случилось чудо и к Леониду Федоро вичу пришло бы то откровение, которое ему казалось мыслимым только в конце века» (письмо 19).
Знаменательное высказывание! Своей жизнью в тюрьме и всем, что с ним происходило бессонными ночами на тюремных нарах, Даниил Андреев как бы дописывает судьбы своих героев и сам становится персонажем романа – тем, с кем случилось чудо, которого так жаждали они. Отметим, выделим, подчеркнем эту важную для нас мысль (мы к ней еще вернемся): роман не только живет в сознании узкого круга его читателей – Коваленских, Виктора Михайловича Василенко, Аллы Александровны, сестер Усовых и других, но и дописывается и их жизнью в лагерях и ссылках (все читатели, напомним, были арестованы и осуждены), и жизнью самого автора. Значит, его содержание не исчерпывается рукописью и, уничтожив рукопись, нельзя было уничтожить роман.
Глава двадцать седьмаяМЕЗОНИН. МОЛЧААИВАЯ КЛЯТВА
После нескольких дней, проведенных с близкими, обедов за овальным столом, чаепитий, разговоров, внезапных исповедей и признаний или, наоборот, отчужденного молчания Саша Горбов постепенно осваивается дома, для него многое проясняется и встает на свои места. Ему понятны тревоги и опасения старших, матери и отца, ведь они столько пережили из‑за арестов, что теперь вздрагивают от каждого шороха, скрипа, суеверно крестятся, слыша ночные шаги на лестнице, панически боятся опозданий и задержек своих близких и домочадцев. И Саша старает ся быть рядом с ними, внушает, что им ничего не грозит, утешает и успокаивает. И, растроганные, старики просветленно улыбаются в ответ, кивают, с благодарностью гладят его руку и заверяют, что им уже не так страшно.
Саше все больше открывается и то, что причина метаний Олега – не только Имар и невозможность разорвать с ней, но и сомнения в любви к Ирине, в собственном творчестве, неудовлетворенность своим внутренним состоянием, бессилием перед собственными слабостями и несовершенствами, мешающими продвижению на избранном пути. Олег признается Саше, что их брак с Ириной как брак чисто духовный, в чем‑то подобный браку Иоанна Кронштадтского, исключает физическую близость, что одновременно с венчанием в церкви Ивана Воина на Якиманке они дают обет целомудрия, но смогут ли они выдержать этот обет и есть ли в нем истинный смысл? В целом замысел духовного брака, казалось бы столь возвышенный, чем‑то отталкивает Сашу: он сознает, что Олег не тот воин, чтобы победить в этом бою, и жажда аскетического подвига может обернуться для него жестоким срывом.
Саша также начинает догадываться, что неспроста Адриан так холоден и безучастен ко всему, что связано с женитьбой Олега: Ирина – вопреки нежеланию это признавать – нравится ему, может быть, он даже влюблен, ревнует к брату, презирает себя за постыдную ревность и поэтому готов возненавидеть и его, и ее, и себя. Словом, узел завязался мучительный, крепкий, тугой, и кто его в конце концов развяжет – Олег, Адриан, Ирина или сама судьба, – остается только гадать.
Русоволосый, сероглазый, добрый, открытый Саша не знает, как ко всему этому отнестись, как себя вес ти, чем помочь братьям. Да и нуждаются ли они в его помощи? Может, ему лучше было и не возвращаться, а остаться там, в Трубчевске, о котором он все чаще вспоминает: тихие хвойные дороги, молчаливые поляны, меловые кручи, белые церкви? Все эти вопросы тоже тревожат и мучат Сашу. И временами кажется, что вопреки первоначальной уверенности он ничего так и не понял, ничего для него так и не прояснилось и что его подхватывает, несет и кружит тот же вихрь событий, в какой попали они.
Олег наедине, при закрытых дверях рассказывает Саше, что в мезонине на Якиманке, у брата Ирины Леонида Федоровича собираются люди. При этом Олег намеренно не уточняет, какие именно люди, восполняя свои слова долгим, пристальным, красноречивым взглядом, внушающим брату, что у этих людей есть особое свойство и особая цель. Цель, отличающая их от тех, кто встречается, чтобы повеселиться и потанцевать на вечеринке по случаю дня рождения и первый тост произносит не за именинника, а за вождя. Саша осознает значение взгляда, до него доходит смысл сказанного, и когда Олег приглашает его пойти вместе с ним на очередную встречу, он неуверенно соглашается, хотя мысли сбиваются, путаются и в душе возникает смятение. А как же их старики? А если они узнают? Им этого не пережить…
Кроме того, Саша не чувствует себя готовым к выполнению подобных задач, достижению таких целей. Хотя они еще до конца не ясны ему, он догадывается, в чем они могут заключаться и к каким привести последствиям, и его охватывает невольный страх. Саша, не считавший себя трусом, чувствует, что боится, очень боится, и пытается понять почему. Да, он тоже задыхается в этой гнетущей атмосфере, тоже ищет выход из мрака ночи, опустившейся на страну. Но ищет его в другом: в вольном бродяжничестве, ночевках у костра, близости к природе и отрешенном забвении всего того, что происходит на городских улицах и площадях, среди несметных толп, скандирующих лозунги и приветствующих вождя на мавзолее.
Тем не менее вечером он отправляется на встречу вместе с Олегом, понимая, что отпустить его одного нельзя, что это было бы равносильно предательству. Они молча идут по вечерним улицам, обгоняя редких прохожих. Замоскворечье уже затихает, окутанное маревом облачной дымки, небо над ним то лиловеет, то становится темно – фиолетовым, то отливает багрянцем, во двориках белесый туман поднимается над поленницами дров, погребами, зарослями лопухов и репейников. Вспыхивают последние отсветы зари – на церковных маковках золотом, а в окнах приземистых домов яичным желтком.
Вот и мезонин на Якиманке, где живут брат и сестра Глинские, – Саша и Олег поднимаются по лестнице, тихонько стучат в дверь. Слышатся шаги, дверь сначала осторожно приоткрывается, затем распахивается шире, и в глаза ударяет полоска света. В прихожей их встречает Леонид Федорович, одетый по – домашнему и в то же время слегка торжественно, по – про– фессорски старомодно, при галстуке. Он несколько церемонно, с подчеркнутой учтивостью приветствует их. Знакомится с Сашей, о котором уже, конечно, слышал, крепко пожимает обоим братьям руки, приглашает в комнату. Олег, чуть задержавшись, вопросительно указывает глазами на дверь соседа – третьего жильца этой квартиры. Леонид Федорович, понимая причину его беспокойства, произносит вполголоса, что от соседа, слава богу, удалось избавиться, спрова дить в Большой театр: купили ему билет на оперу. Поэтому его присутствие им не помешает и можно надеяться, что на них, даст бог, не донесут.
А в комнате, среди многоруких богов и богинь, уже собрались и другие гости, среди которых Саша видит Ирину Глинскую: она сидит на диване, голова гордо откинута, тонкие руки обнимают колени. Красавица! Сама как богиня! Чем‑то очень похожа на своего брата, такая же смуглая, но черты тоньше и в глазах больше сквозящей, пронзительной синевы. Почему она здесь? Какая роль отводится ей среди всех этих людей? Саша хочет спросить об этом Олега, но откладывает свой вопрос, поскольку начинается собрание группы.
Первым из присутствующих берет слово архитектор Боря Моргенштерн, маленький, со всклокоченной шевелюрой и прыгающими на носу очками. Расхаживая по комнате со стаканом кирпично – красного чая, помешивая его ложкой и отхлебывая шумными глотками, он, так же взахлеб, рассказывает о своем проекте. Проекте храма Солнца Мира на Воробьевых горах, где когда‑то хотел возвести свой храм, посвященный Христу Спасителю, безумный мечтатель Витберг, намного опередивший свое время, – его идеи остались невоплощенными, даже несмотря на покровительство Александра I. Боря тоже из числа таких мечтателей, вслушивающихся в таинственные зовы будущего, которое приоткрывается в его проекте. Да, наступит эпоха, когда человеческие представления о Солнце как высшем божестве – Ра, Амоне, Атоне, Митре, Су– рье, Христе (Он тоже – Солнце Мира,) – сольются в едином божественном образе, парящем над всем пантеоном. И поклоняться этому Солнцу Мира будут в храмах, подобных тому, какой явился ему в дерзких творческих мечтах.
Отодвинув посуду, Боря разворачивает на столе большой лист ватмана с рисунками будущего храма. Собравшись, сгрудившись вокруг стола, все с нетерпением склоняются над ними, жадно смотрят. Беломраморное здание небывалой красоты возносится вверх остриями и шпилями своих башен, сквозит рисунками витражей, сияет, ликует и торжествует, увенчанное сверкающим куполом и крестом. Широкие белые лестницы, украшенные резьбой, с разных сторон ведут к нему. Храм окружает высокая ограда, в узорах которой угадываются очертания множества лир, и каждая из этих лир должна звучать, как звучали каменные колоссы Мемнона в Древнем Египте при восходе божественного Солнца.
Все молча, с затаенным дыханием разглядывают это чудо, беломраморный храм, а затем – символическая сцена, одна из ключевых в романе! – не сговариваясь, возлагают на него руки, ладонь на ладонь, словно принимая посвящение, принося безмолвную клятву.
Храм Солнца Мира, уже преображенный, небесный, возникнет в «Железной мистерии», созданной уже после романа во Владимирской тюрьме: «Тогда становится видимым белый многобашенный собор, как бы воздвигнутый из живого света и окруженный гигантскими музыкальными инструментами, похожими на золотые лиры».
Глава двадцать восьмаяСИНЕЕ ПОДПОЛЬЕ
Вслед за Борей Леонид Федорович как хозяин (дома предлагает выступить Василию Михеевичу Бутягину, седому, взъерошенному, с наполовину расстегнутым воротом рубахи, съехавшим набок галстуком и отвисшими карманами пиджака. Василий Михеевич – библиотекарь по должности и историк по призванию, один из тех, кому дорога каждая мелочь, связанная с прошлым, для кого это прошлое остается незатемненным, несмотря на все старания свести его сложнейшие перипетии к восстанию Спартака, Степана Разина и Парижской коммуне.
Василий Михеевич, достав из портфеля свои записи и воинственно нацепив на нос очки, делает доклад о русской истории от Рюриковичей до Романовых, особенно подробно останавливаясь на эпохе Грозного, Смутном времени и реформах Петра. Глуховатым голосом, слегка покашливая, он рассказывает, как складывались государственные, нравственные, духовные устои русской жизни, как возникали идеи Третьего Рима и царя – помазанника. Рассказывает и о том, как русская державная мощь оборачивалась деспотией и каким помрачением умов можно объяснить то, что год, названный Лермонтовым страшным («…России страшный год, когда с царей корона упадет»), встречался с радостью и ликованием как год свершившейся революции и долгожданного освобождения.
Да, истинного царя – освободителя убили, взорвали бомбой, разнесли в клочья, зато по слепоте своей, окамененному нечувствию, странной невменяемости приняли за освободителей тех, кто под кумачовыми лозунгами создал новую инквизицию, колхозное рабство и крепостное право. Бога свергли, а поклонились сухорукому усачу в серой шинели. Поразительная, причудливая, парадоксальная подмена! Да, много всяких подмен было в русской истории, разные миражи и иллюзии затуманивали сознание, самозванцы всех мастей занимали престол, и большевизм – самая великая подмена. Об этом говорит Василий Михеевич, задумчиво закрывая глаза, поглаживая ладонью лоб и охватывая щепотью переносицу. Затем он отнимает от переносицы пальцы, открывает глаза, стараясь обозначить словами то, что явилось его внутреннему взору: да, да, большевики – вот творцы иллюзий! Вот самозванцы!
После минутной паузы (попросил налить себе чаю) он продолжает, поднося ко рту чашку и всякий раз забывая сделать глоток и вместо этого заглядывая в свои записки. Основная мысль доклада сводится к тому, что большевизм есть разрушение вековых устоев русской жизни, крайнее выражение всего уродливого, темного, дикого, противоестественного в русской истории – тирании, опричнины, богохульства, поругания святынь, шутейных соборов. И поэтому исторически он обречен, каким бы незыблемым и несокрушимым ни казалось его могущество. Этим выводом Василий Михеевич закончил, спрятал свои листки и оглядел собравшихся умоляющим, страждущим взором человека неуверенного и беспомощного, ожидавшего от других оценки своих высказываний, согласия или несогласия с ними. Уф, он даже запарился! Запарился и полез за платком в свой отвисший карман!
Все слушавшие доклад в неподвижных, застывших позах зашевелились, заскрипели стульями, потянулись к стаканам с чаем. По лицам было заметно, что доклад понравился, произвел впечатление, но требовалось время, чтобы его обдумать. Леонид Федорович предложил задавать вопросы и сам же первым задал вопрос, отчасти вызванный его собственной теорией чередования эпох: как относится Василий Михеевич к эпохе декабристов? Тот, снова охватив щепотью переносицу, ответил, что декабристы – при всем их личном благородстве, дворянских понятиях о долге, чести, искреннем стремлении к благу России – предшественники большевиков в их разрушительном деле и успех их восстания привел бы Россию к не менее жестокой тирании. Кто‑то возразил: все– таки нельзя уравнивать, ставить на одну доску большевиков и декабристов. Василий Михеевич стал запальчиво доказывать, что можно: это справедливо и по сути верно. Леонид Федорович хотел вмешаться в спор, но сдержался, про себя решив, что сейчас лучше выслушать следующий доклад – уже не историка, а экономиста.
Он попросил выступить Алексея Юрьевича Серпуховского. И когда тот поднялся и вышел на середину комнаты, встав под самым абажуром, заложив за спину руки и склонив бритую наголо голову, сразу стало ясно, что это человек с офицерской выправкой, безупречными манерами, трезвым и ясным умом, язвительный, саркастичный и бесстрашный. Он начал с того, что не просто подверг сомнению экономическое устройство сталинского общества, но попросту разгромил и уничтожил советскую экономику. Он показал, что она держится на рабском труде и искусственно нагнетаемом энтузиазме, что сельское хозяйство – ее основа – в корне подорвано коллективизацией, раскулачиванием, уничтожением слоя настоящих хозяев. Колхозы – лучшая форма существования для лодырей, иждивенцев, всякой голытьбы беспорточной, для тупой и безвольной массы, способной ра доваться тем жалким крохам, которые остаются им, обворованным государством (закупочные цены запредельно низкие), за их подневольный труд. В деревнях беспробудное пьянство, грязь, запустение, разруха и кумачовые лозунги, о которых уже упоминал предыдущий докладчик (взгляд в его сторону Василия Михеевича) – вот истинный, советский идиотизм деревенской жизни. И вместо мужичка с ноготок, который ведет под узцы свою лошадку, шествует по дорогам маленький иуда, змееныш, донесший на родного отца, – Павлик Морозов.
В целом октябрьский переворот не просто затормозил экономическое развитие России, но вывел ее за пределы европейского экономического пространства, в мертвую зону, где вместо естественных законов правят указы, декреты и постановления, эти чахлые цветы на искусственной клумбе, унавоженные пахучим агитпропом – агитацией и пропагандой новой идеологии. Конечно, силой, умом, гением народа и в этой мертвой зоне можно что‑то создать. Можно бросить на стройки и рытье каналов трудовые армии заключенных, можно продержаться за счет продажи царского золота, алмазов, нефти и других ископаемых, можно затянуть пояса и как‑то прожить, но все равно это будет в экономическом смысле неполноценная жизнь рахитичного организма с непропорциональной головой, щуплым тельцем и хилыми ножками. Поэтому тяжелейший кризис, ступор и распад системы неизбежен, и уже сейчас надо думать о том, как излечивать страну, возвращать ее к человеческой жизни.
И тут Алексей Юрьевич вкратце перечислил основные меры. Перечислил, загибая пальцы на маленькой холеной руке, испытующе глядя на всех и определяя, насколько с ним согласятся собравшиеся (от этого будет зависеть, как к ним относиться, чего они стоят): захват власти, реставрация монархии, восстановление частной собственности, роспуск колхозов и так далее.
Все смолкли и замерли, и в напряженной тишине было слышно, как из носика самовара в наполовину наполненную чашку падают – одна за другой – капли. И никто не решался приподняться, завернуть кран и тем самым взять на себя некую инициативу, выделиться из всех. Женя Моргенштерн сидел потупившись, обняв рулон своего ватмана, Олег Горбов крутил одним пальцем молитвенный барабан, истертый от прикосновения множества рук, Ирина характерным жестом прижимала к лицу узкую ладонь: глаза были закрыты.
Не то чтобы с выступавшим сразу не согласились, нет, но в его словах прозвучал призыв, на который не все были готовы откликнуться, – призыв к действию, сплоченности не ради возведения храма в будущем, а ради борьбы сегодня, сейчас. Борьбы с оружием, не на жизнь, а на смерть: вот какая требовалась клятва с возложением рук (ладонь на ладонь)!
Значит, снова кровь, гражданская война? Подобные вопросы донеслись, послышались с задних рядов, робкие и невнятные. Алексей Юрьевич вскинул голову, усмехнулся, скорее даже язвительно осклабился, синие глаза на широкоскулом лице сузились, и он заговорил о том, что гражданская война не кончилась, она продолжается, но уже одной стороной, захватившей власть, – война, направленная на уничтожение цвета нации, лучшей части народа по тюрьмам и лагерям. Тысячи тысяч ведут на заклание, приносятся гекатомбы жертв, но сейчас не время слепой покорности библейского Исаака, ведь ведет не отец, а тот, кем подменили истинного отца. Вот она злая, дьявольская подмена! (Снова взгляд на Василия Михеевича.)
И тут Василий Михеевич, всколыхнувшись, порывисто вскинувшись, заскрипев стулом, всей своей фигурой, взглядом, сползшими на нос очками изобразил вопрос: ну помилуйте, каким образом осуществить столь грандиозный замысел? Как это возможно практически? Алексей Юрьевич сразу уловил суть вопроса и про себя подумал, а стоит ли отвечать на него лишь для того, чтобы удовлетворить чью‑то любознательность? Но все‑таки, совершив над собой усилие (дрогнул на щеке напрягшийся мускул), ответил, перечислил, уже не загибая пальцы, а четко выговаривая слова: вовлечение в заговор все большего числа людей, особенно армейских командиров, установление связей с заграницей, с белоэмиграцией, подпольная борьба, диверсии, террористические акты и в итоге открытое вооруженное выступление.
Перечислил и едва не замычал от бессильной ярости. Нет, эти жалкие, не приспособленные к жизни мечтатели и фантазеры совершенно не поняли, не вняли, не приняли того, к чему он их призывал. Посмотрите на их растерянные лица, их изумленные глаза: они устрашились, как дети, у которых вместо игрушечных пистолетов оказалось в руках настоящее оружие. Поэтому больше он им ничего не скажет, хватит, это смешно, в конце концов. К чему эта бессмысленная комедия!
Алексей Юрьевич смолк, склонил бритую наголо голову, тем самым скупо благодаря за внимание, офицерской походкой вернулся на место, сел, забросив ногу на ногу, и туго закрутил кран самовара.
Осознавая неловкость возникшей ситуации и чувствуя себя виноватым перед Алексеем Юрьевичем, ко торого он пригласил, обещая ему помощь и поддержку, Леонид Федорович произнес несколько общих слов о долге каждого участвовать в борьбе и готовности откликнуться на призыв, а затем, сознавая отчасти свое малодушие, вернулся к прежним, безопасным темам. Он с принужденной улыбкой стал излагать свою теорию чередования синих и красных эпох и особенно подробно остановился на эпохе Александра I и декабристов. По его мнению, эпоха Александра с его мистической чуткостью и религиозной терпимостью – яркий пример синей эпохи, но все дело в том, что на исходе каждой из таких эпох начинают скапливаться элементы будущей красной эпохи. Собственно, декабристы и были таким элементом… Снова оживился прежний спор о декабристах, во время которого Алексей Юрьевич Серпуховской тихонько поднялся и вышел, извиняющимся жестом показав на часы и попрощавшись глазами с Леонидом Федоровичем.
Леонид Федорович понимающе кивнул и не стал его провожать, чтобы внезапно не оборвалась беседа, столь спасительная в натянутых и неловких ситуациях. Но при этом он тоже невольно вспомнил о времени: спектакль в Большом театре заканчивался и сосед должен был вскоре вернуться. Поэтому все‑таки пора… пора и им расходиться. Об этом же напоминала взглядом сестра, сидевшая впереди, рядом с Олегом. Но она же ждала от него еще каких‑то важных, нужных в эту минуту, ободряющих слов – напоследок. Леонид Федорович едва заметно кивнул ей в знак понимания и, завершая свою речь, добавил, что в глубине, в недрах красной эпохи тоже зарождаются и вызревают элементы будущего, своеобразное синее подполье.








