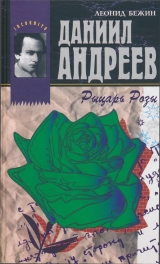
Текст книги "Даниил Андреев - Рыцарь Розы"
Автор книги: Леонид Бежин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
ВЕНЕЧКА
И тут появляется четвертый из братьев, словно бы непризнанный, незаконный, изгнанный из круга, но не рожденный от уличной побирушки, как Смердяков (некая параллель с Карамазовыми прослеживается в романе), а – двоюродный. Да, двоюродный брат Горбовых Венечка Лестовский, – двоюродный и совершенно ничтожный, жалкий, ютится в голой комнатенке с желтыми обоями, бранится с соседями на кухне, занимается какой‑то скучной дребеденью. По натуре же – низкий, скверный и пакостный. Смердяков!
К тому же Венечка был ужасно некрасив, маленький, худенький, с острыми локтями и торчащими лопатками, но, что примечательно, во внешности его при этом угадывалось, распознавалось некое подобие красоты, какой‑то даже жгучей: вот словно бы взяли красавца и сузили, сплющили, исказили, но нечто от него все равно осталось. И это оставшееся нечто – Венечка.
Да, такой он был, чем‑то даже похожий на автора романа, самого Даниила Андреева, похожий наоборот, словно убийственная карикатура.
И этот‑то отталкивающе, безобразно красивый Венечка страстно влюблен в Ирину Глинскую, до дрожи, до вожделения. Разумеется, она его даже не то чтобы отвергает (он этого недостоин) – брезгливо не замечает. А он – следит. Словно крадущаяся тень, Венечка неотступно преследует Ирину и следит за каждым ее шагом. Из‑за угла дома, из‑за деревьев бульвара, из– за темной, массивной, застекленной двери подъезда. Спрячется и вновь появится. Отпрянет и снова выглянет. Соглядатай! Один из множества: нас тьмы, и тьмы, и тьмы. Человек человеку теперь не друг, а – соглядатай.
Ради этого он даже уволился со своей жалкой и скучной работы, службы, службишки. Отныне эта слежка – его единственная отрада, упоение, восторг, экстаз. Он вбирает ноздрями флюиды, воздушные токи, вызванные движением ее легкой фигуры, развевающимся шарфом, распахнутыми полами плаща, жадно ловит запахи ее волос, надушенной подкладки перчаток, сладострастно обоняет, смакует каждый оттеночек.
И Венечке кажется, мнится, что, преследуя ее, он (о, восторг!) обладает ею…
И вот во время своей неусыпной слежки стал Венечка кое‑что замечать… Замечать и догадываться: такой, знаете ли, вкрадчивый, знобкий холодок догадки… Какие‑то странные встречи Ирины с людьми, не настолько ей близкими, чтобы уделять им такое внимание… Скажем, этот чудаковатый, взлохмаченный, очки на носу…Или этот русоволосый и сероглазый… Этот… Этот… Обрывки фраз, произнесенных вполголоса… значительные выражения лиц… Все это на водило на мысль, которая Венечку сначала испугала, ужаснула, он шарахнулся, остолбенел, а затем возликовал и восторжествовал, потирая влажные ручки.
Ор – га – ни‑за – ция! Да, подпольная организация, возглавляемая Леонидом Федоровичем Глинским. Можно назвать и рядовых членов, так сказать ближайшее окружение, пожалуйста: архитектор Борис Моргенш– терн, поэт Олег Горбов, его брат Саша, археолог, а главное, Адриан Горбов, с которым Ирина встречается особенно часто. Замечено, что она бывает у него в обсерватории, он провожает ее вечерами через Каменный мост на Якиманку, поднимается наверх в мезонин, и в комнате Ирины до полуночи горит окно, а на занавеске движутся две тени… Обсуждают! Планируют покушения и диверсии!
Вот она и попалась, вляпалась, голубушка! Сообщница! Теперь она полностью в его власти. И что может быть слаще власти над той, которая тебя откровенно презирает!
Уважительно, с достоинством, в самых изысканных выражениях Вениамин пригласил Ирину к себе. Просим оказать честь своим посещением. Конечно, она отказалась, возмутилась (что он себе позволяет!), дернула плечиком, но он сумел намекнуть и убедить. Мол, ему кое‑что известно. Имеются кое – какие сведения, наблюдения, улики. М – да… Тут она сразу притихла, побледнела и согласилась. В назначенное время пожаловала к нему, позвонила четыре звонка – Венечка тотчас же и открыл, словно поджидал за дверью. Проводил ее сумрачным коридором коммунальной квартиры, разделенным на сектора (в каждом – своя лампочка), с сундуками, тазами и старым велосипедом, и – пожалуйте в комнату. Извините, что у нас так бедно, пусто, голо: не обзавелись обстановкой. Присаживайтесь. Может быть, чаю?
Не снимая плаща, Ирина села на единственный стул и даже не оглянулась по сторонам. На что вы там намекали? Какие улики? Значит, приготовилась к разговору, сейчас будет отрицать, опровергать, приводить неотразимые аргументы. Но и он тоже подготовился: рраз – и сразу весь списочек. Поименно. Леонид Федорович, Борис Моргенштерн, братья Горбовы. С указанием времени и места. Не отвертишься. Голос у нее сразу упал, ослабла, сникла. Чего вы хотите?
И тут Венечка то ли произнес, то ли немо прошептал, то ли не сумел выговорить и лишь мимикой изобразил слово: ультиматум. Ирина толком не разобрала, досадливо поморщилась (морщинки набежали на чистый лоб). Какой еще ультиматум? Венечку лихорадило, но он все‑таки взял себя в руки: момент обязывал. Теперь он четко и раздельно произнес (именно произнес), что он ставит Ирине ультиматум: либо она (тут он прокашлялся, горло засаднило) проведет с ним ночь, либо список со всеми фамилиями будет передан на Лубянку. Венечка не сказал, что он передаст, а – будет передан. Так внушительнее. Строже и офи– циальнее.
Ирина чувствует себя внутренне взбешенной: какой негодяй! Она полна презрения к этому ничтожеству, доносчику, сексоту, но вслух не высказывает его. Бегающие глазки Венечки только и ждут, подталкивают, провоцируют: выскажи, выскажи, как ты меня презираешь и ненавидишь, и моя власть над тобой только усилится, ты уже не вывернешься, не спасешься. Ирина молчит. Затем спокойно, сухо и твердо, откинув золотистые волосы, просит дать ей время подумать. Венечка – сама любезность, само великодушие – конечно же дарует ей отсрочку. Думайте, Ирина Федоровна, сколько вам понадобится, решай те, только не слишком морщиньте ваш лобик и будьте уверены: мы со своей стороны даем полную гарантию. У нас свои понятия о порядочности (мы хоть и воры, но честные), и мы вас заверяем, что до вашего решения не предпримем никаких действий. Не поддадимся искушению, так сказать…
Даже если рука захочет, мы себя за руку – цоп! Не шали!
По дороге домой Ирина перебирает в уме всех, кого назвал Венечка, и обнаруживает в этом перечне спасительный пропуск. Это кажется невероятным, похожим на чудо, но по каким‑то неведомым причинам Венечка упустил Василия Михеевича Бутягина, историка и библиотекаря, одного из их группы. То ли недосмотрел, недоглядел, то ли она последнее время редко с ним встречалась, но это – шанс. Единственный шанс на спасение. Ирина звонит Бутягину в библиотеку и просит срочно приехать. Голос в трубке, спокойный, чуть приглушенный, не допускает возражений, и Василий Михеевич, отложив все дела, за– полошно спешит на Якиманку. Вот он, запыхавшийся, взмокший, уже в ее комнате. Уф, дайте отдышаться. Вытирает платком покатый лоб. Что случилось?
В подробностях ничего не объясняя (нет времени, дорога каждая минута), Ирина лишь сообщает, что их выследили, им грозит арест, и передает ему компрометирующие записи, бумаги, документы. Спрячьте! По счастливому стечению обстоятельств о вас им ничего не известно.
Бутягин, необыкновенно серьезный, взволнованный, преисполненный сознания значимости своей роли (он чувствует в себе нечто героическое), все уносит в портфеле. Крадучись спускается по лестнице вниз. Толкает дверь. Возле дома Глинских прохаживается некто, безучастно поглядывая по сторонам.
Когда Василий Михеевич шел сюда, никого не было, и вот на тебе. Неужели слежка? Бутягин вдруг похолодел (героическое с него сразу сошло), половина лица онемела, показалось, что галстук сдавил шею, не хватает воздуха. И рука с портфелем – не своя. Сейчас остановят. Что сказать? Портфель. Выронить, бросить? Отшвырнуть ногой?
Он все‑таки чудовищным усилием воли заставил себя успокоиться. Неторопливо, степенной походкой (приятный вечерок, мол, прогуливаемся) направился к Крымскому Валу. Внезапно нахлынула толпа, Василия Михеевича обступили, чубатые лбы, начищенные мелом тапочки и блузки со шнуровкой, – дружина ОСОАВИАХИМа. И тут он крутанулся, метнулся, юркнул куда‑то, пригнув голову, и – неслыханная удача! – оторвался от слежки, исчез, пропал, канул.
Глава тридцать шестаяАРЕСТ
Однако беду на Глинских навел, накликал не Венечка Лестовский, и Василий Михеевич напрасно радовался, ликовал, оторвавшись от слежки. Удар обрушился с другой стороны, и обрушился он на Леонида Федоровича, – вернее, Леонид Федорович сам подставил посеребренную сединами голову…
Продолжались показательные судебные процессы над врагами народа, и газеты печатали их подробные протоколы. По утрам, развернув «Правду» или «Известия», можно было прочесть о том, что разоблачены новые наймиты, двурушники и предатели, которые сами подробно рассказывают о своих злодеяниях.
Вот вам, пожалуйста, подробная стенограмма. И никому было невдомек, что измученных, истерзанных ночными допросами и пытками, запуганных угрозами, обманутых ложными посулами людей заставляли признаваться, выбивали признания в несовершенных преступлениях: заговорах с целью свержения строя, подготовке диверсий и покушений, сотрудничестве с иностранными разведками и проч., проч.
И существовала иезуитская процедура, повязывавшая всех остальных кровью невинных жертв, – процедура всенародного вынесения приговора.
На заводах, на фабриках, в институтах, академиях, учреждениях и конторах собирали всех в актовом зале; на сцене за столом, под кумачовыми лозунгами и портретами вождей восседал президиум. Зачитывали протокол очередного судебного заседания, а затем кто‑то заранее назначенный, передовой и идейный, почтенный и мудрый или, наоборот, молодой и горячий, выходил на трибуну и взволнованно, с искренним негодованием и даже благородной истерин– кой в голосе требовал смертной казни для врагов народа, двурушников и наймитов.
Слышался гул одобрения, поднимался лес рук: в зале все послушно голосовали. Большинство, нечувствительное к людским страданиям, было уверено, что все именно так, как пишут в газетах: виновные же сами признались. Другие – их было гораздо меньше – смутно чувствовали, что участвуют в чудовищной инсценировке, кровавом спектакле, но старались глубоко не вникать в смысл происходящего, поскорее проголосовать и забыть, думая: «Если я не проголосую, ничего не изменится, никого это не спасет, так зачем же?..»
Сидевшие в президиуме (так и хочется сказать – паханы) и подсаженные в зал (наводка) внимательно наблюдали, а не найдется ли кто‑нибудь не проголосовавший, отщепенец, затаившийся враг. Всем было ясно, что несчастный, не поднявший руку, обречен, его ничто не спасет. Сразу в зале, может быть, и не подойдут, прилюдно не арестуют, но ночью за ним придут, поднимут с постели, велят доставать чемоданчик со сменой белья и куском мыла. А во дворе поджидает, косит глазом черный ворон, вернее не ворон – воронок…
И тем не менее Леонид Федорович не поднял руку.
Все было как обычно: собрали в зале, зачитали протокол, заранее назначенный вышел на трибуну и с истеричным надрывом в голосе потребовал. Поднялся лес рук, и только Леонид Федорович не проголосовал. Сидевшие рядом с удивлением и тревогой на него поглядывали, кто‑то, наклонившись к уху, прошептал: что же он медлит? Кто‑то сзади толкнул в плечо: одумайся, дурья башка. Кто‑то впереди, обернувшись, с мучительным состраданием на него посмотрел: господи, на что ты себя обрекаешь!..
А сам Леонид Федорович с усмешкой спросил себя: может, правда этак воровато, – так сказать, для проформы, – поднять руку? Поднять и сразу – дерг! – опустить? Это сочли бы достаточным, никто не потребовал бы от него большего. Но он знал, что это значит – быть повязанным кровью невинных, какие это повлечет за собой последствия, – если не здесь, в этой жизни, то там, за ее чертой. И он не поднял: был тверд в своем решении. В президиуме это заметили, переглянулись, крайний встал и вышел. Явно спешил сообщить куда следует. Даже не стали спрашивать, есть ли кто‑нибудь против, вносить в протокол голосования, портить картину. Все и так ясно: единогласно! Его же участь была решена, он сам подписал себе приговор.
Вернувшись домой с собрания, Леонид Федорович остановился в дверях, упираясь в дверной косяк, такой большой, широкий и словно бы уже нездешний, бесплотный, сквозящий на свету, выпадающий в иное измерение. Сказал Ирине, чтобы она была готова: ночью его арестуют. Не проголосовал? Не проголосовал. После этого заперся в комнате, надолго затих, не отвечая на ее стук. Стоя у двери, Ирина попробовала сосредоточиться, собраться с мыслями, за что‑то взяться, что‑то сделать, но вдруг почувствовала, как она жалка и слаба. Ультиматум Венечки, все события этого дня совершенно ее подкосили, и не было сил ни на что – только на слезный скулеж, бабьи стоны и жалобы.
Кому позвонить, кого позвать, попросить приехать? Нет, только не Адриана: этот человек для нее все, в нем смысл и цель ее жизни, ее радость, боль, мука. Адриана нельзя ни о чем просить, требовать от него нечто дополнительное к тому, что он просто был, существовал, нельзя вовлекать его в какие‑то житейские ситуации, обстоятельства, пусть даже такие трагические, как грозящий брату ночной арест. Адриан выше всего этого, он над этим, хотя, конечно, он бы приехал, примчался и был рядом с ней. Но нет, она никогда ему не позвонит, не позовет, не попросит. Никогда!
И Ирина позвонила Адриану.
Ночью за Леонидом Федоровичем приехали, в доме был обыск, все высмотрели, выпотрошили, перевернули вверх дном, но ничего компрометирующего других, доказывающего существование подпольной группы не нашли: Василий Михеевич унес улики в своем портфеле. Леониду Федоровичу сухо велели собраться, взять самое необходимое. Чемоданчик у него уже был наготове, и он лишь окинул прощальным взгля дом комнату, свои книги, фигурки богов и богинь: не помогли многорукие боги. Перед уходом простились с сестрой и Адрианом, встав тесным кругом, молча обнялись, положили руки друг другу на плечи, соприкоснулись лбами: понимали, что не свидятся никогда. Леонида Федоровича увели под конвоем, посадили в воронок и повезли по Якиманке через Каменный мост – на Лубянку. И поразительно то, что арестованного в сорок седьмом году автора романа «Странники ночи» тоже везли по Якиманке – тем же путем, что и его героя.
Вот как об этом рассказывается в воспоминаниях Аллы Александровны: «Когда Даниил написал книгу о русских путешественниках в Африке, она уже была в гранках и должна была скоро выйти, ему неожиданно предложили по телефону полететь в Харьков и прочесть лекцию по этой книжке. Даниил очень удивился, но почему бы и нет? Ему сказали: «Знаете, такая интересная тема, такая хорошая книга, мы предлагаем вам прочесть об этом в Харькове лекцию» Мы опять ничего не поняли. Даниил отправился 21 апреля 1947 года в эту командировку в костюме моего папы, потому что его собственный годился только для очень близких друзей, но не для официальной лекции». В чужом, заимствованном на время, одолженном костюме – на инсценированную Лубянкой лекцию: вот он трагифарс тогдашней жизни, Шостакович и Врубель одновременно. И далее: «Очень рано утром к нашему дому подъехала машина. Я вышла проводить Даниила. Он сел в машину, и она тронулась по переулку. Когда машина отъезжала, Даниил обернулся и посмотрел еще раз на меня через заднее стекло. И только тут меня кольнуло: точно так же один из героев романа «Странники ночи» Леонид Федорович Глинский обернулся, чтобы еще раз взглянуть на сестру, которая стояла у двери, провожая его. Глинского везли в тюрьму на Лубянку» (глава 16).
И, как потом выяснилось (Алле Александровне рассказали об этом в лагере), на Якиманке действительно собиралась подпольная группа, подобная группе Глинского. Вот она, еще одна внетекстовая страница, написанная самой жизнью.
Глава тридцать седьмаяМОЛИТВА ТРЕХ
Итак, Ирина осталась с Адрианом в разоренной квартире, из которой словно выдуло сквозняком, налетевшим ветром все домашнее, теплое, настоявшееся: без поддержки Адриана она вряд ли бы выдержала все эти испытания. Если раньше ей было страшно, что он придет, появится здесь, будет с ней, то теперь еще страшнее казалась мысль, что он может уйти, оставить ее одну. И она не отпускала его ни на шаг, ей нужно было всей кожей чувствовать, что он рядом. Смотреть ему в лицо, гладить длинные, немного вьющиеся (такие мягкие и шелковистые!) каштановые волосы, прикасаться к надбровным дугам, придающим ему выражение умного и странного мальчика, которого немного побаиваются, уважают и не любят в классе.
А глаза у него серые, как у всех братьев Горбовых. Но при этом ни у Саши, ни у Олега, ни у кого нет таких красивых серых глаз…
Да, это была не просто любовь, для нее это было все, средоточие всего бытия: Ад – ри – ан! Молчаливый, суховатый, внешне бесстрастный и такой ранимый!
Она произносила его имя с молитвенным трепетом. И в то же время это была просто любовь, которая впервые пришла к ней, и Ирина со всею ясностью поняла, что раньше она не любила. Это было лучезарное озарение тупицы, промучившейся столько времени над решением немудреной азбучной задачи, заданной ей жизнью: не любила, и все тут. Да, не любила, не любила, а ждала, когда полюбит, и несбывающееся, затянувшееся ожидание принимала за любовь, в том числе и к Олегу.
И вот ожидаемое наконец сбылось, и все прежнее исчезло, и Олег исчез навсегда. Нет, они с Адрианом часто упоминали о нем в разговорах, Олег звонил, Ирина слышала его голос, он спрашивал, она отвечала, но с ним уже не связывалось то, что называлось любовью. Вернее, не называлось, а было… И не связывалось, а… Нет, она совсем запуталась. Запуталась оттого, что ей так хорошо, она так непростительно счастлива. Да, ей страшно за брата, мучит сознание неизвестности (где он? что с ним?), и при этом она счастлива, счастлива до слез и ничего не может с собой поделать.
То же самое испытывал Адриан: если раньше он не позволял себе признаться, что любит Ирину, гнал от себя эту крамольную мысль, то теперь не признавался, что когда‑то мог не любить, даже ничего не знать о ней. Нет, он любил ее всегда, всю жизнь. Он только не понимал этого раньше, а теперь со всей ясностью понимает и это делает его счастливым, если оно вообще возможно, это счастье, здесь, на земле, а не среди далеких звезд, на которые он смотрит в свой телескоп…
Леонида Федоровича же в это время допрашивали на Лубянке. По ночам его вызывал следователь с узким лицом, бесцветными бровями и едва заметным следом от недавно сбритых усов. Он спрашивал, по – чему, по каким причинам Леонид Федорович отказался проголосовать за казнь врагов народа, был ли это идейный протест, несогласие с основной линией партии или личные отношения с кем‑либо из осужденных помешали ему поднять руку. Леонид Федорович отвечал, что никаких личных отношений у него нет, просто ему было жалко этих несчастных. Значит, все же идейный протест? Да нет же, просто жалко, по – человечески жалко, и он вовсе не думал ни о какой линии.
Тогда следователь повернул иначе: уж очень ему надо было повернуть. Может быть, ваша жалость навеяна разговорами с друзьями, близкими или сослуживцами? Может, кто‑то из них сказал, что вот, мол, враги, а у каждого из них есть мать, отец, жена, дети, которые их жалеют? И вообще они заслуживают жалости и сострадания, поскольку смертная казнь – слишком жестокая мера по отношению к ним? Нет, при мне никто этого не говорил. Но вы же наверняка обсуждали эту тему, доверительно, в тесном кругу! Нет, не обсуждали, как можно обсуждать обычную человеческую жалость! Но поделиться своим чувством можно? Наверное, можно, но он ни с кем не делился, не было повода и желания. А с теми, кто собирался у него на квартире? Пили чай, говорили о книгах, о театре. И только? А вот ваш сосед… Соседа при этих разговорах не было: он и сам завзятый театрал, вечерами его не бывает дома.
И так каждую ночь: кабинет следователя, стул, лампа, нескончаемые допросы. Следователи сменяли друг друга, но вопросы были все те же: почему, по какой причине? И, повторив свой ответ в сотый раз, Леонид Федорович чувствовал, что на сто первый он рассмеется безумным смехом, возвестит, что он не мельник, а ворон, бросится душить следователя или
–>-к упадет в обморок, потеряет сознание. С ним действительно случались обмороки на допросах, он ронял голову и сползал со стула. И, вновь приведенный в чувство (плеснули в лицо водой), Леонид Федорович готов был застонать от бессильной муки: первое, что возвращало ему сознание, было склонившееся над ним ненавистное узкое лицо с бесцветными бровями.
Измученный, Леонид Федорович, пошатываясь, держась за стены, возвращался в камеру. Камеру, набитую людьми, душную, смрадную, с парашей в углу, «намордником» на окне, глазком в двери и откидывающимся окошком для раздачи тюремной еды. У него было единственное желание упасть на нары и заснуть, провалиться в омут, но спать почти не удавалось даже урывками: вскоре наступал рассвет, днем спать было запрещено (следили в глазок), ночью же – новый допрос. И это безумие бесконечно: воистину он не мельник, а ворон!
Пытаясь осознать, что с ним происходит и что вообще творится вокруг, Леонид Федорович приходил к мысли о каком‑то великом абсурде (Великом Абсурде!), скрытом в потаенных недрах огромного здания и с помощью невидимых нитей манипулирующем следователями, охранниками, конвоирами. Все они лишь делали вид, что совершали осмысленные действия, задавая вопросы и записывая его показания, а на самом деле служили этому абсурду, словно некоей адской силе, своему идолу и кумиру. Именно он, великий абсурд, жаждал, испытывал ненасытную потребность в том, чтобы Леонид Федорович неделями не спал, чтобы возводил на себя напраслину, изничтожал, втаптывал в грязь, признавался в несовершенных злодеяниях. А иначе зачем было нужно, чтобы человек, не совершивший ничего дурного, умный и знающий, находился сейчас здесь, в этом за стенке, этом мучилище. Иного объяснения он не находил, да и какие могли быть объяснения в мире всеобщего абсурда, который начинался на площадях, где люди выстраивались живыми буквами имени Сталин, и заканчивался здесь, в здании, некогда выстроенном для (вот гримаса судьбы!) страхового общества «Россия», а затем перепланированном и переоборудованном для совсем иных целей. Страховое – страшно: от одного корня, и ему, устрашенному, оставалось только… молиться.
Да, Леонид Федорович сам не знал, как он начал молиться. Просто однажды поймал себя на том, что губы едва шевелились в молитве – той самой, какую помнил с детства, с тех пор, как его за руку водили в храм Ивана Воина на родной Якиманке. И вот теперь эта молитва всплыла в памяти, явилась ему вдруг, и он с горячностью ухватился за нее, припал к ней, изнывающий в истоме, почувствовав, что это – единственное спасение. Леонид Федорович молился и не мог сдержать слезы, катившиеся по щекам, – он лишь отворачивался, прижимался лбом к стене, чтобы их никто не видел.
Затем он случайно заметил, что так же молится его сосед – седобородый священник, видимо арестованный прямо в церкви: он был в рясе, не острижен, с косицей длинных волос, но без креста на груди. И они, не сговариваясь, а лишь обмениваясь взглядами людей, понимающих друг друга, стали молиться вместе. Вскоре к ним присоединился третий – бритоголовый мулла, распознавший смысл их тайных знаков и так же молча, взглядом попросивший принять его в круг. Мулла молился по своему: выставлял перед собой ладони, брал левую руку в правую, прижимал к животу, совершал поклоны, опускался на колени и касался лбом пола. Они молились непрестанно, по оче – реди и за себя, и за всех, и когда уводили на допрос одного, на молитвенном служении его сменял другой. Так он образовался, этот круг, – круг противостояния злу, ужасу, мраку, абсурду.








