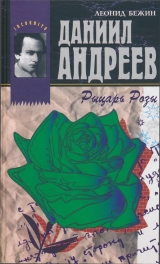
Текст книги "Даниил Андреев - Рыцарь Розы"
Автор книги: Леонид Бежин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
АПОСТОЛЬСКАЯ ПОХОДКА
Анатолий Протасьевич Левенок, – прочел я имя в записной книжке и отправился по указанному адресу. Вот и дом на улице Дзержинского, – улице, так же как и площадь в Москве, «заклейменной прозваньем страшным: в память палача» («О тех, кто обманывал доверие народа»). Но не мы выбираем улицы, где суждено родиться и жить. Дзержинского так Дзержинского…
Дом же добротный, что называется справный: заборчик, калитка, крыльцо с навесом. А вскоре и сам Анатолий Протасьевич показался – с ведром и лопатой – в огороде работал. Я представился и отрекомендовался, сославшись, понятное дело, на Аллу Александровну: ею послан, принимайте. И вот тут– то – люди по – разному встречают, кто испуганно, кто с сомнением, кто безучастно, кто с подчеркнутым, заискивающим участием, – на лице Анатолия Протась– евича отобразилось. Отобразилось, знаете ли, предвкушение, заранее испытываемое удовольствие от встречи, выдававшее в нем завзятого говоруна, до машнего философа, любителя порассуждать, а иногда и срезать собеседника, если уж слишком о себе мнит.
Насчет того, чтобы срезать или хотя бы подковырнуть, как грибным ножом упругую сыроежку, я угадал по мелькнувшему в глазах задорному огоньку, затаенной готовности к петушиным наскокам и некоей нарочитой степенности, вальяжности и даже медлительности, с которыми начинает поединок опытный словесный боец. «Эге, – подумал я, тоже приосаниваясь и стараясь выглядеть этаким крепким грибком, боровиком или груздем, – видно, грибник бывалый…»
Анатолий Протасьевич поручил меня заботам жены, а сам счел нужным переодеться и вскоре появился в комнате, точнее было бы сказать горнице, такой она показалась чистенькой, светлой, ухоженной и как бы обласканной заботливыми хозяевами. Появился, готовый к словесному поединку: умытый, причесанный, в новой рубашке. В руках он держал тетрадку, которую отложил в сторону, не желая заранее привлекать к ней мое внимание.
Я начал разговор с того, что напомнил Анатолию Протасьевичу одно место из «Розы Мира», – то, где рассказывается о пережитом автором непередаваемом состоянии духовного единства с природой, звездным небом, всей вселенной: «В моей жизни это совершилось в ночь полнолуния на 29 июля 1931 года в тех же брянских лесах, на берегу небольшой реки Не– руссы. Обычно среди природы я стараюсь быть один, но на этот раз случилось так, что я принял участие в небольшой общей экскурсии. Нас было несколько человек – подростки и молодежь, в том числе один начинающий художник. У каждого за плечами имелась котомка с продуктами, а у художника еще и до рожный альбом для зарисовок. Ни на ком не было надето ничего, кроме рубашки и штанов, а некоторые скинули и рубашку. Гуськом, как ходят негры по звериным тропам Африки, беззвучно и быстро шли мы – не охотники, не разведчики, не изыскатели полезных ископаемых, просто – друзья, которым захотелось поночевать у костра на знаменитых плесах Неруссы».
Остановились на ночлег, собрали хворост, разожгли костер под сенью трех старых ракит, достали из заплечных котомок немудреную еду, поужинали, и вот замолкли разговоры и всех сморил сон. Лишь один не спал, остался бодрствовать, лежа у огня и отгоняя широкой веткой назойливых комаров. «И когда луна вступила в круг моего зрения, бесшумно передвигаясь за узорно – узкой листвой развесистых ветвей ракиты, начались те часы, которые остаются едва ли не прекраснейшими в моей жизни. Тихо дыша, откинувшись навзничь на охапку сена, я слышал, как Нерусса струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным. Торжественно и бесшумно в поток, струившийся сквозь меня, влилось все, что было на земле, и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва ли переносимом для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медлительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня; и все, что я мог помыслить или вообразить, охватывалось ликующим единством».
Я лишь напомнил Анатолию Протасьевичу и сейчас не буду приводить целиком это удивительное, поэтичнейшее, проникновенное, овеянное непередаваемым чувством место – пусть читатель сам отыщет его во второй главе второй книги «Розы Мира» и пе реживет вместе с автором то, что довелось ему испытать в ту необыкновенную ночь. Для меня было важно расспросить Анатолия Протасьевича: не он ли участник небольшой экскурсии и, может быть, даже тот начинающий художник? И вот мой собеседник, потягиваясь, покряхтывая, покрякивая, слегка насупливая брови и морща расширенный, утиный – клювиком – нос, степенно, складно, основательно повествует, рассказывает. Вспоминает довоенные годы, когда летом к ним приезжал Даниил Андреев и останавливался в соседнем доме, за заборчиком, разделявшим два огорода. В заборчике была маленькая калитка, чтобы не обходить по улице, а наведываться друг к другу запросто, по – свойски, перешагнув через грядки.
Хозяйка станет занимать
И проведет через гостиную,
Любовна и проста, как мать,
Приветна ясностью старинною.
Завидев, что явился ты —
Друг батюшки, знакомый дедушки,
Протянут влажные персты
Чуть – чуть робеющие девушки.
Усядутся невдалеке
Мальчишки в трусиках курносые,
Коричневы, как ил в реке,
Как птичий пух светловолосые.
Хозяин, молвив не спеша:
«А вот – на доннике, заметьте‑ка!» —
Несет (добрейшая душа!)
Графин пузатый из буфетика.
И медленно, дождем с листа,
Беседа потечет – естественна,
Как этот городок, проста,
Чистосердечна, благодейственна…
Из стихотворения Даниила Андреева, посвященного семье Левенков
Даниил Леонидович больше дружил с отцом Анатолия Протасьевича – Протасом Пантелеевичем, истинным провинциальным интеллигентом не по образованию, а по духу, человеком благородным и творческим, иконописцем, художником (картины его висят на стенах), умельцем, мастерившим скрипки, любителем театра. Анатолий же, его брат Олег и сестра Лида были для Даниила Леонидовича молодежью, спутниками в лесных походах, товарищами в купании и ночевках у костра. Светлые, тихие, прозрачные озера, шелестящие на ветру камыши, хатка лесника на берегу (почему хатка, а не избушка – вопрос языковой, особый), дубы в три обхвата, бурелом, причудливые лесные коряги – сколько было таких походов – эк– скурсий, без рубашек, с котомкой за спиной, гуськом, как ходят негры по звериным тропам. Да, это была их мальчишеская Африка и юношеская Индия – та самая, которой Даниил, по словам Анатолия Протасьевича, увлекался в те годы.
«Ну а каким он был?» – спрашиваю я, вкладывая в этот вопрос то, что заставляет Анатолия Протасьевича не только вспомнить, но и назвать, определить, подобрать словцо. Да, крякнуть, насупиться, потереть затылок, задумчиво покрутить головой – и подобрать меткое, точное, выразительное. На такие словечки Анатолий Протасьевич мастер. От него я услышал, что у Даниила Леонидовича была не просто походка, а походка – жанр. Жанр – не в том смысле, в каком вырабатывают походку артисты пантомимы или манекенщики в салоне мод, а в том, в каком она естественно возникает у людей, артистически и духовно одаренных, чьи движения и жесты соответствуют их внутреннему настрою. В этом смысле походка у Даниила Андреева, как уточнил Анатолий Протасьевич, была апостольская, проповедническая: он держал палку, словно посох, и вышагивал большими шагами, босой, с подвернутыми штанинами, в рубашке навыпуск, с заплечной котомкой.
И не случайно среди заключенных Владимирской тюрьмы впоследствии зародился слух, который передавался по этапам (дошел и до мордовских лагерей, где сидела Алла Александровна), – слух о том, что Андреев ходит босой и с крестом на груди. «А Андреев– то, слышали, – босой и с крестом?» Возник же такой образ: странник, апостол, паломник, бродяга – как это в его духе, как отвечает его внутренней сути! Недаром в письме к жене он и не стал опровергать этот слух: да, босой и с крестом, правда, крестик пластмассовый. И недаром в «Розе Мира» написал о Толстом: «…если бы ушел он из дома лет на 20 раньше, сперва в уединение, а потом – с устной проповедью в народ, совершенно буквально странствуя по дорогам России и говоря простым людям простыми словами о России Небесной… эта проповедь прогремела бы на весь мир, этот воплощенный образ Пророка засиял бы на рубеже XX века надо всей Европой, надо всем человечеством…»
Да, крестик у него был пластмассовый, а ему бы – медный или железный.
В тюрьме лишь трагически заострились те черты апостольского облика Даниила Андреева, которые начали вырисовываться раньше, в пору его безмятежной юности. Безмятежной и – по разным причинам хочется сказать – блаженной:
Вот блаженство – ранью заревою
Выходить в дорогу босиком!
Тонкое покалыванье хвои
Увлажненным
Сменится песком;
Часом позже – сушью или влагой
Будут спорить глина и листва,
Жесткий щебень, осыпи оврага,
Гладкая,
прохладная
трава…
Не поранит бережный шиповник,
Не ужалит умная змея,
Если ты – наперсник и любовник
Первозданной силы бытия.
Из цикла «Босиком»
Голос же у Даниила был, по словам Анатолия Про– тасьевича (тут он задумался, помолчал, сделал хитрую паузу)… чистый. «В каком смысле чистый?» – стараюсь понять я. «А в том смысле, в каком бывает чистым воздух или вода, – уточнил Анатолий Протасьевич и, снова покряхтывая, покрякивая, покручивая головой, с некоей уклончивой серьезностью добавил: – Если действительно были у нас святые, то они говорили такими голосами». Я с готовностью принял это определение, но жена Анатолия Протасьевича Лидия Яковлевна оказалась придирчивее и усомнилась в точном выборе слова: можно ли так сказать о голосе?! И тут эти почтенные, преклонных лет люди горячо заспорили – о чем?! – о слове, об оттенках речи, о точности и правильности выражений!
Я почувствовал, что к словам, языку у них совершенно особое отношение, и не только к языку! Внимательно присмотревшись к обстановке, к окружающим меня предметам, я обнаружил, что у этого бревенча того, деревенского, нехитро убранного домика, хатки, избушки своя – не побоюсь сказать! – творческая атмосфера! На стене скрипка… в углу пианино, покрытое кружевной дорожкой… и какие кружева! С тончайшими узорами, напоминающими разводы первого осеннего льда на высохших лужах или блестки горной слюды, – их плетет Лидия Яковлевна, художница, мастерица, виртуоз своего дела. Что там дорожки и салфетки – она вам из кружев сплетет миниатюрный чайный сервиз: чайник, чашечки и даже кружевной самовар! Кружевной самовар, знаете ли, – эка диковинка! Спрашиваю: «Выставляете? Продаете?» Нет, не продает, хотя уговаривают, уламывают, сулят немалые деньги, и на выставки отдает неохотно. Показывает лишь близким людям – не публике. Как подлинному артисту, ей жаль расставаться с предметами, в которые вложено столько вдохновенного и кропотливого труда.
Глава двадцать третьяНА МОГУЧЕМ ТРУБЧЕВСКОМ ЯЗЫКЕ
Мы вновь заговорили о Данииле Леонидовиче, о его странствиях по брянским лесам, ночевках у костра, а чаще без костра, – потому что огонь и потрескивавшие в костре сухие ветки мешали вслушиваться в тишину, созерцать, любоваться ночной природой. Заговорили – и тут в разговоре стал обозначаться некий уклон, некий забавный крен. Собственно, и в выражении «апостольская походка» проскользнула добродушная язвительность, – проскользнула и скрылась, но теперь обнаружилась вновь: Анатолий
Протасьевич подтрунивает, подшучивает над чудаковатостью Даниила Леонидовича. И тут у него в запасе немало всяких быличек, побасенок, лукавых баек. Ну вот, к примеру: однажды в лесу Даниил Леонидович, привыкший ночевать без костра, варил на свече яйцо, держал его, и так и этак перехватывая, пока оно нагревалось, и обжег себе пальцы. Привыкший ходить босиком, все‑таки поранил однажды пятку и долго хромал, вызывая сочувствующие вздохи окружающих. Бедовая головушка! Как‑то раз хозяйка дома попросила купить на рынке крупы. Возвращается радостный: «Марфа Федоровна, я гречки купил!» Глянула и ахнула: да это ж конопля!..
Так, что называется, травит Анатолий Протасьевич свои лукавые байки, причем уклон в его рассказах совпадает с осторожным подталкиванием в мою сторону заветной тетрадки: прочти, мол, прочти…Не пожалеешь! Еще попросишь!
Я понял, уразумел по этим внушениям, что Анатолий Протасьевич пишет стихи. И более того, по его мнению, они ничуть не уступают стихам Даниила Андреева. Ему даже кажется несколько зазорным, что приехали из Москвы… расспрашивают о Данииле Леонидовиче… допытываются, каким он был, как выглядел, чем занимался, а к стихам самого рассказчика не проявляют ни малейшего интереса. Что за оказия?! Что за незадача!
Вот он и подталкивает, незаметно клоня к тому, что у Даниила Андреева поэзия сложная, умственная, философическая и не слишком вразумительная, у него же простая и доступная… Вот стихи, а все понятно! Да и вообще, зачем нужны шедевры! Шедевры вредны уже хотя бы тем, что своим недосягаемым совершенством губят в каждом из нас художника:
вместо того, чтобы развивать собственные творческие задатки, мы раболепно поклоняемся гениальности избранных. Иными словами, пусть не будет гениев, но будет больше скромных талантов. Пусть не будет искусства профессионального, но будет искусство самодеятельное, народное, способное украсить жизнь, а не обогатить музеи.
Лишь только Анатолий Протасьевич это произнес, мне стало ясно, что в нем проснулся идеолог, – идеолог лубка, народного примитива. Этот человек действительно украшал свою жизнь тем, что играл на скрипке, писал картины, сочинял стихи и рассказы. Я с готовностью признал его право на это и безошибочно угадал в нем человека, который мог быть доволен собственной жизнью так же, как срубивший добротную избу плотник гордится выточенными балясинами крыльца, гривастым коньком крыши и затейливыми резными наличниками. Но я сделал одну непростительную ошибку: надменный ценитель шедевров, я оттолкнул тетрадочку. Подталкивал, подталкивал Анатолий Протасьевич, а я – оттолкнул. Ему так и не удалось почитать мне свои стихи: я вежливо уклонился, перевел разговор, сделал вид, что не догадываюсь о его тайном желании.
Не удалось, а как хотелось!
Но у каждого свой уклон, и я оправдывал себя тем, что неукоснительно следовал логике самого автора, который, по его же признанию, пишет для себя и тем самым избавляет других от обязанности быть слушателем и читателем. Да и сказалась литераторская мнительность, боязнь, идиосинкразия, вызываемая самим видом таких тетрадок с клеенчатыми обложками и линованными страничками, на которых морозы губят розы, любовь волнует кровь, а ботинки изощренно рифмуются с полуботинками. Короче говоря, оттолкнул, о чем горько пожалел уже в автобусе (раскаялся, но было поздно) по дороге в Брянск, когда достал листок с рассказом Анатолия Протасьевича: все‑таки вручил мне на прощание.
Рассказ – на особом, редкостном, самородном трубчевском языке, смеси украинского, белорусского, русского и старославянского. На нем пишет лишь один писатель во всем мире – Анатолий Протасьевич Левенок. И пишет, и – отчасти – говорит, называя жилище лесника хаткой, а не домиком и не избушкой. И рассказы у него такие же особые, редкостные, этнографические – прежде чем познакомить читателя с одним из них, приведу отрывок из трубчевско– русского словаря, составленного автором:
тубаретка – табуретка; скатерсть – скатерть; веренина – кушанье из муки;
косячок (косинчик) – шкаф треугольной формы в углу комнаты;
прискринок – полочка;
ни синь пороху – полное отсутствие;
наскопать – нащепать;
скабка – заноза;
скабезиться – разнервничаться;
качулка – скалка;
жвянькать – шамкать;
клюкарза – старуха с клюкой;
склима – занудность, зануда;
клямка – щеколда.
Запомнили? А теперь читаем рассказ Анатолия Левенка «Под шохву»:
«Бабка встала затемно. Убрала тубаретку, поправила скатерсть, сполоснула дясны. Хотела перекусить веренины, но ни в косячке, ни в прискриничках – ни синь пороха!
Свечки не нашла и хотела наскопать лучинки, но заскабила скабку. Полезла под загнёт хоть кулаги хлебнуть, но чуть чепелой не опрокинула кашник со ско– лотвиной.
– Ты што скабезишься? – проворчал дед.
– Цыц; а то качулкой!
– Не жвянькай, клюкарза.
– Ну, склима!..
Бабка, бука с бельем, вышла из хаты. Хлопнула клямкой, постояла на угле и потащила гусятницу пу– канки под шохву…»
Признаться, плохо я знаю трубчевский язык – в словарике не нашел, а без словарика так и не понял, с чем была у бабки гусятница и куда она ее потащила, но что поделаешь – такая уж я склима!.. Хотя выразительность, живость, некую непосредственную народность рассказа я почувствовал, и особенно понравился диалог – как дед с бабкой ругаются. Не те ли самые, которых я видел на картине Анатолия Прота– сьевича: старик и старуха, она в платке, он в красной рубахе, сидят за самоваром и чай из блюдечка пьют?! Перед моим уходом Анатолий Протасьевич показал– таки мне свою живопись – маленькие работы в лубочном, примитивном, самодеятельном стиле, они привели меня в полный восторг, столько в них было остроумия, потехи, лукавства, наблюдательности и той непередаваемой пластики, на которую способен лишь художник наивный, непосредственный, избяной, домашний.
Иными словами, срезал меня Анатолий Протасьевич, сразил наповал, и я научился ценить не только общепризнанные шедевры, но и образцы скромного домашнего творчества, живописания и сочинительства. Жаль вот только тетрадка… не раскрыл я ее, не заглянул… и на скрипке мне Анатолий Протасьевич не поиграл, но те несколько часов, которые я провел в его доме, украсили и мою жизнь так же, как украшали некогда жизнь Даниила Леонидовича Андреева.
Теперь мне стало ясно: Даниила Леонидовича влекла сюда атмосфера интеллигентной провинциальной жизни, то неуловимое, тонкое, артистичное, о чем мечтал Чехов и что овеивало семью Левенков. Семью, где не жили искусством, не поклонялись, не приносили ему жертв, а трудились, растили детей, но при этом – жили искусством. Вот удивительно: не жили, не поклонялись и – жили! Я еще раз убедился в этом, побывав у сестры Анатолия Протасьевича Лидии Протасьевны, тихой, задумчивой и… как бы отрешенной, забывающейся, – мы долго разговаривали, и она уносилась мыслями в прошлое. Да, в далекое прошлое, в те времена, когда первыми в городе считались купцы Курындины, Десна была судоходна до Брянска и с началом навигации детвора убегала с уроков смотреть на пароходы – с колесами, высокими трубами и сиплым гудком.
Все это было здесь, в городе. И здесь, в доме Лидии Протасьевны, было то, что затем также овеяло стихи Даниила Андреева и проникновенные, лирические страницы «Розы Мира». Лидия Протасьевна показала мне хранившийся в семье листок со стихотворением Даниила Леонидовича, посвященным ее отцу Протасу Пантелеевичу, и я выписал из него несколько строк:
Он был так тих,
безвестный, седенький,
В бесцветной куртке
рыболова,
Так мудро прост,
что это слово
Пребудет в сердце
навсегда…
И далее:
Я все любил:
и скрипки нежные,
Что мастерил он
в час досуга;
И ветви гибкие,
упруго
Нас трогавшие
на ходу…
Мог бы выписать и больше, но остановило то, что и эти стихи как бы наивные, домашние, не для печати: сочинил и преподнес в подарок. Да и сочинил‑то словно не до конца, не до конца обратил в строки и перевел на бумагу, а оставил такими, какими они до сих пор живут в стенах дома, – вот скрипки Протаса Пантелеевича… вот диванчик, на котором сидели, а за окном упругие, гибкие ветви, ульи, садовые гряды… Здесь встречались, вели неторопливые беседы под грушей на лавочке, пили чай с медом, мечтали, фантазировали, философствовали, и все это навсегда пребудет в сердце…
Так я думал тогда, но затем перечитал это стихотворение в книге, уже целиком. И мне открылось, что сближало Даниила Леонидовича и Протаса Пантелеевича не просто соседство и разговоры велись не только житейские, под настойку на доннике, и даже не только литературные («О Лермонтове, сагах, ведах»), но и теософские, с уклоном в солнечную мистику Древнего Египта, культ «неумирающего Ра»:
Был часом нашей встречи истинной
Тот миг на перевозе дальнем,
Когда пожаром беспечальным
Зажглась закатная Десна,
А он ответил мне, что мистикой
Мы правду внутреннюю чуем,
Молитвой Солнцу дух врачуем
И пробуждаемся от сна.
Вот оно как! Значит, «встреча истинная» произошла не сразу, внутреннее, потаенное долгое время не высказывалось, пока там, на речном перевозе, не прорвалось наружу. Конечно, Протас Пантелеевич – это не Коваленский, столичный барин, знаток экстазов и восхищений, но он тоже мистик, посвященный в древние культы, и «бесцветная куртка рыболова» – символ сознательно избранной безвестности, уединенности, провинциального отшельничества, спасительного в те страшные годы…
Вечером, перед самым отъездом, я вновь пришел к обрыву – попрощаться с надмирным местом. На Десну опускались сумерки, закатное солнце поблескивало на остриях выбитых стекол в окнах собора, жарко краснела рябина – настоящая, тонкая, – а пьяный хор в беседке вытягивал «тонкую», ненастоящую. И гипсовая фигура женщины с обломком поднятой руки напоминала о расцвете парковой скульптуры. Ступени лестницы уводили вниз, к роднику Нила Сорского, и почему‑то в ушах звучало: «Десна была судоходной до Брянска». Как это странно, исполнено одинаково невыразимой тоски и отрады: закатные сумерки, пьяный хор, обломок гипсовой руки с торчащей из нее ржавой проволокой, солнце на остриях стекол и ступени к роднику… И Десна была судоходной… И, если посмотреть вдаль, кажется, что сам демиург таинственно воздевает воскрылия над своей кроткой, святой, нелепой и безобразной страной…








