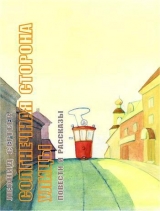
Текст книги "Солнечная сторона улицы (сборник)"
Автор книги: Леонид Сергеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
…Я просыпался от солнца; оно затопляло все окно, стекало с подоконника и плескалось лужей на полу. С подоконника мне улыбался молодой мужчина – это был портрет отца.
Когда я думал об отце, перед глазами мелькал наш дом в Москве, телескоп на чердаке, подмосковный поселок, озера; мелькали луга, проселочные дороги… Я видел нас с отцом – мы бежали с рыбалки, бежали наперегонки до куста чертополоха. Потом, чтобы отдышаться, плюхались в выжженные солнцем травы, и отец сбивчиво говорил:
– Эх, если бы у нас был автомобиль! На худой конец – мотоцикл. Мы помчали бы в разные страны…
– Мы гнали бы, как ветер, правда, пап?
– Именно, как ветер!
– А если бы у нас была яхта?
– Яхта! Тогда мы прямо сейчас махнули бы на Каспийское море!
– А мама? Маму мы возьмем с собой?
– Нет, не возьмем. В путешествиях бывают опасности, да и с женщинами всегда масса проблем.
– Но как же она останется одна? И с огородом не справится.
– О чем ты говоришь! Какой-то там огород! Это все второстепенное. Не та тонкость. Мы привезем ей тысячу овощей. И лучших в мире! – отец поднимался. – Ладно, не огорчайся! Ну, нет у нас с тобой пока ни яхты, ни автомобиля. Но мы можем совершить воображаемое путешествие, потому что умеем мечтать. Разве не так?
…Каждое воскресенье мать доставала из шкафа отцовский костюм, выбивала из него пыль, чистила щеткой и вешала снова. Потом уходила на кухню и начинала переставлять кастрюли с места на место, пыталась что-то спеть, но я замечал – она украдкой смахивает слезы.
Мать любила полевые цветы. Особенно незабудки. Как-то я спросил у нее, почему незабудки называются незабудками? Мать смутно улыбнулась.
– Наверное, потому что не забывается человек, который их подарил. Увидишь их где-нибудь и сразу его вспомнишь.
Не знаю, правда это или нет, но до войны отец с получки всегда дарил матери незабудки, при этом говорил что-нибудь такое:
– Вы уж извините, Ольга Федоровна, за скромный букет, но он – от всего сердца. Моего несчастного сердца, которое вы когда-то сразили наповал. А это, чтобы отметить маленький праздник, – отец доставал из кармана бутылку портвейна.
– Какой праздник? – удивлялась мать.
– Как какой?! День счастливой семьи!
Однажды мы с матерью возвращались из деревни, где покупали картошку; шли по берегу реки и вдруг увидели рябину; среди ее листвы свисали крупные ярко-красные гроздья, и под деревом валялось несколько переспелых ягод.
– Иди, постой под рябиной, – сказала мать.
– Зачем, мам?
– Иди-иди! Потом скажу.
Поставил я на землю сумку с картошкой, подбежал к рябине, поднял с земли гроздь, стал жевать горьковатые ягоды. А мать смотрит на меня издали, как-то грустно смотрит и нежно, и шепчет что-то. Потом подошла и сказала:
– Рябинка – русская красавица. Кормилица леса. Всех птиц и зверей кормит. И настойки и лекарства из нее делают, и варенье варят. Любимое варенье твоего отца. До войны я всегда его варила, ты помнишь?.. Считается полезным постоять в тени рябинки. Говорят, ее запах отпугивает болезни… Вот она какая, рябинка! Недаром столько песен про нее сложили, – мать тихо запела какую-то протяжную песню про рябину и пошла к общежитию.
Я набил полную рубашку сочных ягод и помчался за ней.
18.
У нас с Вовкой была великая тайна – мы планировали убежать на войну. «Разыщем отцов, – думали, – станем в их отрядах разведчиками; мы маленькие, незаметные, везде пройдем».
К побегу готовились долго: копили сухари и сахарин, спички и соль; складывали в мешок, прятали на чердаке общежития. Наконец, в одно солнечное утро, когда матери ушли на работу, и Вовка отвел сестру в детсад, мы написали записки, чтобы за нас не волновались (подробно объяснили, куда и зачем отправляемся), достали мешок с чердака, сели в трамвай и доехали до вокзала; затем спустились на пути и зашагали по шпалам в сторону, куда уходили воинские эшелоны.
Кончились пригороды, потянулись поля, перелески, деревни. Солнце поднялось высоко над горизонтом, стало жарко, но мы шагали бодро – подогревала предстоящая встреча с отцами. Вскоре железнодорожное полотно углубилось в сосновый лес; мы спустились с насыпи и дальше шли вдоль путей по мягкой ржавой хвое. Было тихо, только слышалось стрекотанье кузнечиков… Пронесся товарняк, ударил упругий ветер, снова стихло.
В полдень неожиданно потемнело и стал накрапывать дождь. К этому времени мы подошли к разъезду, где на запасном пути попыхивал дымком старый маневровый паровик; около паровика ходил полный, седой машинист, постукивал молотком по колесам. За ним по пятам семенил рыжий мальчишка – рассматривал механизмы.
Мы подошли, решили передохнуть и посмотреть на работу машиниста. А он вдруг оборачивается и говорит:
– Та-ак, полезли, хлопцы, в будку. Ненароком промокнем до костей – вон как посыпало!
Дождь в самом деле полил сильнее, и мы, не раздумывая, полезли за машинистом и мальчишкой по железной лестнице.
В будке от топки било жаром, пахло сладким паром, смазкой и углем, которым был забит бункер. Машинист полил уголь водой из шланга, стал закидывать его в топку лопатой.
– А зачем вы поливаете уголь водой? – спросил Вовка.
– Мой внук объяснит. Он все знает. Готовится прийти мне на смену, та-ак. Давай, Алешка, объясни.
– Чтоб его лучше огонь схватил, – важно произнес рыжий.
Машинист закрыл топку, постелил на уголь брезент.
– Располагайтесь с удобствами.
Мальчишка плюхнулся на брезент, мы пристроились рядом.
– Далеко, хлопцы, топаете? – спросил машинист.
– Далеко, – уклончиво сказал я, чтобы не выдавать наши планы.
– На войну! – ляпнул Вовка.
– Ха! Вояки-раскоряки! – прыснул рыжий, но машинист дал ему подзатыльник, закурил самокрутку, присел на свое рабочее место.
– Молодцы! Я бы тоже пошел, да не пускают. «Возраст не тот, – говорят. – Доживай на пенсии со своим паровиком на запасных путях». Так-то… А вы хорошее дело задумали. Небось, разведчиками хотите стать?
Мы с Вовкой кивнули. Рыжий посмотрел на нас, но уже как-то уважительно. Машинист глубоко затянулся и, выпустив дым, сказал:
– Ну, бойцы, стрелять вас, ясно, научат. Но, допустим, пошлют вас в разведку. Как будете читать ориентиры на карте? Леса, там, болота? Как пользоваться компасом, знаете?
Мы с Вовкой пожали плечами.
– Та-ак! Ну, а допустим, вас обнаружили, надо затаиться. Как дышать под водой, знаете?
Мы опять промолчали.
– Я знаю! – вскочил рыжий. – Через камышину!
– Помолчи! – остановил его машинист и снова обратился к нам: – Так! Ну, а если попали в окружение и нечего есть. Какие съедобные травы знаете? Как сварить суп без посуды?
– Как? – вздрогнул рыжий.
– Вот то-то и оно – как? – машинист открыл топку и бросил в нее самокрутку. Это хитрая наука. Этому учиться надо. Так что, хлопцы, вижу – у вас еще слабоватая подготовка. Возвращайтесь-ка домой, подучитесь малость. Без знаний и навыка на войне делать нечего.
Когда кончился дождь, машинист показал нам дорогу через лес к ближайшей станции, сказал, что к вечеру в город пойдет пригородный.
Вступив в лес, мы некоторое время шли молча; потом, перебивая друг друга, заговорили одновременно. Я сказал, что у нас есть журнал «Всемирный следопыт», и в нем много ценных советов для путешественников. Вовка заявил, что достанет карту и компас, выучит все назубок и потренируется на местности – в оврагах за общежитием.
В вагоне мы уже наметили новый план – через месяц, вооружившись мощными знаниями и навыками, снова отправиться на фронт.
Нам казалось, что мы ушли очень далеко от города, но уже через пятнадцать минут поезд замедлил ход, споткнулся о стрелку, за окном веером разбежались пути, мелькнул шлагбаум, шоссе с белыми зубьями, трамвай. Потом показался вокзал и крупные буквы «КАЗАНЬ».
19.
Посреди двора на столбе висел громкоговоритель «колокол». Летом вокруг столба росли цветы «солдатики». «Солдатиков» было много – они стояли, как свечки на именном пироге. Каждый вечер жильцы из общежития и ближайших домов собирались у «колокола» – слушали известия с фронта. Собирались задолго до сообщений; одни садились на лавку, другие приносили стулья и табуретки. Приходили все, даже Гусинские, хотя было достоверно известно – никто из их родственников на фронте не был.
Мы, мальчишки, смутно осознавали происходящее – нам было по семь-девять лет, но мы видели, как угрюмо мужчины курят, а женщины вытирают слезы, и понимали, что война – ужасное бедствие. И догадывались – наши отцы сражаются за то, чтобы мы всегда могли играть в футбол, и кататься на трамвае, и носиться по лугу и сбивать головки цветов. Чтобы мы учились в настоящей школе, а не в старой избе. Чтобы все было, как до войны, когда по Волге (по рассказам местных мальчишек), вместо барж с пушками, ходили белые пароходы, а вместо барахолки был пахучий базар с овощами и фруктами. Чтобы мы вернулись в Москву… То есть, чтобы было все то, что мы любили в мирное время, и что объединяется в понятие Родина.
В последнее лето войны известия с фронта были хорошие. Наши войска освобождали один город за другим. После этих сообщений во дворе гремело «ура!», и жильцы долго не расходились; подробно обсуждали услышанное, спорили. И странное дело! Много всего было, а в памяти остались только цветы «солдатики» и голос диктора.
20.
Снова наступила осень; за окном в голых прутьях засвистел ветер. Однажды в окно я увидел: двор пересекает Вовка и высокий летчик на костылях. Это был Вовкин отец, я узнал его сразу, по фотографии.
Вовкин отец приехал из госпиталя. Его звали дядя Коля. Теперь Вовка целыми днями без умолку рассказывал нам о подвигах своего героического отца. Сам дядя Коля оказался молчаливым, замкнутым, с глухим голосом: на кухню заходил редко, а если и заходил, о войне не рассказывал. От вопросов жильцов отмахивался.
– Что рассказывать-то! Погибли самые лучшие, самые смелые…
Но со слов Вовки до нас все-таки дошли кое-какие обрывочные сведения. Я запомнил одну историю.
…Немцы подбили наш танк и побежали к нему, чтобы взять танкистов в плен. А танкисты отстреливаются, и прямо под огнем ремонтируют покореженную гусеницу. Немцы уже подбежали, совсем взяли танк в кольцо. И вдруг сверху на них спикировал наш «ястребок». Стал кружить вокруг танка, обстреливать немцев из пулемета. Немцы залегли, тоже открыли огонь по истребителю, и попали в бензобак; вспыхнул «ястребок» и рухнул на землю. И к нему сразу бросились немцы. Только танкисты уже починили танк и, разгоняя немцев, подкатили к горящему самолету; вытащили из кабины летчика и укатили к своим. Тем летчиком был Вовкин отец.
После Вовкиных рассказов я пытался представить, как воюет мой отец, но как ни силился, у меня ничего не получалось. Почему-то я никак не мог представить отца стреляющим из винтовки, в атаке, в рукопашном бою… Передо мной возникали совершенно другие – мирные картины: отец у телескопа, на рыбалке, в лесу, рассматривающий травы и насекомых. Я вспоминал, как мы строили дворцы из глины, как однажды с получки отец купил на птичьем рынке несколько клеток с щеглами, приехал в поселок и выпустил птиц…
21.
В разгар зимы мы с Вовкой совершили благородный поступок. Как-то играли в коридоре общежития, вдруг из двери выглядывает мать Артема, тетя Валя, подзывает нас.
– Ребятки, сбегали бы на почту. Говорят, мне там весточка с фронта, а я захворала. В котельной-то сквозняки. Артем-то, оболтус, второй день не ночует… Просила Витю Гусинского – отказался.
Почта находилась в восьми километрах от общежития, в аэропорту. После уроков мы с Вовкой подошли к учителю по физподготовке, объяснили в чем дело и попросили выдать нам лыжи.
– Дело хорошее, – сказал физорг. – Лыжи возьмите.
День был метельный; ветер гнал вихри, с сугробов текли снежные водопады. Чтобы не петлять по дороге, мы двинули к аэропорту напрямик, по рыхлому снегу – он хрустел под лыжами, как раздавленные огурцы. Мы глубоко проваливались и шли медленно, но иногда замечали сбоку чей-то след – ровный, с четкими кружками от палок – кто-то шел впереди легко, размашисто. Мы вставали на проторенную лыжню и тогда скользили быстрее.
Ветер усилился, стемнело; снежная пыль набивалась в рукавицы, за воротник, залепляла лицо. Мы потеряли лыжню и некоторое время топтались на месте; ветер доносил лай собак, гул моторов – аэродром был где-то рядом, но где именно мы не могли разобрать. Потом нас ослепил луч прожектора и мы увидели людей; закричали, замахали палками. К нам подъехали на «газике», посадили в кабину, подвезли к вышкам с красными огнями.
Дежурный на почте усадил нас за стол, налил горячего чая, а когда мы спросили про письмо, удивился:
– Письмо? А я отдал его. Вон ей! – он кивнул в сторону соседней комнаты.
Мы повернулись и увидели Настю, всю в снегу и клубах пара; одной рукой она сжимала лыжи, в другой держала письмо; она смотрела на нас и улыбалась.
22.
Пришла весна, последняя весна войны. По ночам еще лужи стягивались хрупким ледком и белые хлопья заснеживали дорогу, но днем уже в канавах бормотали ручьи и у общежития бились сосульки. Мать расклеила оконную раму, и после школы я делал уроки прямо на подоконнике, у распахнутых створок.
Однажды под окном остановился точильщик: молодой, в гимнастерке с медалями и нашивками ранений; один рукав пустой, заправлен под ремень. Точильщик поставил станок, достал нож, нажал на педаль – закрутились серые и красные наждаки, послышался визг, полетели искры.
К точильщику подбежала Настя – уже без пальто и шапки; она явно радовалась, что первая сбросила тяжелую зимнюю одежду; пританцовывая стала смотреть, как точильщик окунает лезвие ножа в банку с водой, чтоб не перекалилось, пробует на лоскутках материи. Вдруг точильщик нагнулся к Насте и что-то шепнул ей.
Настя вскинула глаза.
– Не может быть?! – удивилась и побежала в общежитие.
К точильщику подошел Вовка с сестрой, протянул ножницы. Точильщик заточил их, с улыбкой поклацал инструментом в воздухе и тоже что-то шепнул Вовке.
– Точно? – переспросил Вовка и кинулся в подъезд.
– Ура! – завопила Катька.
Я высунулся из окна.
– Что вы им говорите?
Точильщик обернулся, хмыкнул.
– Что говорю? Сообщаю важную новость. Скоро война кончится!
– Откуда знаете?
– Знаю, раз говорю… Твой отец на фронте?
– Угу.
– Жди, скоро вернется!
В тот день мы получили письмо от отца. Он писал, что его часть уже около Берлина, вот-вот немцы капитулируют, и он вернется домой; что родился под счастливой звездой, потому что дошел до Берлина и даже ни разу не был ранен. Писал, что очень хотел бы, чтобы я стал строителем и восстанавливал бы разрушенные города, и строил бы их еще красивее, чем они были до войны. Писал, что когда вернется, купит мне такую же, как у него брезентовую куртку-штормовку и новые бамбуковые удилища, и тогда уж мы порыбачим! И, конечно, писал о яхте – что мы начнем ее строительство сразу же, как только он вернется – «больше откладывать не будем ни дня!». В конце письма просил мать не волноваться, не нервничать – «худшее уже позади!» А мне нарисовал смешной рисунок: мы с ним на яхте в тельняшках; вокруг парусника водяной и русалки – таращатся на нас, Альма на них гавкает. Яхта называлась «Ольга Федоровна».
23.
Этот день начинался как все, только с самого утра стояла необычная тишина. Так же, как всегда, на «петле» позвякивал трамвай, из булочной пахло горячим хлебом, во дворе висело белье, плотно надуваемое ветром… Все было как всегда, только тишины такой никогда не было.
Проснувшись, я пошел за общежитие, где у черного хода стояла кадка с водой – в ней я проверял самодельные поплавки. Около кадки обитал лягушонок. Днем, когда становилось жарко, лягушонок прыгал по ступеням до ободка кадки, затем нырял в воду и плавал от стенки к стенке. Наплавается, заберется на ободок, и с него соскочит в заросли лебеды. Но в то утро кадка почему-то рассохлась, и вода из нее вытекла.
«Кончилась веселая жизнь пучеглазого, – подумал я. – Надо бы снова налить воды», – как вдруг услышал шлепанье в кадке. Заглянул в нее, а на дне среди травы и тины сидит лягушонок и смотрит на меня тревожными глазами. Он никак не мог выбраться из кадки и уже выбился из сил – мешочек под его ртом так и дергался.
Помог я лягушонку выбраться, а он не убегает – явно поплавать хочет.
Принес я деревянный черпак с водой, поставил около лягушонка; он сразу полез в воду, нырнул, перевернулся как акробат…
Я спас лягушонку жизнь и в это время узнал, что кончилась война: смотрел, как лягушонок купался, и вдруг услышал по радио громкий голос диктора о падении Берлина. Я услышал это первым во дворе и на всей окраине, и мне показалось – даже первым в мире. Потому что ничего не изменилось. Все так же на ветру раскачивалось белье и по-прежнему было удивительно тихо. И тогда я закричал во все горло и побежал через двор к близлежащим домам. А навстречу мне уже бежали другие мальчишки и девчонки – они тоже кричали и размахивали руками.
…Через несколько дней я проснулся от стука в дверь; вскочил с постели, а в двери взъерошенный Артем.
– Чеши к нам! Мой отчим вернулся!
Отчим Артема, мужчина со шрамом на щеке, выбрасывал из комнаты пыльную рухлядь.
– Помогай, браток! – бросил мне. – Выносим на помойку этот балласт! Захламили, понимаешь, комнату. И вот что! Есть боевое задание – очистить двор от мусора! Соберите свою братву, и чтоб блестел как палуба!
Артем изменился: бросил курить, объявил, что будет поступать в ФЗУ.
…Спустя месяц вернулся отец Насти. Он приехал вечером, когда мы с Настей играли во дворе (ее отпустила мать – к ним должен был прийти усатый и патефон уже вовсю играл «Мы на лодочке катались»). Я первым увидел, как во двор вошел военный с чемоданом в руке. Он подошел к Насте, внимательно посмотрел на нее, и Настя уставилась на военного, и вдруг вскрикнула:
– Папка! – и бросилась к отцу.
Военный поднял Настю на руки и они вошли в общежитие.
Патефон в их комнате смолк, и оттуда долго ничего не слышалось. А потом в подъезде появилась заплаканная Настя и пробежала мимо меня за общежитие.
– Не зря я сегодня во сне видела церковь, – пробормотала Гусинская (она сидела на лавке и наблюдала эту сцену). – Не зря. Церковь, да еще с пением. К худу это…
Спустя неделю мать сказала, что Настя уедет с отцом в Москву.
В ту ночь я впервые узнал, что такое бессонница – тяжелая горечь лишила меня покоя и сна. Я и не догадывался, что Настя так много значит в моей жизни.
Рано утром я постучал в их комнату, и когда Настя вышла, сказал:
– Пойдем за общежитие.
Мы пришли на черный ход, сели на холодные ступени и некоторое время молчали.
– Наше королевство! – как-то по-взрослому вдруг сказала Настя и грустно улыбнулась.
Потом посмотрела на меня – так же, как три года назад, когда предложила «любить друг друга», и я понял – все это время, несмотря ни на что, между нами была тайна.
– Правда, что ты уезжаешь? – спросил я.
– Только когда закончатся занятия в школе, – Настя повернулась ко мне: – Но ведь когда твой папа вернется, вы тоже приедете в Москву? И мы встретимся.
– Встретимся, – выдавил я. – Но как будет… когда ты уедешь? – на большее у меня не хватило сил. И все же, это было мое первое и самое лучшее признание в любви.
Настя все поняла и пришла мне на помощь.
– Я тоже буду по тебе скучать. Но я уверена, мы скоро встретимся.
24.
Уже солнце пекло по-летнему, и на дороге появилась пыль, а отца все не было. Над нашим окном уже свили гнезда трясогузки, в оврагах за общежитием, не смолкая, кричали грачи, а отца все не было. Уже вернулись отцы Вовки и Насти, отчим Артема, а моего отца все не было.
…Наступил день победы. На улицах незнакомые люди поздравляли и обнимали друг друга, и всюду слышалась музыка. Гусинские где-то достали муку и всем жильцам раздали по пакету, и все напекли пышек – первый раз за четыре года я попробовал стряпню из белой муки.
Во дворе было весело: отчим Артема играл на аккордеоне, все пели и танцевали. И моя мать танцевала тоже. Она надела крепдешиновое платье, которое не доставала из саквояжа с начала войны, подвязала волосы лентой. Мать была очень красивой – я даже подумал, что она красивей всех женщин в общежитии, а, может быть, и во всем мире.
Кто-то принес бенгальские огни, мы с Вовкой зажгли их спичками, устроили фейерверк. Внезапно я увидел – через двор бежит Настя и машет каким-то белым листком – она вся в слезах, с ободранными коленями. Настя подбегает к моей матери, протягивает ей листок, и мать вдруг вскрикивает, закрывает лицо руками и прислоняется к стене.
…Мне никак не верится, что мой отец никогда не вернется. После войны прошло много лет, я давно стал взрослым, но все еще жду отца. Мне кажется, когда-нибудь наша дверь распахнется и он войдет, молодой, загорелый, веселый, и наша комната снова наполнится смехом, и мы, как прежде, отправимся на рыбалку, а потом построим яхту, чтобы путешествовать.
…Я вижу, как отец идет с работы и ветер раздувает его пиджак. Он идет по солнечной стороне улицы, машет мне рукой и смеется.
Вижу отца у окна нашей комнаты. Он курит папиросу, разговаривает с кем-то на улице и щурится от солнца и смеется.
Сохранилась только одна фотография отца. Он стоит у озера; одна рука в кармане брюк, другая заложена за борт пиджака. Отец небритый, в каких-то смешных коротких брюках, а очки на самом конце носа, вот-вот упадут. На фотографии отец тоже смеется.
1969 г.








