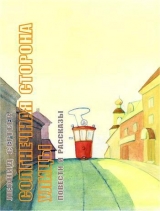
Текст книги "Солнечная сторона улицы (сборник)"
Автор книги: Леонид Сергеев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
СОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА УЛИЦЫ
повесть
Я знал только трех людей, которые на вопрос «как дела?» всегда поднимали большой палец. Первым был столяр дядя Матвей. Его мастерская находилась в подвале нашего дома; к ней вела скрипучая деревянная лестница со стертыми ступенями; из подвала пахло столярным клеем и свежей стружкой. В мастерской было небольшое продолговатое окно, но, каким-то загадочным образом, даже в пасмурные дни в ней было светло, а уж в солнечные – ее просто затопляли ослепительные волны, и, казалось, в них плавали верстак, рубанок, деревянный молоток и спирали стружек, и сам дядя Матвей – он работал и улыбался тайным мыслям.
Дядю Матвея называли Мастером, и этим высоким званием его наградили не случайно – он реставрировал, «оживлял» старинную мебель с инкрустациями и резьбой, и вкладывал в работу недюжинную любовь к дереву. Глядя, как он подбирает, прилаживает друг к другу куски «благородной» древесины, как зашкуривает их, покрывает лаком, полирует, я сильно завидовал ему и мечтал стать таким же мастером краснодеревщиком, когда вырасту.
Вторым был матрос на Соловецких островах. Он сказал мне как-то:
– Быть счастливым просто – не надо желать, чего нельзя получить.
Я-то знал – с этим никогда не соглашусь и усмехался: – Попробуй не желать! Но матрос был по-своему счастлив; он побывал во многих странах, вечно находился в пути, но не хотел менять свои скитания на городскую жизнь в «коробке».
Третьим был мой отец.
1.
Я любил катить железное колесо каталкой или идти вдоль забора и палкой трещать по рейкам. Любил грызть сосульки, играть в ножички и кричать в пустой бочке. Любил стручки гороха, семечки от тыквы и, когда жарко, любил залезать в ручей – становилось прохладно и спокойно. Любил полевую сумку, потому что в ней много отделений, любил подставить ладонь под струю воды из колонки и брызгать. Любил свистеть, засунув в рот пальцы и любил мандарины – они пахли Новым годом (их продавали только перед зимним праздником).
Еще я любил вертеть на полу раскрытый зонт, как юлу, любил гудеть в водосточную трубу и смотреть, как пыхтит каток, разглаживая асфальт. Любил пыльные чердаки с косыми лучами солнца и любил слушать шум дождя по крыше – казалось, там расплясались какие-то беспечные танцоры.
Еще любил стрелять косточками от вишни и палкой с пластилином доставать монеты из фонтана. И любил подавать инструмент дяде Матвею, когда он работал. И любил всех дворовых собак… И, конечно, любил свою мать… Но особенно любил отца – горячо, безудержно.
Отец постоянно ездил в командировки – то на один завод, то на другой; все время мы с матерью его провожали и встречали. Зато, когда он бывал дома, наступал праздник. Я просыпался от смеха в комнатах, отец шагал взад-вперед, что-то рассказывал матери, смеялся и пел… Он всегда был в приподнятом настроении. Наверное, иногда ему становилось плоховато и наверняка он иногда грустил, но этого никто не видел. Поэтому все считали отца счастливцем. И он так считал тоже.
– Я, в самом деле, счастливый, – говорил мне. – Не потому, что во всем везет. Нет! Просто я знаю, чего хочу, и люблю свою работу, и у меня есть надежные, преданные друзья, и есть мама, и ты…
Меня-то отец любил больше всех, я знаю точно. Даже «любил» – не то слово. Отец просто не мог жить без меня, а я без него – и подавно.
Когда отец возвращался из командировки, мы с ним не расставались ни на минуту: играли в чехарду, строили в ручье запруду и пускали бумажные корабли; или гоняли в футбол или запускали змея и посылали к нему «письма». Или усаживались на диван, отец обнимал меня и рассказывал захватывающие истории. Он знал их огромное множество, ведь столько ездил по разным местам!
Все свое детство я ждал отца. И всю свою юность. С отцом было легко, интересно и весело; он сразу ставил все на свои места и заражал меня оптимизмом. И сразу неудач становилось меньше, а те, которые и были, казались мелкими, чепухой.
Я и теперь жду отца, хотя его уже давно нет.
2.
Мы жили в коммуналке – занимали тесную комнату, заставленную расшатанной мебелью.
– Господи, когда у нас будет просторная комната, хорошая мебель? – вздыхала мать.
– Будет! – отзывался отец, поправляя очки. – Когда я заработаю много денег. А вообще, деньги – это необходимость, далеко не главная в жизни. Нельзя же, к примеру, купить молодость, любовь, дружбу! – как бы закрывая тему нашего неблагополучия, отец обводил комнату рукой. – И потом, у нас и сейчас неплохо. Полно света. А свет – главное в комнате. У нас свет мягкий, спокойный, он способствует творчеству, – отец подмигивал мне, давая понять, что мы-то с ним живем высшими понятиями, а не какими-то там мелочными заботами.
Наш дом был старый, с облупившейся штукатуркой и поломанными дверьми. Ничего примечательного в доме не было, за исключением черного хода и пожарной лестницы, с которой открывался вполне примечательный вид на Москва-реку. Зато у нас был колоритный двор: выбитый «пятак» – площадка футболистов, стол – для любителей сразиться в шахматы и домино, и в тени, под деревьями, где всегда пузырилось выстиранное свежепахнущее белье прачки тети Зины, – скамья, на которой обсуждались дворовые, городские и всемирные новости. Плюс ко всему, двор украшали цветы в горшках и эмалированные ведра; цветы выносили под летнее солнце, в ведра женщины собирали дождевую воду, чтобы лучше промывать волосы.
В каждом дворе мальчишки имеют прозвища; в нашем они были и у взрослых. Так столяра дядю Матвея звали Мастером, тетю Зину, которая носила бело-розовую кофту – Пирожным. Моего отца нарекли Астрономом (некоторые, малосведующие, называли Звездочетом, и отцу не раз приходилось объяснять разницу между первым и вторым).
На чердаке нашего дома отец соорудил что-то вроде телескопа – картонную трубу с линзами от очков; труба слабо, но все-таки увеличивала ночные светила. С наступлением темноты отец часто наблюдал за звездами, при этом, что-то записывал в тетрадь. Как-то сказал мне:
– Сегодня увидим редкое явление! Комету!
За ужином он был необычно взволнован, то и дело снимал и протирал очки.
– Комета – это тебе не фунт изюма съесть! – подмигивал мне. – Это не каждому удается увидеть. Можно прожить целую жизнь, но так и не увидеть ни одной кометы.
Когда стемнело, мы забрались на чердак; отец долго наводил трубу на небо и бормотал:
– Созвездие Весов, Рака, Лебедя…
Наконец воскликнул:
– Вот она, смотри!
Я приник к трубе – все черным черно.
– Ничего не вижу, – говорю.
– Как не видишь? – нахмурился отец и посмотрел сам. – Эх ты. А это что?! – он подтолкнул меня к телескопу.
На этот раз я разглядел маленькую светящуюся точку.
– Вижу! Комета!
– То-то и оно. Совершенно очевидно – комета! Красивое событие!
В другой раз, заметив, что я слоняюсь по лестничной клетке без дела, отец сказал:
– Неужели тебе нечем заняться? Знаешь, что самое страшное в человеке? Лень!.. Перебори себя, отбрось хандру, заставь себя трудиться, вот это будет победа! Самая почетная победа – над самим собой… Полезли-ка на чердак, что-то покажу – закачаешься!
– Что? – еле выдохнул я.
– Сейчас увидишь, – отец загадочно улыбнулся.
На чердаке, среди всякого хлама, он кивнул на бочку.
– Угадай, что это?
– Бочка.
– Хм! Ничего ты не понимаешь! Ну, какая же это бочка. Это для всех бочка. А для нас? Для нас это…
– Стол! – быстро подсказал я.
– Не-ет! – поморщился отец и повысил голос: – Корабль! Самый лучший в мире корабль! Необычной конфигурации. Давай, залезай, поплывем в разные страны.
Залезли мы в бочку, отец замахал руками.
– Отдать концы! Полный вперед!
Но вдруг взглянул на меня с укоризной:
– Как ты стоишь? Ну кто так нелепо стоит?! Подует ветер, и в итоге свалишься, как статуэточка, – он засмеялся. – Стрелять умеешь?
– Стрелять?
– Из лука? У тебя, вроде, есть лук?
Я кивнул.
– Тащи! Чего же медлишь? В путешествии голова должна варить как надо.
Принес я лук со стрелами. Снова залез в бочку.
– Приближаются пираты! Стреляй! – скомандовал отец и показал на белье, которое мать развесила для просушки (хорошо, что не тетя Зина!).
Я пустил стрелу – на белоснежном белье появилась вмятина.
– Дай-ка я тоже попробую, – отец выхватил у меня лук. – Пострелял, дай другим пострелять. И подвинься – ты заслонил мне весь вид, даже море не видно, не то что пиратов.
Он стал целиться и все поучает меня:
– Важно, как ты держишь лук. Крайне важно. Такая тонкость. По тому, как человек держит лук, можно сказать, какой он стрелок.
Отец спустил тетиву и промазал. А я прицелился и снова попал.
– Плохо, – сказал отец. – Очень плохо. Так не стреляют. Стрелять надо на большом расстоянии. И стрелы у тебя плохие. Они должны быть с оперением.
– Смотри! – перебил я отца. – Точки на белье! Теперь нам влетит от мамы.
– Думаешь? Но точки-то микроскопические. Хотя, пожалуй, и правда влетит. Нескладный поступок с нашей стороны, но как выйти из этого положения?
– Полезли на крышу. Мы потерпели кораблекрушение и попали на необитаемый остров.
– Здорово придумал! – отец хлопнул меня по плечу. – Давай, фантазируй еще, развивай воображение! Все существа на земле через игру познают мир.
Вскарабкались мы на конек крыши.
– Теперь подавай сигналы бедствия, – отдуваясь проговорил отец.
– Я не умею.
– Как не умеешь? Совсем не умеешь? Но надо подавать. Хоть тресни, а надо. Иначе мы умрем с голоду.
– Идите ужинать! – вдруг слышим снизу голос матери; она стоит около лестницы, и вдруг спрашивает: – Что вы там делаете?
– Да вот, – отец повел в воздухе рукой, – на остров приплыли. Хочешь, полезай к нам.
– Что за бесшабашные поступки?! Выставляете себя на посмешище. Слезайте сейчас же! Я думала, у меня один ребенок, а у меня их, оказывается, два.
– Не грешите преувеличениями, сударыня, – отозвался отец, а мне тихо бросил: – Ничего не поделаешь, придется слезать. Кое-чего она не понимает, наша мамка.
– Совсем ничего, – согласился я.
– Твой отец большой оригинал, – частенько слышал я во дворе. – В его голове одни чудачества. Ему легко живется.
А между тем отцу жилось далеко не легко. Будучи инженером-самоучкой (он закончил только курсы чертежников), ему все время приходилось заниматься самообразованием.
– Я вечный ученик, – говорил он, – всю жизнь учусь и не стесняюсь своих недочетов, ошибок, неумения.
Но отец был отличный практик – не случайно ему заказывали работу многие заводы. Так что по вечерам он не только смотрел в телескоп, но и чертил за доской, иногда до полуночи.
3.
У отца было редкое качество – он радовался успеху других и, как никто, восхищался работой мастеров. Однажды дядя Матвей сделал нам полку; отец прибил ее на стену, сел напротив, подозвал меня.
– Полюбуйся! Не полка, а произведение искусства. Матвей Петрович не просто Мастер, он исключительный талант в области столярного ремесла. И яркий человек. Яркий и не шумный. Спокойно делает свое дело. Мы с тобой не смогли бы сделать такую полку никогда. Как бы ни пыжились. Вот так и нужно работать. Нужно делать или прекрасные вещи или не делать никаких. Не так важно, кто ты: столяр, инженер, живописец, куда важнее – отношение к работе. Ты должен быть прежде всего мастером своего дела. Такая немаловажная деталь.
Эту премудрость я не смог постичь.
– В сущности, – продолжал отец, – ценить мастерство очень просто: хорошая вещь та, на которую никак не насмотришься, и хороший кинофильм – когда выходишь из зала и становится грустно, что расстался с героями фильма…
Эта премудрость до меня дошла и, отягощенный новыми знаниями, я долго не мог подняться с дивана, а отец, после столь длинной речи, подошел к сундуку и достал свой музыкальный инструмент – трубу. Он всегда, когда волновался, играл на трубе; музыка на него действовала умиротворяюще. Отец играл всего две мелодии, и только при мне и матери, и никогда – при посторонних.
– Я всего лишь любитель, – говорил, – играю для души.
В тот момент его душа была переполнена возвышенными чувствами.
Всякий раз, когда отец играл на трубе, наша комната наполнялась приглушенными витиеватыми звуками: они напоминали журчание воды у колонки – та вода по деревянному желобу стекала в ручей, который заканчивался ярко зеленым болотцем с острыми травами; из болотца вытекал второй ручей – он впадал в Москва-реку… Слушая звуки трубы, я шел по ручью, плыл в реке, и как-то само собой, миновав огромное пространство, уже на пароходе бороздил океанские просторы, посещал далекие страны… Удивительный инструмент труба!
Отец играл легко, без напряжения; со стороны казалось, подуй, и у тебя получится не хуже, но когда я пытался что-нибудь сыграть, у меня ничего не получалось. Я дул изо всех сил, но вместо звуков из трубы вырывались хрип и стон.
До сих пор я отношусь к трубе с почтением. Ее звуки моментально поднимают настроение, если взгрустнулось, и наоборот – заставляют погрустить, если слишком развеселился.
4.
На одно лето мать сняла комнату за городом, чтобы «подышать свежим воздухом и приобщиться к природе».
– Как там, Ольга Федоровна, обстоят дела со светом? Вы это выяснили? – поинтересовался отец (в некоторые моменты он шутливо называл мать по имени-отчеству. Мать, в свою очередь, тоже кое в какие моменты называла отца на «вы»).
– Со светом так, как везде, – отозвалась мать. – Электрическое освещение хорошее.
– Хм, я имею в виду солнечный свет, – прояснил отец. – За городом свет должен быть ярким, но не слишком. А то бывает солнце нестерпимо палит и в комнату течет жара, стоит изнурительный, удушающий зной. Это никак не способствует творчеству. А у нас с сыном обширные планы, в смысле творчества, – он подмигнул мне. – Я беру заказы двух заводов, а сын – бумагу и краски. У нас тьма планов.
Поселок располагался в отличном месте: с одной стороны к домам вплотную подступал лес, с другой – простирались луга, через которые петляли тропы к озерам. По субботам мы с отцом отправлялись на рыбалку – на рыбалку с ночевкой под открытым небом! На озера приходили вечером; я собирал сушняк, отец вылавливал две-три плотвички для ухи; мы разжигали костер, ставили рогульки, вешали котелок…
– Что может быть лучше ночевки у костра! – говорил отец и, подчеркивая величие момента, обводил рукой окружающее нас пространство.
В самом деле, что могло быть лучше? Я лежал на отцовской куртке и смотрел на языки пламени; в котелке бурлила уха, и ее запах щекотал ноздри; с противоположного берега доносились скрип телег, голоса… Отец откупоривал «четвертушку», выпивал, а когда мы съедали уху, подкидывал веток в костер, закуривал папиросу и начинал рассказывать истории, которые с ним случались в командировках. Я мужественно боролся со сном, и все же, как-то незаметно, мои глаза слипались – обычно на самом интересном месте рассказа.
Рано утром, едва рассветало, отец будил меня и мы спускались к воде.
Мы удили на обычные поплавочные удочки. Как только у меня начинало клевать, я подсекал, и рыба часто срывалась. Отец не спешил, ждал, когда рыба съест концы червя, почувствует вкус лакомства, осмелеет и набросится на всю наживку. Тогда подсекал. И всегда без срывов. При этом подмигивал мне и, с некоторой долей хвастовства, как бы говорил: главное в ужении – техника исполнения. Отец по поклевке чувствовал, какая берет рыба, и снова подмигивал мне и шептал: подлещик или голавль, или ерш. И всегда угадывал. Это было какое-то чудо!
Когда становилось жарко и рыба уходила на глубину, мы выбирали песчаную отмель и плавали (отец учил меня плавать «брассом»), и ныряли навстречу друг другу, чтобы встретиться под водой. Потом плоской галькой «пекли блины» на воде, рвали для матери кувшинки. Я купался до «гусиной кожи», когда уже зуб на зуб не попадал, а отец только смеялся и не устраивал мне никаких выговоров, в отличие от матери, которая никогда не давала развернуться в воде по-настоящему.
С рыбалок возвращались проселочной дорогой; по пути к дому отец мечтал о яхте.
– Скоро сделаю одну важную работу, получу много денег и мы с тобой приступим к строительству яхты, – серьезно говорил он. – Вот тогда попутешествуем… Нам путешествия совершенно необходимы. Чтобы набираться впечатлений, расширять кругозор… Но немного терпения. Надо запастись терпением.
Отец объездил много разных мест, но все его поездки были сухопутными, поэтому он мечтал совершить путешествие по воде. Даже наметил маршруты этих путешествий. Не хватало только яхты. Яхта не давала отцу покоя: все разговоры в семье заканчивались разговором о паруснике. Чертежи отец давно начертил. Их было множество – листов пятьдесят, не меньше. На одних красовались беспалубные шлюпы, на других – парусно-моторные, с мачтами и каютами. Чертежи были всюду: под столом, за шкафом, в диване. Если бы однажды отец решил развесить все чертежи на стенах, не хватило бы всей нашей комнаты. К тому же, наша комната была завешена моими рисунками и, возможно, отец не хотел заменять их чертежами, поскольку считал меня «способным», а главное «плодовитым живописцем».
Каждый раз, когда отец заговаривал о яхте, мать вздыхала:
– Неисправимый романтик! – и, насупившись, уходила на кухню.
Но я-то слушал отца всегда. Я знал, что рано или поздно мы построим яхту, и был уверен – это будет отличное судно.
Когда отец уезжал в командировки (он их в шутку называл «трудовыми путешествиями»), на меня часто находила тоска, мне казалось – в прошлом веке жизнь была намного интереснее; я представлял во всем блеске необитаемые острова, клады, пиратов, и сильно завидовал мальчишкам, которые жили в те времена. Но возвращался отец, рассказывал о нехоженых лесах и диких зверях, о геологах, строителях, и я начинал завидовать отцу. Много раз я просил его взять меня с собой, но он говорил, что мне нужно подрасти. И я ждал, когда подрасту. А время, как назло, тянулось ужасно, нестерпимо медленно. Иногда мне казалось, что я не смогу стать хорошим путешественником, таким, как отец, и я делился с ним своими сомнениями. Но отец быстро меня успокаивал:
– Как это не сможешь? Тоже мне сказанул! Ты станешь отменным путешественником! Ты должен верить в это. Недооценивать себя так же вредно, как и переоценивать. Такая немаловажная деталь.
Собственно, отец напрасно меня успокаивал. Такие сомнения меня посещали редко. В общем-то я был уверен в себе. Даже чересчур. Особенно в рисовании. Но в этой области я, по общему признанию, достиг немалых успехов. Даже отец, который относится ко мне с повышенными требованиями, отмечал многие мои рисунки. Иногда брал карандаш и делал в рисунках поправки (он рисовал блестяще), при этом провозглашал:
– В любом деле главное что? Последний штрих! И у столяра, и у портного, и, тем более, у рисовальщика. Мастер сделает два-три штриха, и вещь заиграет. Такая тонкость.
Отец откладывал карандаш и, чувствуя себя «Мастером», доставал трубу, но проиграв обе разученные вещи, вздыхал:
– Да, приходится признать, здесь имею средние способности, мастерства не хватает. Ноль тонкости. Похоже, высокое музыкальное искусство для меня недосягаемо. Как, впрочем, и столярное ремесло, и многое другое.
И такое самоуничижение находило на отца. Все от того что он ко всему подходил с высокой меркой.
5.
Однажды, в знойный полдень, возвращаясь с рыбалки, мы подошли к опушке леса, и отец сказал:
– Хочешь посмотреть бой хищников?
– Где? – удивился я.
– Здесь, прямо сейчас. Это заслуживает пристального внимания… Ты много раз встречал этих хищников на лугу и у озера, и они первые пускались от тебя наутек. Они очень маленькие, эти хищники, но свирепы не меньше, чем их большие собратья. Они тоже прячутся в зарослях, и выслеживают добычу, и неожиданно нападают из засады.
Отец свернул с тропы и остановился около родника, на дне которого кипели песчинки.
– Вот здесь, – он лег за трухлявый пень.
Я распластался рядом. Над нами закачались крупные стаканчики колокольчиков – меж них блестела паутина.
Только мы замаскировались, как в паутинную сеть плюхнулась большая с металлическим блеском муха; запуталась и отчаянно зажужжала. И сразу откуда-то из-под листьев к ней устремился паук: забегал вокруг мухи, опутывая ее нитями. Но муха была сильная – все время рвала паутину и не давала пауку приблизиться. Тогда паук неожиданно стал обрывать паутину вокруг пленницы, и муха, освободившись, улетела.
– Не справился, – объяснил отец. – Теперь починит сеть и снова сядет в засаду. Скоро какая-нибудь бабочка-растяпа наткнется на его бредень. Паук парализует ее укусом и высосет… Но это еще что! Давай-ка посмотрим, кто обитает в пне. В нем всегда немало насекомых… По крайней мере парочку жуков наверняка обнаружим…
Отец отломал от пня кусок коры, и тут же в траву свалился черный жук с рогом на голове. Пробежав под травами, жук полез на стебель лопуха; внезапно скользнула тень какой-то птицы, и жук-носорог сразу упал, поджал лапки и замер. Отец хмыкнул:
– Притворился мертвым, хитрец!.. Иногда путается и окаменевает, когда вообще видит что-нибудь загадочное. На всякий случай. Такая тонкость… А некоторые жуки пугают своих врагов, принимая страшные позы… А жук-бомбардир выбрасывает из брюшка едкую жидкость, устраивает настоящий взрыв. Любой преследователь остановится ошарашенный, а жук в это время убежит.
В стороне застрепетала стрекоза; присела на цветок и замерла.
– Вот и стрекоза тоже, – сказал отец.
– Что стрекоза?
– Тоже хищник. Да еще какой!
– Не может быть!
– Точно! Присмотрись, комаров щелкает на лету, – отец встал, отряхнул брюки.
Я тоже вскочил.
– А оса! – сказал отец. – Думаешь, она сластена? Только сок в цветочках пьет?
– Да.
– Ничего подобного. Как бы не так. Тоже хищник. Жало-то у нее какое! Помнишь, тебя ужалила? Тебе и то больно было. А каково, к примеру, мотыльку? Сразу падает замертво, – отец поднял удочки, и мы снова вышли на тропу.
– А светляки? – все сгущал краски отец.
– И светляки хищники? – удивился я.
– То-то и оно! Улиток съедают!
Мы уже отошли от леса, и отец усмехнулся:
– Вот такие огорчительные наблюдения! Это данность, от нее никуда не деться. Но ты, наверное, понял, что все эти хищники полезные. Представляешь, сколько было бы комарья и мошкары, если б не они?
– Сколько?
– Тучи! Вот сколько! Если б не они, да еще лягушки.
Выдержав паузу, отец продолжил:
– Но, конечно, мало радости, если все в мире построено на чувстве страха, опасности, что сильный поедает слабого. Хотелось бы, чтобы все умирали своей естественной смертью. Но так уж устроен мир – тут ничего не попишешь. Поэтому и существует равновесие в природе. Есть добро и есть зло. И есть хорошие люди, и есть плохие. Только хороших все же больше. Несравнимо больше. Как ты считаешь?
6.
Отец привил мне любовь к дождям. Когда чуть моросило и за запотевшим стеклом лишь виднелись водяные капли, отец говорил:
– В такой дождь хорошо работается. Давай-ка, я почерчу, а ты порисуй. Изобрази что-нибудь этакое – как мы плывем на яхте. Предпочтительно в южные страны, там солнца больше.
Когда лил сильный дождь и по стеклу с хрустом лупили косые стеклянные плети, а в лужах лопались огромные пузыри, отец восклицал:
– Смотри! Дождь, точно проказник портной, сшивает белыми нитками дома с деревьями, небо с землей!.. А не побегать ли нам наперегонки под дождем?! Для закалки!
Мы сбрасывали ботинки, выскакивали на крыльцо и сразу глохли от плещущего шума.
– Кто первый добежит до телеграфных столбов, тот чемпион поселка! – отец поднимал руку и начинал отсчет: – Раз, два, три, старт!
Мы бежали босиком по скользкой траве; отец сразу вырывался вперед, но вскоре, изображая хромоту, притормаживал и мы финишировали одновременно.
После дождя прямо на размытой обочине дороги мы, выкапывали каналы, наводили мосты, воздвигали дворцы из глины… Когда появлялось солнце, наши сооружения подсыхали и становились твердыми, как памятники – все прохожие охали и ахали.
– Мечта о Венеции, – объяснял отец, давая понять, что наши планы (в смысле путешествий) простираются достаточно далеко.
Вряд ли прохожие понимали этот намек, тем не менее уважительно обходили наши «мечтания»; некоторые говорили отцу:
– Веселый вы человек. Легко вам живется – никаких забот.
– Абсолютно никаких! – соглашался отец, но тут же добавлял: – Только сегодня. Ведь не каждый день бывают красивые события – такие тропические ливни и столько материала для работы, – он кивал на глину и улыбался – то ли простодушно, то ли иронично – каждый понимал по-своему.
7.
В конце лета родители так «приобщились к природе», что решили задержаться в поселке до первого снега. Я это решение встретил с ликованием – еще бы! – ведь в поселке было гораздо интересней, чем в городе.
Однажды я построил в саду шалаш из стеблей подсолнуха; сверху набросал картофельную ботву – прекрасное жилище получилось. Натаскал в шалаш стручки гороха, морковь, репу; сижу, вдыхаю сладкий запах сухой листвы, поедаю овощи. Вдруг в шалаш заглянула мать.
– Слышишь, в огороде свистуны объявились? Того гляди весь урожай растащат.
– Какие свистуны?
– Свистуны-грызуны-суслики. Взял бы да и прогнал их.
Прибежал я в огород, а там, действительно, на грядках стоят два рыжих столбика; стоят на задних лапах, вертятся из стороны в сторону, пересвистываются. Я кинул в них комок земли, но они не убежали, а нырнули куда-то в листву. Я подошел ближе и увидел нору. Сунул в нее палку и внезапно сзади услышал свист. Обернулся, а суслики – на другой стороне огорода.
Вечером все рассказал отцу.
– Естественно, у них есть запасной выход, – объявил отец. – Ты вылей в их нору ведро воды, разбойники сразу убегут в поле и там выкопают новую нору.
На следующий день я вылил в нору два ведра воды, но спустя час суслики опять засвистели в огороде.
– Ладно, – сказал отец. – Подождем до заморозков, когда суслики впадут в спячку. Они крепко спят – ни за что не разбудишь. Раскопаем нору и отнесем разбойников в поле. Устроим им новое жилье – этакую шикарную квартиру.
Когда ударили заморозки, мы с отцом взяли лопату, начали раскапывать вход в нору; он был широкий, в клочках рыжей шерсти. Вскоре ход раздвоился: один упирался в кладовку, в которой лежали аккуратно сложенные метелки проса, огрызки моркови, какие-то корешки; другой заканчивался лункой – на ее дне лежали они, два толстых рыжих комочка. Они спали, тесно прижавшись друг к другу.
Отец долго смотрел на них, потом вздохнул.
– Знаешь что? Не так уж много они и съели. А зато свистели по утрам, и вообще с ними было весело. По-видимому, мы совершили ошибку, что вторглись в их владения. Ведь здесь, на участке, они считают себя хозяевами. Собственно, так оно и есть: и мы хозяева, и они. И по какому праву мы хотим их выжить? Почему нельзя соседствовать? С уважением относиться друг к другу? Терпеливо сносить чужие слабости?.. Съели пару морковок! Ну и что? И правильно сделали. И я на их месте съел бы. Ты и вовсе опустошил целую грядку – они ведь не возражали! Отметь эту тонкость.
По пути к дому отец развил свою мысль.
– Вот я все думаю: такая огромная наша планета, а людям все тесно, изгоняют животных из среды обитания. А поставили бы себя на их место. Каково им, животным, когда расширяются города, поселки, вырубаются леса?.. Да что там – на место животных! Некоторые свое-то место под солнцем не могут найти. Ссорятся за каждый метр земли, и забывают о главном в жизни. А главное в жизни человека что?
– Что? – поспешно выдавил я.
– Дружба с другими людьми! Все остальное второстепенно.
Надо сказать, дружбы у отца было – хоть отбавляй! Раз в неделю он приходил домой навеселе. Не пьяный – навеселе. Немного выпивал после работы с друзьями-сослуживцами. Они выпивали не для того, чтобы напиться, а чтобы «поговорить по душам»; за бутылкой вина строили планы на будущее и, при этом, уважительно относились к «мечтаниям» друг друга. Немного подтрунивали, но всегда в безобидной форме. Один друг отца мечтал жениться на «самой красивой девушке на свете», чтобы она «любила принимать гостей». Другой (фотограф-любитель) мечтал купить «первоклассную камеру», чтобы запечатлеть для потомков эти «исторические встречи». Отец мечтал о яхте, чтобы путешествовать, чтобы «исторические встречи» были «более продолжительными по времени» и приобрели «красивое звучание».
Позднее мать говорила:
– Конечно, они часто выпивали, и я побаивалась, как бы это не превратилось в привычку, но они были такие очаровательные пьяницы.
Мать никогда не ругала отца за выпивки. Она и сама была не прочь выпить хорошего ликера. К тому же, вполне справедливо считала, что мужчина после трудовой недели вправе снять напряжение. Поразительно другое – мать всегда безошибочно определяла сколько именно отец выпил. Это были смешные сцены. Отец приходил домой и улыбался, чуть больше, чем всегда; обнимал мать, боксировал со мной; чуть громче обычного смеялся, доставал трубу и проигрывал обе свои мелодии.
– Сколько же сегодня вы, Анатолий Владимирович, выпили, признавайтесь?! – усмехалась мать.
– Всего ничего. Микроскопическую дозу, каких-то пятьдесят грамм и кружку пива, – безвинно откликался отец.
– Позвольте вам не поверить. Чувствую – больше.
– Семьдесят грамм и кружку пива, – нарочито серьезно произносил отец.
– Неправда! – усмехалась мать.
– Неправда, полностью согласен. Докладываю вам, Ольга Федоровна, совершенно откровенно – сто грамм и кружку пива.
– Сто пятьдесят грамм и две кружки пива, – объявляла мать и, как всегда, попадала в точку.
– Я поражен! – отец разводил руки. – Просто поражен, Ольга Федоровна! Нет и тени сомнения, вы наблюдали за мной, точнее – незримо присутствовали в нашей компании.
– Обычная женская интуиция, – скромно поясняла мать и, в подтверждение своих слов, перечисляла, чем отец и его друзья закусывали.
8.
То прекрасное время оказалось коротким. Вскоре началась война.
Город помрачнел: над домами повисли «колбасы» – воздушные заграждения, на площадях появились металлические «ежи», в нашем дворе расположился зенитный расчет; комендант района издал приказ: замаскировать окна и сдать радиоприемники. Случалось, с наступлением темноты, выли сирены, по небу шарили прожекторы и мы бежали в бомбоубежище или в метро.
Завод, на котором работал отец, эвакуировали в Казань. Целый месяц мы ехали в вагоне-«телятнике»; назад убегали лесные массивы, поля, унылые деревни на косогорах. По несколько дней товарняк простаивал на запасных путях, пропуская воинские эшелоны, спешившие на запад; в вагонах солдаты играли на гармошках, распевали песни, кричали нам, что вернуться с победой!
Нас поселили в общежитии на окраине, где трамвай делал петлю, и дальше начинались красноглинистые овраги. На окраине разбегались полосы окученной картошки с бело-голубыми венчиками вьюна, тикали кузнечики; было солнечно и тихо, местные жители спокойно работали в огородах, и я подумал: «Может, здесь еще не знают о войне?» Но Вовка, старожил общежития, сообщил мне, что в соседние дома уже пришли две «похоронки» и «там сильно кричали женщины».








