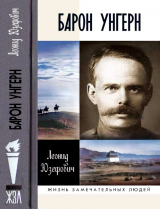
Текст книги "Барон Унгерн: Самодержец пустыни"
Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
2
«Нынче нельзя верить и сыну родному», – говорил Унгерн полковнику Сокольницкому. А Оссендовскому жаловался: «Я никому не могу верить, нет больше честных людей! Все имена фальшивы, звания присвоены, документы подделаны». Это типично для него – мыслить себя единственным настоящим человеком среди псевдолюдей, по отношению к которым ничто не может считаться преступлением.
На мысль о психических аномалиях наводят и неистощимая энергия Унгерна, его постоянная бурная деятельность в сочетании с неизменно мрачным состоянием духа, припадки ярости при всегдашней молчаливости и замкнутости, наконец, манера речи – «перескакивающей с предмета на предмет», возбуждённой, если разговор касался волнующих его тем, с многократным повторением одних и тех же слов. Однако «сумасшедшим бароном» его стали называть уже после смерти. Понадобилась временная дистанция, чтобы разглядеть в нём признаки душевной болезни, которые раньше, на фоне ирреальной действительности тех лет, не так бросались в глаза. К тому же посторонние в Даурии появлялись редко, окружавшая её завеса таинственности начала рассеиваться лишь после того, как в Забайкалье пришли остатки сибирских армий Колчака.
Среди них был боевой генерал Иннокентий Смолин, впоследствии – страховой агент на Таити. В 1920 году он командовал 2-м корпусом Дальневосточной русской армии, а спустя много лет рассказал посетившему его в Папаэте князю Георгию Васильчикову, как однажды Унгерн предложил ему разместить своих людей в местной школе. Смолин послал адъютанта осмотреть здание; вскоре тот прибежал обратно, «его лицо было белым», он повторял: «Господин генерал! Господин генерал! Идите и посмотрите! Там на чердаке что-то ужасное!» Смолин последовал за ним вверх по лестнице, открыл дверь чердака и отпрянул: «Из темноты на нас смотрела пара зелёных глаз. Раздались вой и рычание зверя. Адъютант зажёг свет, и мы разглядели, что это волчица. Вокруг её шеи была повязана цепь, прикреплённая к одному из поддерживающих крышу столбов. У её ног лежал наполовину съеденный труп другого волка. Всё вокруг было усеяно дочиста обглоданными человеческими черепами, костями, рёбрами и т. д. Вот всё, что осталось от пленников барона».
Смолин мог и приврать ради красного словца. Он, например, поведал Васильчикову, будто в детстве, в Якутске, видел собственноручные письма старца Фёдора Кузьмича с масонскими знаками, поскольку Александр I был обращён англичанами в масонство. Не похоже, чтобы описанная Смолиным встреча с волчицей имела место в действительности, скорее, он сделал себя героем чужой истории, но подобные вещи в Забайкалье рассказывали не только про Унгерна. По свидетельству Ханжина, семёновский полковник Степанов, начальник отряда броневых поездов, у себя в «броневике», в особом вагоне, держал медведя, на растерзание которому отдавали приговорённых к смерти. При этом Степанов тоже был человек не без культурных запросов и позднее, поселившись в Будапеште, издал там биографию атамана с трогательными пассажами о его детстве.
Даурских волков придумал не Смолин, о них слышали многие. Даже будущий глава харбинских монархистов Кислицын, близкий приятель Унгерна[49]49
Итальянец А. Веспа, агент русской разведки в Китае, позднее работавший на Чжан Цзолина, писал, что Кислицын был «пустоголовым тщеславным паразитом», чья грудь «увешана четырнадцатью сверкающими бляхами». Эти знаки отличия он получал из Парижа, от великого князя Кирилла Владимировича; тот «присылал своим приверженцам в Маньчжурии всевозможные медали и ордена, посвящал их в фантастические рыцарские ордены, назначал командорами несуществующих легионов» и т. п. «Девизом Кислицына, – замечает Веспа, – был девиз короля Георга I: пунш и толстые женщины. Разница лишь в том, что Кислицын пил водку».
[Закрыть], подтверждает, что на чердаке своего дома в Даурии тот держал волков. Его привязанность к ним Кислицын уклончиво объяснял тем, что барон был «большой оригинал», но отнюдь не все удовлетворялись этой вегетарианской трактовкой. Ссылались, в частности, на исчезнувшие потом результаты расследования, проведённого в Даурии колчаковцами: они якобы установили, что Унгерн «занимался римскими развлечениями, отдавая на растерзание волкам живых людей».
Если это правда, то с одной оговоркой: едва ли он лично развлекался таким образом. Унгерн старался не присутствовать при пытках и казнях, совершаемых по его приказу. При тонкой нервной организации и развитом воображении ему слишком легко было представить себя на месте жертвы. Физической боли он не терпел; когда его ранило в ягодицу пулей, застрявшей у копчика, и доктор предложил её извлечь, Унгерн отказался, сказав, что упадёт в обморок ещё во время приготовлений к операции. Он был не садист по природе, а идеолог жестокости как последнего средства вразумить падшее человечество, тип мегаломана-идеалиста, следующего своим рассудочным принципам, но втайне сознающего, что его собственная физиология не вполне отвечает требованиям той роли, которую он взялся играть[50]50
Может быть, Унгерн запустил в себе тот психологический механизм, о котором говорит Ханна Арендт применительно к офицерам СС с университетским образованием, командирам айнзацгрупп по уничтожению евреев. Они испытывали «обычную жалость нормального человека при виде физических страданий», но сумели «развернуть подобные реакции на 180 градусов и обратить их на самих себя». Тогда «вместо того, чтобы сказать: «Какие ужасные вещи я совершаю с людьми!», убийца мог воскликнуть: «Какие ужасные вещи вынужден я наблюдать (приказывать. – Л. Ю.), исполняя долг, как тяжела задача, лёгшая на мои плечи!»
[Закрыть].
Впрочем, и без чердака с волками-людоедами следствию хватило бы материала, чтобы отдать его под суд. В Даурии тела убитых не закапывали, а бросали в лесу; лишь перед тем, как Азиатская дивизия ушла отсюда навсегда, специальные команды наскоро забросали землёй эти останки, чтобы замести следы. Поговаривали, будто иногда на съедение хищникам оставляли и живых, предварительно связав их по рукам и ногам. «С наступлением темноты кругом на сопках только и слышен был жуткий вой волков и одичавших псов. Волки были настолько наглы, что в дни, когда не было расстрелов, а значит, и пищи для них, они забегали в черту казарм», – вспоминал Ольгерд Ол-ич[51]51
Возможно, это полковник Александрович (Олександрович). В 1930-х годах он жил в Ницце, от него философ-традиционалист Рене Генон получил свои сведения об Унгерне.
[Закрыть].
Он же рассказывает, что Унгерн любил в одиночестве, без спутников и конвоя, «для отдыха» вечерами ездить верхом по окрестным сопкам, где «всюду валялись черепа, скелеты и гниющие части обглоданных волками тел». У этих его поездок было подобие цели – в лесу обитал филин, чьё «всегдашнее местопребывание» он хорошо знал и обязательно проезжал поблизости. Однажды вечером, не услышав привычного уханья, Унгерн решил, что его любимец заболел. Встревожившись, он прискакал в военный городок, вызвал ветеринара и велел ему немедленно отправляться в сопки, «найти филина и лечить его»[52]52
Приведу комментарий нижегородской журналистки Светланы Суворовой (из письма ко мне): «Нет ничего странного в том, что барон ездил наблюдать именно за филином. Крылатая кошка, так его ещё называют – птица потрясающая. Это зверь с крыльями, который умеет разговаривать с людьми. Я не шучу и не нагоняю мистики, просто сама “дружу” с сычом, который обитает недалеко от моей дачи. Иду к нему в гости, и мы забавно перекликаемся: “Ху! Ху-ху-ху-ху-у-у!” Если он молчит, начинаю звать его этой незатейливой фразой (только произносить её надо резко и высоким голосом). Тогда в сумерках, абсолютно бесшумно и призрачно, скользит большая тень. Сыч садится на дерево и отзывается».
[Закрыть].
Независимо от того, вправду был такой случай или нет, тут заметно отношение к Унгерну как к существу демоническому – ночью, в окружении воющих волков, он скачет по лесным полянам, усеянным человеческими костями, и беседует с филином, птицей колдунов и магов. Это сугубо интеллигентская мифология. После казни Унгерна харбинская публика с особым интересом читала и пересказывала подобные анекдоты о нём. Его патологическая жестокость была широко известна, но теперь многие предпочли осмыслить её иначе. Трагический конец окончательно сделал Унгерна героем. В эмигрантской среде на севере Китая возникла традиция, в которой его психическая ущербность трактовалась как демонизм – в мрачных и вместе с тем романтических тонах.
Харбинский поэт Арсений Несмелов положил историю с филином в основу своей «Баллады о Даурском бароне». Правда, филина, символ мудрости, он заменил вороном, птицей более откровенно связанной со смертью и роком. Дерево, где находится его дупло, превращается в сатанинский алтарь, расстрелы – в жертвоприношения. У Несмелова этот ворон становится олицетворением ночной стороны души Унгерна и в то же время символом его нечеловеческого одиночества. Узнав о его гибели, барон, «содрогаясь от гнева и боли», кричит: «Он был моим другом в кровавой неволе, / Другого найти я уже не смогу!» В финале баллады оживший ворон сидит на плече Унгерна, который, тоже восстав из мёртвых, исполинским призраком на чёрном коне проносится в горячих песчаных вихрях над Гоби. Адской свиты, как положено в классических сюжетах такого рода, при нём нет, павшие в боях или им же казнённые соратники – это всего лишь челядь, инструмент его дикой воли, не нужный ему после смерти. С ним единственный верный спутник, единственная родная душа на этом и на том свете – даурский ворон, кормившийся телами его жертв.
«ВЕЛИКАЯ МОНГОЛИЯ»
1
18 ноября 1918 года адмирал Колчак был провозглашён Верховным правителем России; в тот же день Семёнов направил ему телеграмму, отказываясь признать за ним это звание и требуя в течение суток передать власть Деникину, Хорвату или атаману Дутову. Ответа не последовало, тогда он разорвал телеграфную связь Омска с Дальним Востоком и начал задерживать идущие через Читу на запад эшелоны с военными грузами. Семёнов следовал указаниям японцев, считавших Колчака «человеком Вашингтона», но имел и собственный интерес. «Для него, конечно, выгоднее видеть Верховным Правителем генерала Деникина или Дутова, которые не знают всех его художеств, а читают лишь по газетам, что он борется с врагами государства», – говорил ушедший от Семёнова казачий генерал Иван Шильников.
Омск квалифицировал действия атамана как акт государственной измены, в ответ Семёнов сам обвинил Колчака в измене и заявил, что во всеоружии встретит его, если тот попытается применить силу. У него приблизительно 8–10 тысяч бойцов и семь бронепоездов с паровозами в голове и хвосте состава, они круглые сутки стоят под парами, чтобы тотчас двинуться на запад, если войска Верховного правителя будут наступать от Иркутска, или на восток, если придётся отражать наступление со стороны Приамурья. Атамана прочат в диктаторы, в Чите всё громче раздаются голоса, призывающие силой распространить его власть до Урала, а омских политиков, включая Колчака, предать суду. На возражения, что многие в Сибири будут этим недовольны, следует отложившаяся в агентурных документах непосредственная реакция одного из семёновских соратников: «Наплевать, мы эту сволочь всю перебьём».
Столкнулись между собой не только две политические ориентации – на союзников и на Японию, не только две тенденции в Белом движении – нейтралистская и автономистская, но и два человека, не похожие друг на друга[53]53
Первое столкновение между ними произошло в начале 1918 года, когда Семёнов отказался подчиниться Колчаку и даже координировать с ним свои действия. Тогда же, на станции Маньчжурия, состоялась их единственная личная встреча.
[Закрыть]. Одному 45 лет, он прославленный адмирал, исследователь Арктики, герой Порт-Артура, бывший командующий Черноморским флотом; то, что для него было национальной и личной трагедией, для полного сил 28-летнего полковника, недавнего есаула, стало шансом на успех.
«Легенда о железной воле Колчака, – писал Милюков, – очень скоро разрушилась, и люди, хотевшие видеть в нём диктатора, должны были разочароваться... Чрезвычайно впечатлительный, более всего склонный к углублённой кабинетной работе, Колчак влиял на людей своим моральным авторитетом, но не умел управлять ими». Ещё определённее высказался о нём Будберг: «Истинный рыцарь подвига, ничего себе не ищущий и готовый всем пожертвовать, безвольный, бессистемный и беспамятливый, детски и благородно доверчивый, вечно мятущийся в поисках лучших решений и спасительных средств, вечно обманывающийся и обманываемый, обуреваемый жаждой личного труда, примера и самопожертвования, не понимающий обстановки и не способный в ней разобраться, далёкий от того, что вокруг него и его именем совершается».
Весной 1919 года, в момент наивысших успехов на фронтах, редактор газеты «Русское дело» Николай Устрялов наблюдал за Колчаком во время молебна и записал в дневнике, что на лице у него видна «печать обречённости». Колчака преследовали мысли о роке, об игре тайных сил, о гибельности избранного пути. Он много думал о смерти и при поездках на фронт не расставался с маленьким испанским револьвером, чтобы застрелиться при угрозе плена, а Семёнов во время боёв с Лазо возил с собой штатский костюм – на случай, если придётся спасаться бегством. Он не считал себя ни игрушкой надмирных сил, как Колчак, ни их орудием, как Унгерн, и все его предприятия, даже самые авантюрные, основывались на трезвом расчёте и мощном инстинкте самосохранения.
Устрялов писал, что вожди Белого движения органически чуждались власти, она была для них «долгом, бременем и крестом». Их программа: «Вот доведём до Москвы, и слава Богу!» Зато Семёнов «эросом власти» обладал, во многом это и предопределило исход его конфликта с Колчаком. Адмиралу пришлось отменить свой приказ № 61, объявлявший Семёнова изменником, и дать обещание сложить с себя звание Верховного правителя при первом соприкосновении его войск с войсками Деникина. Семёнов телеграфировал о подчинении, но моральная победа осталась за ним. Произведённый в генерал-майоры, признанный походным атаманом всех трёх казачьих войск Дальнего Востока, он сохранил независимость от кого бы то ни было, не считая, разумеется, японцев.
Узнав, что Семёнов отказался подчиниться Колчаку, Унгерн отправил ему телеграмму: «Удивляюсь твоей глупости. Что ты – о двух головах, что ли? Очевидно, ты только е...шь Машку и ни о чём не думаешь».
Едва ли это апокриф, стиль барона узнаваем. Впрочем, довольно скоро он изменил своё мнение и поддержал друга, причём действовал даже более решительно, чем атаман. Тот пытался тянуть время, хитрил, давал успокоительные обещания, которые заведомо не собирался выполнять, а Унгерн попросту арестовал колчаковских эмиссаров в Даурии и на станции Маньчжурия, не вступая с ними ни в какие переговоры. Всё это вполне в его духе. Сравнивая Унгерна с Семёновым, в Забайкалье говорили: «Барон с атаманом по одной дороге не пойдут, дороги у них разные. Путь барона прямой, а у того – другой».
Унгерн не мог не знать, что год назад Колчак лечился в Японии от нервного истощения, и наверняка был солидарен с Семёновым, открыто заявлявшим, что адмирал – «совершенно больной человек»[54]54
Болезнь имелась в виду нервная. Сказано было именно в то время (ГА РФ. Ф. 178. Оп. 1. Д. 2. Л. 44), в мемуарах Семёнова этой характеристики нет.
[Закрыть]. По своим человеческим качествам Колчак мало годился на роль «железной руки». Генерал Резухин, ближайший помощник Унгерна, мог назвать офицера Сибирской армии «сентиментальной девицей из колчаковского пансиона».
В незавершённом романе Сергея Маркова «Рыжий Будда» (писался в 1920-х годах, в Ленинграде) рассказывается, что в Урге, при штабе Унгерна, Колчака именовали «герцогом». Роман в значительной степени написан по воспоминаниям Бурдукова; Марков был с ним хорошо знаком и, возможно, не придумал, а услышал от него это прозвище[55]55
В Омске известно было другое прозвище адмирала – Бука.
[Закрыть]. В самом слове «герцог» есть нечто бутафорское, оперное, не соотносимое с Россией. Именно так, с долей иронического презрения к диктатору, не устающему напоминать, что «диктатура – учреждение республиканское», Унгерн и должен был воспринимать Верховного правителя.
При этом и он, и Семёнов прекрасно понимали, что для них удобна «демократическая» диктатура адмирала. При реальном, а не формальном подчинении Омску могли рухнуть их общие планы, о которых ещё мало кто догадывался. Эти планы касались восточных дел и временно заставляли считать второстепенным всё, что происходит к западу от Байкала.
2
Летом 1918 года, задолго до конфликта с Колчаком и даже до занятия Читы, Семёнов поделился с другом детства Гордеевым своими сокровенными замыслами. Тот рассказывал: «Семёнов мечтал в интересах России образовать между ней и Китаем особое государство. В его состав должны были войти пограничные области Монголии (Внутренней. – Л. Ю.), Барга, Халха и южная часть Забайкальской области. Такое государство, как говорил Семёнов, могло бы играть роль преграды в том случае, когда бы Китай вздумал напасть на Россию ввиду её слабости».
Китайская агрессия была маловероятна, а ссылка на «интересы России», от которой для её же защиты предполагалось отхватить изрядный кусок территории, выглядела совсем уж неубедительно. Создание нового государства отвечало прежде всего интересам Японии; на этот счёт атаман не заблуждался, хотя и старался затушевать суть дела патриотической фразой. Однако сама идея панмонголизма, то есть объединения всех монгольских племён в одном государстве, стала для него глубоко личной, отнюдь не во всём совпадающей с планами Токио и абсолютно чуждой его окружению. Для этих людей Монголия была пустым звуком, ничего не говорящим ни уму, ни сердцу, а Семёнов ещё в декабре 1917 года обещал монголам, что, укрепившись в России, «поддержит их национальные чаяния и стремление к независимости».
Версальская мирная конференция изменила карту Европы, возникли Чехословакия, Польша, Австрия, Венгрия, Югославия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, и тогда же Семёнов опять заговорил с Гордеевым о новом государстве, обрисовав и свою в нём будущую роль: он собирался стать «главковерхом» при каком-нибудь ламе, которого сам же и «посадит» на престол или в кресло премьер-министра. Иными словами, атаман отводил себе формально второе, а фактически – первое место во властной иерархии «Великой Монголии». Не зря как раз в это время послушная ему забайкальская пресса начинает муссировать сведения о том, что его бабка по отцу происходит якобы из рода князей-чингизидов.
Идея всемонгольской государственности имела горячих сторонников и в Халхе, и во Внутренней Монголии, и особенно в Бурятии, о чём Семёнов знал задолго до встречи со своими японскими советниками. Если даже семя было брошено ими, оно дало столь бурные всходы, что в Китае сочли атамана главным инициатором панмонгольского движения. Об этом же доносил в Омск русский посол в Пекине, князь Кудашев. А Джон Уорд писал: «Монгольские князья просили Семёнова стать их императором, и если он выберет эту дорожку, вихрь промчится по соседним землям».
Для идеалиста Унгерна создание «Великой Монголии» должно было стать первым шагом на пути к обновлению Китая, России и Европы, но прагматик Семёнов рассматривал её не как эпицентр грядущих вселенских потрясений, а как запасной вариант собственной судьбы. Там он мог бы обрести пожизненную, а при удачном стечении обстоятельств – и наследственную власть восточного владыки. Эта мысль то укреплялась в нём, то слабела. Её подъёмы и спады зависели от хода Гражданской войны в Сибири. Семёнов отлично сознавал, что кто бы ни победил, Колчак или красные, в Чите ему не усидеть, и едва чаши весов начинали склоняться на ту или иную сторону, вновь обращался к спасительному монгольскому варианту. Не случайно первый разговор с Гордеевым о создании «особого государства» он завёл после поражения, нанесённого ему Лазо. Кажется, в минуты усталости и отчаяния он мысленно обращается к Монголии как к месту, где даже власть может быть сопряжена с удовольствием и покоем, чего нет и не будет в России при любом исходе войны.
В разгар конфликта с Колчаком он отправил секретную миссию в Лхасу – с задачей прозондировать отношение Далай-ламы XIII к проекту нового государства. Одновременно под его покровительством и вопреки протестам ряда офицеров и генералов, полагавших, что атаман «играет с огнём степного сепаратизма», в Троицкосавске открылся Бурятский съезд. Тон на нём задавали панмонголисты Ринчино и Даши Сампилун.
В качестве гостя из Халхи присутствовал князь Бабу-гун. Целью его поездки было давнее стремление ургинского ламства получить «изваяние Цзян-Дон-Чжоу» – бронзовую статую Будды Шакьямуни, по преданию, чудесным образом отлитую с самого Гаутамы[56]56
Христианский аналог – плат Вероники. Вся история рассказана Волосевичем в одной из его корреспонденций из Урги.
[Закрыть]; при подавлении «боксёрского» восстания в 1900 году казаки-буряты вывезли её из Пекина в Забайкалье. Съезд согласился передать святыню одному из монгольских монастырей – при условии, что селегинским бурятам, страдавшим от нехватки пастбищ, разрешено будет переселяться в Халху. Бабу-гун привёз это условие в Ургу, где сразу угодил в опалу и был подвергнут допросу. Причина состояла в том, что съезд в Троицкосавске вынес резолюцию в панмонгольском духе.
Панмонголизм зародился в среде европеизированной бурятской интеллигенции, она же его и пропагандировала. Это была чисто светская идеология, ставившая племенное родство выше религиозного единства, и высшее ламство, включая Богдо-гэгэна, справедливо усматривало в ней угрозу своему влиянию, а в перспективе – и власти.
3
В феврале 1919 года Семёнов, этот «блудный сын Московии», как именовал его Джон Уорд, прибывает из Читы в Даурию. Его сопровождает капитан Судзуки, позднее – командир Японской сотни в Азиатской дивизии. К моменту их приезда в Даурии собрались делегаты от всех населённых монголами и бурятами областей, исключая Халху. Правительство Внешней Монголии решило держаться в стороне от панмонгольского движения, более того – отнеслось к нему враждебно, и не только из опасений осложнить без того непростые отношения с Пекином.
При открытии «конференции» атамана избирают её председателем. Заседания продолжаются несколько дней и окружены завесой секретности. Даже близкие Семёнову, но далёкие от этих его планов люди имели весьма смутное представление о том, что же на самом деле происходило в Даурии. Когда через два месяца Колчак направил в Читу специальную «Комиссию по расследованию действий полковника Семёнова и подчинённых ему лиц», выяснить удалось немногое. Все знали только одно, да и то в общих чертах: на Даурской конференции шла речь о создании независимого монгольского государства. Подробности были покрыты мраком или о них предпочитали помалкивать. Зато почти каждый из опрошенных сообщил, что делегаты присвоили Семёнову титул цин-вана, то есть князя 1-й степени или «светлейшего князя», а также подарили ему белого иноходца и шкуру белой выдры-альбиноса, которая, по мнению управляющего Забайкальской областью Семена Таскина, «родится раз в сто лет». Таскин говорил: «Такие подарки делаются самым высоким лицам. Семёнов из выдры носит шапку, и это очень нравится монголам»[57]57
В этой похожей на папаху мохнатой шапке Семёнов запечатлён на самой известной своей фотографии. Скопированная рисовальщиком, она украшала коробку выпускавшихся в Чите папирос «Атаманские».
[Закрыть]. Другие полагали, что это не выдра, а белый бобёр – «ценный талисман для охраны в ратных подвигах».
Выдра и сшитая из неё шапка мало интересовали колчаковских следователей. Прежде всего их занимал вопрос о границах будущего государства, и здесь подтвердились худшие опасения Омска, позволявшие говорить о государственной измене атамана. Было установлено, что он планирует передать «Великой Монголии» часть русского Забайкалья.
В самой Чите это было известно немногим, но китайцы, пользуясь веками отработанной системой подкупа монгольских князей, раскрыли все детали. Имя Семёнова появилось на первых полосах пекинских газет. О «храбром казаке-буряте», решившем возродить ядро империи Чингисхана, писали в Европе и в США. Крохи этой информации подбирали сибирские журналисты, однако в Омске о событиях знали не по газетам. Донесения стекались отовсюду – из Пекина, из Хайдара, даже из Урги, куда для сбора сведений о панмонгольском движении был командирован поручик Борис Волков. Колчаковский агент в Чите, полковник Зубковский, сумел раздобыть и переслать в Омск все секретные материалы Даурской конференции.
На ней было создано Временное правительство «Великой Монголии» во главе с влиятельным перерожденцем Нэйсэ-гэгэном. Административное устройство будущего государства определили как федерацию в составе Внешней и Внутренней Монголии, Барги и Бурятии. Дебатировалось присоединение единоверного Тибета, но тут Семёнов, опасаясь реакции англичан, проявил здравомыслие. Столицей назначили Хайлар, а поскольку он пока находился под контролем китайской администрации, резиденцией правительства временно утвердили Даурию. Семёнова, чтобы узаконить его статус, назначили правительственным советником 1-го ранга.
Нэйсэ-гэгэна избрали премьер-министром, хотя в принципе «Великая Монголия» должна была стать монархией – не абсолютной, как Халха, а конституционной. Вопрос о форме законодательного органа не обсуждался. Верховную власть решили предложить ургинскому Богдо-гэгэну VIII, он же Богдо-хан, а если он откажется признать Даурское правительство, объявить ему войну, созвать ополчение и идти походом на Ургу. Кто тогда займёт престол и сохранится ли он вообще, осталось неясным. С выработкой конституции Семёнов не спешил, у него были дела поважнее.
Дебаты продолжились в Чите, куда перевезли самых надёжных делегатов. Те одобрили предъявленные им здесь флаг и герб «Великой Монголии», а также написанные Даши Сампилуном и Ринчино «Декларацию независимости» и послание Нэйсэ-гэгэна президенту США Вильсону. Некий полковник Беньковский взялся доставить всё это в Париж, на Версальскую конференцию. Ему предстояло по железной дороге ехать до Владивостока, а оттуда пароходом плыть во Францию. Получив солидную сумму денег на дорожные расходы, в Чите он сел на поезд, после чего никто о нём больше не слыхал. Похоже, атрибуты монгольской государственности до Парижа так и не добрались.
Весной 1919 года колчаковские генералы ведут бои на Волге, в низовьях Камы, на Южном Урале. Чтобы опередить Деникина и первыми войти в Белокаменную, юные омские командармы ещё зимой вынудили адмирала принять гибельный, как оказалось, план прямого наступления на Москву через Пермь и Вятку. Пермь взята штурмом; 1-я Сибирская армия 26-летнего генерала Анатолия Пепеляева, три месяца назад помешавшего Семёнову торжественно вступить в Читу, устремляется дальше на запад, но её останавливают в районе Глазова. Наступление других колчаковских армий пока не выдохлось, однако штабные карты всё гуще покрываются красной сыпью крестьянских восстаний. Ставка умоляет Семёнова двинуть хотя бы тысячу штыков на Минусинский фронт, против партизан Кравченко. Атаман отвечает отказом. Сразу после конференций в Чите и в Даурии он на бронепоезде, в оборудованном для него блиндированном салон-вагоне отбывает во Владивосток.
Первый визит нанесён полковнику Барроу, начальнику разведки американского экспедиционного корпуса. Семёнов вручает ему копии тех бумаг, которые Беньковский повёз Вильсону, но Омск уже заявил протест, оба документа без рассмотрения возвращаются к атаману. Недавно ему было обещано, что Япония первой признает новое государство, но теперь там трубят отбой, Семёнову ясно дают понять, что монгольской делегации нечего делать во Владивостоке, всё равно в Токио её не пустят. Консулы Англии и Франции отказываются даже обсуждать вопрос о свидании с Нэйсэ-гэгэном и его министрами. Грандиозные планы рушатся буквально в одночасье.








