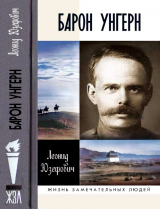
Текст книги "Барон Унгерн: Самодержец пустыни"
Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Барон Унгерн: Самодержец пустыни



Полки стояли как изваянные,
молчаливые и такие тяжёлые,
что земля медленно уходила под
ними вниз. Но не было знамён
с полками... Над равниной всходило
второе солнце. Оно шло невысоко.
Ослеплённые полки закрыли глаза,
узнав в этом солнце все свои знамёна.
Всеволод Вишневский. 1930 год
Но Наполеона у нас не предвидится.
Да и где же наша Корсика? Грузия,
Армения? Монголия?
Максимилиан Волошин. 1918 год
В каждом поколении есть души
счастливые или проклятые,
рождённые неприкаянными, лишь
наполовину принадлежащими семье,
месту, нации, расе.
Салман Рушди. 1999 год
Смысла железные двери величиной в пядь
Открываются ключами примеров величиной в локоть.
Гунтан Банби Донме. XVII век
ОТ АВТОРА
Летом 1971 года, ровно через полвека после того, как остзейский барон, русский генерал, монгольский князь и муж китайской принцессы Роман Фёдорович Унгерн-Штернберг был взят в плен и расстрелян, я услышал о том, что он, оказывается, до сих пор жив. Мне рассказал об этом пастух Больжи из бурятского улуса Эрхирик неподалёку от Улан-Удэ. Там наша мотострелковая рота с приданным ей взводом «пятьдесятчетвёрок» проводила выездные тактические занятия. Мы отрабатывали приёмы танкового десанта. Двумя годами раньше, во время боёв на Даманском, китайцы из ручных гранатомётов поджигали двигавшиеся на них танки и теперь в порядке эксперимента на нас обкатывали новую тактику, не отражённую в полевом уставе. Мы должны были идти в атаку не вслед за танками, как обычно, не под защитой их брони, а впереди, беззащитные, чтобы расчищать им путь, автоматным огнём уничтожая китайских гранатомётчиков. Я в ту пору носил лейтенантские погоны, так что о разумности самой идеи судить не мне. К счастью, ни нам, ни кому-то другому не пришлось на деле проверить её эффективность. Китайскому театру военных действий не суждено было открыться, но мы тогда этого ещё не знали.
В улусе имелась небольшая откормочная ферма. Больжи состоял при ней пастухом и каждое утро выгонял телят к речке, вблизи которой мы занимались. Маленький, как и его монгольская лошадка, издали он напоминал ребёнка верхом на пони, хотя ему было, думаю, никак не меньше пятидесяти, из-под чёрной шляпы с узкими полями виднелся густой жёсткий бобрик седины на затылке. Шляпу и брезентовый плащ Больжи не снимал даже днём, в самую жару.
Иногда, пока телята паслись у реки, он оставлял их и выходил к дороге полюбоваться нашими манёврами. Однажды я принёс ему котелок с супом. Угощение было охотно принято. В котелке над перловой жижей с ломтиками картофеля возвышалась баранья кость в красноватых разводах казённого жира. Первым делом Больжи объел с неё мясо и лишь потом взялся за ложку, попутно объяснив мне, почему военный человек должен есть суп именно в такой последовательности: «Вдруг бой? Бах-бах! Всё бросай, вперёд! А ты самое главное не съел». По тону чувствовалось, что это правило выведено из его личного опыта, а не взято в сокровищнице народной мудрости, откуда он потом щедро черпал другие свои советы.
В следующие дни, если Больжи не показывался у дороги во время обеденного перерыва, я отправлялся к нему сам. Обычно он сидел на берегу, но не лицом к реке, как сел бы любой европеец, а спиной. При этом в глазах его заметно было выражение, с каким мы смотрим на текучую воду или языки огня в костре, словно степь с дрожащими над ней струями раскалённого воздуха казалась ему наполненной тем же таинственным вечным движением, волнующим и одновременно убаюкивающим. Под рукой у него всегда были две вещи – термос с чаем и выпущенный местным издательством роман В. Яна «Чингис-хан» в переводе на бурятский язык.
Я не помню, о чём мы говорили, когда Больжи вдруг сказал, что хочет подарить мне сберегающий от пуль амулет-гау, который в настоящем бою нужно будет положить в нагрудный карман гимнастёрки или повесить на шею. Впрочем, я так его и не получил. Обещание не стоило принимать всерьёз; оно было не более чем способом выразить мне дружеские чувства, что не накладывало на говорившего никаких обязательств. Однако назвать это заведомой ложью я бы не рискнул. Для Больжи намерение важно было само по себе, задуманное доброе дело не обращалось от неисполнения в свою противоположность и не ложилось грехом на душу. Просто в тот момент ему захотелось сказать мне что-нибудь приятное, а он не придумал ничего лучшего, как посулить этот амулет.
Подчёркивая не столько ценность подарка, сколько значение минуты, он сообщил мне, что такой же гау носил на себе барон Унгерн, поэтому его не могли убить. Я удивился: как же не могли, если расстреляли? В ответ сказано было как о чём-то само собой разумеющемся и всем давно известном: нет, он жив, живёт в Америке. Затем с несколько меньшей степенью уверенности Больжи добавил, что Унгерн – родной брат Мао Цзэдуна, «вот почему Америка решила дружить с Китаем».
Имелись в виду планы Вашингтона, до сих пор считавшего Тайвань единственным китайским государством, признать КНР и установить с ней дипломатические отношения. Это можно было истолковать как капитуляцию Белого дома перед реалиями эпохи, но с нашей стороны законного злорадства не наблюдалось. Газеты скупо и без каких-либо комментариев, что тогда случалось нечасто, писали о предполагаемых поставках в Китай американской военной техники. Популярный анекдот о том, как в китайском Генеральном штабе обсуждают план наступления на северного соседа («Сначала пустим миллион, потом ещё миллион, потом танки». – «Как? Все сразу?» – «Нет, сперва один, после – другой»), грозил утратить свою актуальность. Впрочем, и без того все опасались фанатизма китайских солдат. Говорили, что ни на Даманском, ни под Семипалатинском они не сдавались в плен. Об этом рассказывали со смесью уважения и собственного превосходства – как о чём-то таком, чем мы тоже могли бы обладать и обладали когда-то, но отбросили во имя новых, высших ценностей. Очень похоже Больжи рассуждал о шамане из соседнего улуса. За ним безусловно признавались определённые способности, не доступные ламам из Иволгинского дацана, в то же время сам факт их существования не возвышал этого человека, напротив – отодвигал его далеко вниз по социальной лестнице.
Говорили, что китайцы стреляют из АКМ с точностью снайперской винтовки, что они необычайно выносливы, что на дневном рационе, состоящем из горсточки риса, пехотинцы преодолевают за сутки чуть ли не по сотне километров. По слухам, территория к северу от Пекина изрезана бесчисленными линиями траншей, причём подземные бункеры так велики, что вмещают целые батальоны, и так тщательно замаскированы, что мы будем оставлять их у себя за спиной и постоянно драться в окружении. Успокаивали только рассказы о нашем секретном оружии для борьбы с миллионными фанатичными толпами, о превращённых в неприступные крепости пограничных сопках, где под слоем дёрна и зарослями багульника скрыты в бетонных отсеках смертоносные установки с ласковыми, как у тайфунов, именами («Василёк»). Впрочем, толком никто ничего не знал. На последних полосах газет Мао Цзэдун фигурировал как персонаж одного бесконечного анекдота, между тем в Забайкалье перебрасывались мотострелковые и танковые дивизии из упразднённого Одесского военного округа.
Из китайских торговцев, содержателей номеров, искателей женьшеня и огородников, которые наводнили Сибирь в начале XX столетия, из сотен тысяч голодных землекопов послевоенных лет нигде не осталось ни души. Они исчезли как-то вдруг, все разом; уехали, побросав своих русских жён, повинуясь не доступному нашим ушам, как ультразвук, далёкому и властному зову. Казалось, шпионить было некому, тем не менее мы почему-то были убеждены, что в Пекине знают о нас всё. Некоторые считали шпионами бурят и монголов или подозревали в них переодетых китайцев. Когда я прибыл в часть по направлению из штаба округа, дежурный офицер сказал мне: «Ну, брат, повезло тебе. У нас такой полк, такой полк! Сам Мао Цзэдун всех наших офицеров знает поимённо». Самое смешное, что я этому поверил.
Поверить, что Унгерн и Мао Цзэдун – родные братья, при всей моей тогдашней наивности я не мог, но волновала сама возможность связать их друг с другом, а следовательно, и с самим собой, пребывающим в том же географическом пространстве. Лишь позднее я понял, что Больжи вспомнил про Унгерна не случайно. В то время должны были ожить старые легенды о нём и появиться новые. В монгольских и забайкальских степях никогда не забывали его имени, и что бы ни говорилось тогда и потом о причинах нашего конфликта с Китаем, в иррациональной атмосфере этого противостояния безумный барон просто не мог не воскреснуть.
К тому же для него это было не впервые. В Монголии он стал героем не казённого, а настоящего мифа, существом почти сверхъестественным, способным совершать невозможное, умирать и возрождаться. Да и к северу от эфемерной государственной границы между СССР и МНР невероятные истории о его чудесном спасении рассказывали задолго до моей встречи с Больжи. Наступал подходящий момент, и он вставал из своей безвестной могилы в Новосибирске, давно затерянной под фундаментами городских новостроек.
Унгерн – фигура локальная, если судить по арене и результатам его деятельности, порождение конкретного времени и места. Однако если оценивать его по идеям, имевшим мало общего с идеологией Белого движения; если учитывать, что его планы простирались до переустройства всего существующего миропорядка, а средства соответствовали целям, это явление совсем иного масштаба.
Одним из первых в XX столетии он прошёл тот древний путь, на котором странствующий рыцарь неизбежно становится бродячим убийцей, мечтатель – палачом, мистик – доктринёром. На этом пути человек, стремящийся вернуть на землю золотой век, возвращает даже не медный, а каменный.
Впрочем, ни в эту, ни в любую другую схему Унгерн целиком не укладывается. В нём можно увидеть фанатичного борца с большевизмом, евразийца в седле, бунтаря эпохи модерна, провозвестника грядущих глобальных столкновений Востока и Запада, предтечу фашизма, создателя одной из кровавых утопий XX века, кондотьера-философа или самоучку, опьянённого грубыми вытяжками великих идей, рыцаря традиции или одного из тех мелких тиранов, что вырастают на развалинах великих империй, но под каким бы углом ни смотреть, остаётся нечто ускользающее от самого пристального взгляда. Фигура Унгерна до сих пор окружена мифами и кажется загадочной, но его тайна скрыта не столько в нём, сколько в нас самих, мечущихся между желанием восхищаться героем и чувством вины перед его жертвами; между надеждой на то, что добро приходит в мир путями зла, и нашим опытом, говорящим о тщетности этой надежды; между утраченной верой в человека и преклонением перед величием его дел; наконец, между неприятием нового мирового порядка и пугающим ощущением близости архаических стихий, в любой момент готовых прорвать тонкий слой современной цивилизации. Есть известный соблазн в балансе на грани восторга, страха и отвращения; отсюда, может быть, наш острый и болезненный интерес к этому человеку.
«СТРЕЛА В КОЛЧАНЕ БОЖЬЕМ»
1
В 1893 году крещёный бурят и практикующий тибетский врач Пётр Бадмаев подал своему крёстному отцу Александру III докладную записку под выразительным названием: «О присоединении к России Монголии, Тибета и Китая». Он предсказывал, что маньчжурская династия скоро будет свергнута, дни её сочтены, и советовал уже сейчас начать планомерную работу по утверждению в Срединной империи русского влияния, не то неизбежной после падения Цинов анархией воспользуются западные державы. Бадмаев предлагал тайно вооружить монголов, подкупить и привлечь на свою сторону ламство, занять ряд стратегических пунктов типа Ланьчжоу, наконец, организовать депутацию из Пекина, которая попросит русского государя принять Китай заодно с Тибетом и Монголией в своё подданство. «Европейцам пока ещё не известно, что для китайцев безразлично, кто бы ими ни управляй, и что они совершенно равнодушны, к какой бы национальности ни принадлежала династия, которой они покоряются без особенного сопротивления», – уверял царя Бадмаев.
Подобные идеи выдвигались и раньше. Ещё Пржевальский писал об отсутствии у китайцев склонности к военному делу и считал возможным быстро завоевать весь Китай; по его мнению, для этого потребуется армия немногим большая, чем имели Кортес и Писарро при покорении империй ацтеков и инков. Отчёты Пржевальского предназначались для Военного министерства и до Александра III, по-видимому, не доходили, иначе на сопроводительной записке Витте, представившего ему бадмаевский проект, он не оставил бы резолюцию: «Всё это так ново, необыкновенно и фантастично, что с трудом верится в возможность успеха».
Тем не менее Бадмаев получил на расходы два миллиона рублей золотом и выехал в Читу, где первым делом выстроил себе двухэтажный каменный дом[1]1
В 1918 году этот особняк заняла семёновская контрразведка, превратив его в один из самых страшных застенков. – Здесь и далее примечания автора.
[Закрыть] в центре города. Из Читы он совершил несколько поездок в Монголию и Пекин и вернулся в Петербург лишь через три года, когда вступивший на престол Николай II отказал ему в новых субсидиях. Никаких ощутимых результатов его деятельность не принесла, но будущий вектор имперской политики Бадмаев предугадал верно. Россия утвердилась в Маньчжурии, была построена Китайско-Восточная железная дорога, возник Харбин, Внешняя Монголия стала зоной русской экономической экспансии. В Тибет, который Бадмаев называл «ключом Азии», с секретными миссиями направлялись казачьи офицеры из бурят, и англичане, в 1904 году войдя в Лхасу, искали там несуществующие склады с русскими трёхлинейками.
А за четыре года до того, как бадмаевская записка легла на стол Александра III, Владимир Соловьёв, будучи в Париже, попал на заседание Географического общества. Среди однообразной публики в серых костюмах его внимание привлёк человек в ярком шёлковом халате; это был китайский военный агент, как называли тогда военных атташе, генерал Чэнь Цзитун (у Соловьёва – Чен Китонг). Вместе со всеми Соловьёв «смеялся остротам жёлтого генерала и дивился чистоте и бойкости его французской речи». Не сразу он понял, что перед ним представитель не только чуждого, но и враждебного мира. «Вы истощаетесь в непрерывных опытах, а мы воспользуемся плодами этих опытов для своего усиления, – передаёт Соловьёв смысл его обращённых к европейцам предостережений. – Мы радуемся вашему прогрессу, но принимать в нём участие у нас нет ни надобности, ни охоты: вы сами приготовляете средства, которые мы употребим для того, чтобы покорить вас».
Соловьёв не подозревал, что такого рода заявления были рутинным приёмом китайской дипломатии тех лет. Делались они с целью получить финансовые займы от западных стран, для чего полезным считалось немного их попугать. В европейских штабах прекрасно знали, что Поднебесная империя безнадёжно дряхлеет, что её армия вооружена фузеями и алебардами, что лишь магические пушки, нарисованные на стенах крепостей, призваны защитить их от огня современной артиллерии, поэтому Чэнь Цзитун адресовал свою речь не военным, а куда более впечатлительной публике, к тому же способной повлиять на общественное мнение. Ожидалось, что в итоге правительство Франции предоставит Китаю желанный кредит, дабы заполучить могущественного в будущем союзника.
Женатый на француженке Чэнь Цзитун, автор книг и статей во французской прессе, прекрасно чувствовал дух времени и строил свои расчёты не на пустом месте. Соловьёв, например, с юности был одержим мыслью о восточной угрозе, причём, по его словам, тут он «не был одинок». Это была общеевропейская фобия, а для тогдашних интеллектуалов – ещё и метафора слабости духовно скудеющего Запада[2]2
Недаром во время Гражданской войны китайцам отводилась роль чуть ли не главных союзников евреев в деле разрушения российской государственности, что плохо соотносилось с их реальной численностью в Красной армии.
[Закрыть], но скоро у Соловьёва появился единомышленник иного ранга: Вильгельм И, обеспокоенный растущей военной мощью Японии, начал муссировать тему «жёлтой опасности» в переписке с Николаем II. «Двадцать-тридцать миллионов обученных китайцев при поддержке '/2 дюжины японских дивизий и под командой пылких, неудержимо ненавидящих христиан японских офицеров – вот будущее, которое мы должны предвидеть не без душевного волнения», – писал царю кайзер.
В 1895 году он разослал государственным деятелям и выдающимся личностям Европы, среди них Николаю II, литографическое воспроизведение картины, иллюстрирующей его опасения. Это полотно Вильгельм II выдавал за собственное, хотя сам он лишь набросал эскиз; настоящим автором был художник Герман Кнакфус. На картине изображена женская фигура в античном шлеме, символизирующая Германию, за ней теснятся аллегории других стран Европы, а перед ними, в вышине – восседающий на драконе Будда в окружении грозовых облаков. Подпись гласила: «Европейские народы, храните ваши самые драгоценные блага».
Вся эта риторика маскировала колониальные интересы Германии в Китае, но имела и другую цель. Убеждая царя, что миссия России – стать защитницей «креста и старой европейской культуры против вторжения монголов и буддизма», кайзер хотел отвлечь союзницу Парижа восточными авантюрами. Соловьёв понятия не имел, что параллельно Вильгельм II побуждал Японию к войне с Россией, обещая ей свой благожелательный нейтралитет. Напряжённое «ожидание исторической катастрофы на Дальнем Востоке» для Соловьёва стало доминантой последних лет жизни. Он искренне верил, что перед лицом общей для всех европейских народов опасности наступит примирение христианских конфессий, именно поэтому панмонголизм – «имя дико» – «ласкал» его слух.
Из книги французских монахов-лазаристов Гюка и Габе, в 40-х годах XIX века побывавших в Тибете, Соловьёв почерпнул сведения о тайном «братстве или ордене келанов» (от тибетского колон, как называли главных советников далай-ламы) с их грандиозными религиозно-политическими замыслами. Они якобы стремились «завладеть верховной властью в Тибете, потом в Китае, а затем посредством китайских и монгольских вооружённых сил покорить великое царство Оросов (Россию. – Л. Ю.) и весь мир, и воцарить повсюду истинную веру перед пришествием Будды Майтрейи». Имелось в виду входящее в систему Калачакра пророчество об эсхатологической войне Шамбалы с неверными, но Соловьёв, подставив на место «келанов» реальных японцев («вождей восточных островов»), в 1900 году, в «Краткой повести об Антихристе», с впечатляющей детальностью описал будущее нашествие азиатских полчищ на Европу.
Предыстория такова: «Узнав из газет и из исторических учебников о существовании на Западе панэллинизма, пангерманизма, панславизма, панисламизма, они (японцы. – Л.Ю.) провозгласили великую идею панмонголизма, т. е. собрания воедино, под своим главенством, всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, т. е. европейцев»[3]3
Впоследствии значение слова «панмонголизм» сузилось. Так стали называть политическое течение, ставящее целью объединить в одном государстве всех монголов и бурят, разделённых между собственно Монголией, Китаем и Россией. То, что имел в виду Соловьёв, обозначалось термином «паназиатизм».
[Закрыть]. Эта сугубо книжная идеология в итоге, по Соловьёву, становится роковой для Европы, откуда она пришла в Японию. Пророчество Чэнь Цзитуна сбылось, хотя и в несколько ином смысле – Запад выковал себе на погибель оружие не материальное, а идейное.
Отныне события развиваются стремительно, в течение жизни одного-двух поколений. После занятия Кореи, следом – Пекина, где на престоле свергнутых Цинов утверждается один из наследников микадо, японец по отцу и китаец по матери, новая сверхдержава приступает к завоеванию Азии, а затем и всего мира. Уничтожены архаические государственные структуры Поднебесной империи, её армия реформирована японскими инструкторами. Пополненная тибетцами и монголами, она первый удар наносит на юго-восток: англичане вытесняются из Бирмы, французы – из Тонкина и Сиама. Заверив русское правительство, будто собранная в Китайском Туркестане четырёхмиллионная армия предназначена для похода на Индию, богдыхан вторгается в Центральную Азию, занимает Сибирь, движется через Урал. Навстречу ему наскоро мобилизованные дивизии спешат из Польши, Санкт-Петербурга и Финляндии, но при отсутствии предварительного плана войны и огромном численном превосходстве неприятеля «боевые достоинства русских войск позволяют им только гибнуть с честью». Корпуса истребляются один за другим в ожесточённых и безнадёжных боях. После победы богдыхан оставляет часть сил в России «для преследования размножившихся партизанских отрядов», а сам тремя армиями переходит границы Германии. Одна из них терпит поражение, но одновременно «во Франции берёт верх партия запоздалого реванша, и скоро в тылу у немцев оказывается миллион вражьих штыков». Очутившись «между молотом и наковальней», Берлин капитулирует, «ликующие французы братаются с желтолицыми», теряя всякое представление о дисциплине. Следует приказ перерезать не нужных теперь легкомысленных союзников, что однажды ночью «исполняется с китайской аккуратностью». В Париже побеждает восстание рабочих, «столица западной культуры радостно отворяет ворота владыке Востока».
В результате вся Европа, включая Великобританию, сумевшую откупиться от ужасов нашествия миллиардом фунтов, за ней – Америка и Австралия, куда снаряжаются морские экспедиции, признают вассальную зависимость от богдыхана. Что касается мусульманского мира, он в этих катаклизмах попросту отсутствует. Судьбы ислама Соловьёва не занимали, ему казалось, что эта религия, как и народы, её исповедующие, целиком принадлежит прошлому.
Во время Русско-японской войны этот сюжет стал широко известен, потом о нём надолго забыли, но ещё позже, когда никакая фантастика не могла соперничать с реальностью Гражданской войны в Сибири и японские дивизии дошли до Байкала, вспомнили вновь.








