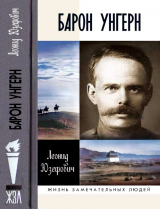
Текст книги "Барон Унгерн: Самодержец пустыни"
Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Перебили их в 1924 году. Народное правительство специальным указом запретило относить мёртвых в сопки, но революционный указ, естественно, игнорировался, и тогда, как с восторгом сообщал заезжий московский журналист, «в назначенный день на улицы вышли все ревсомольцы, все партийцы, все передовые монголы, и это была собачья Варфоломеевская ночь».
2
Осенью 1919 года, когда разгром Колчака перестал быть секретом даже для монголов, к дипломатическому агенту Орлову, представлявшему здесь Омское правительство, обратилась группа русофильски настроенных монгольских чиновников. Они попросили у него совета, кого предпочесть в качестве сюзерена – красную Москву или Пекин. Орлов, разумеется, рекомендовал идти под китайцев. Впрочем, и без его подсказки к этому варианту склонялись многие князья и ламы, группировавшиеся вокруг министра иностранных дел Цэрендоржа. Вскоре генерал Сюй Шучжэн (Маленький Сюй, как называли его в отличие от Большого Сюя – китайского президента Сюй Шичана) беспрепятственно вошёл в Ургу с 12-тысячной армией и целым штатом чиновников, но повёл себя совсем не так, как ожидалось.
Он установил в Монголии режим военной диктатуры, ликвидировал все правительственные учреждения, разоружил созданную с помощью русских инструкторов немногочисленную монгольскую армию, а Богдо-гэгэна вынудил отречься от престола. Процедура отречения была публичной и сопровождалась унизительным церемониалом: низложенный монарх должен был трижды поклониться портрету китайского президента. Само слово «Монголия», чтобы не вызывать исторических ассоциаций, пропало с карты республиканского Китая, её территория превратилась в безликие «Северо-Западные провинции».
Перед русскими Сюй Шучжэн щеголял европейскими манерами и у себя дома вечерами бренчал на рояле, нарочно оставляя окна открытыми. Его чиновники организовали что-то вроде клуба для столичного бомонда всех национальностей и безуспешно разыскивали по городу бильярд, который казался им непременным атрибутом такого рода заведений. Для монголов устраивались праздники, одновременно во все крупные центры Халхи были введены войска и восстановлена маньчжурская система управления, разве что чиновники не имели теперь ни кос, ни круглых шапочек с разного цвета шариками и назывались не фудупюнями, как при Цинах, а политическими комиссарами.
В Пекине аннулировали все прежние договоры с Россией об автономии Монголии. Тысячи переселенцев из охваченных неурожаем районов Китая двинулись в Халху, китайские купцы и ростовщики извлекли на свет старые долговые расписки. Необходимость платить долги, да ещё с набежавшими за восемь лет процентами вызвала панику. Князья, сами же пригласившие китайцев для защиты от Семёнова и большевиков, были разочарованы и возмущены. Богдо-гэгэн находился под домашним арестом, многие влиятельные монголы, вплоть до главного китаефила Цэрендоржа, робко протестовавшего против новых порядков, угодили в тюрьму.
В Пекин потоком шли жалобы, наконец Сюй Шучжэн был отозван; вместо него вновь назначили дипломатичного Чэнь И. Пока он не прибыл в столицу, всеми делами заправлял кавалерийский генерал Го Сунлин – «ражий детина с замашками хунхуза», как характеризовал его Першин. Он «являлся на обеды, устраиваемые русской колонией, в полной форме, в кепи с белым султаном и в перчатках на два-три размера больше, чем нужно; сидел, обливаясь потом, не умея пользоваться ножом и вилкой, зато в конце обеда яростно накидывался на кофе и ликёры».
После попытки Унгерна захватить Ургу обеды с участием китайских генералов навсегда ушли в прошлое, всех русских считали сочувствующими барону. Подверглась разгрому консульская церковь, до полутора сотен человек оказалось в тюрьме. Репрессии против монголов приняли ещё более массовый характер. Были разграблены пригородные монастыри, где прошли молебны о даровании Унгерну победы, ожесточение дошло до того, что солдаты врывались в храмы во время богослужения и открывали пальбу. В окрестностях столицы у кочевников реквизировали верблюдов, лошадей и скот в небывалых прежде масштабах; в Урге мародёрствовала солдатня. Добропорядочные китайцы из «фирмовых служащих» говорили Першину: «Из хорошего железа гвозди не делают, делают из худого. Доброго человека в солдаты не берут, берут худого».
















Стоял бесснежный холодный ноябрь с резкими ветрами. Исчезли недавно ещё окружавшие город юрты, монголы откочёвывали подальше от столицы и угоняли стада. Обезлюдел Захадыр, ламы не выходили из монастырей. Въезды в город охранялись войсками, жизнь замерла, торговля прекратилась.
Чу Лицзян провёл мобилизацию, поставив под ружьё до трёх тысяч китайских торговцев и ремесленников. По пустынным улицам, с которых пропали даже неизменные старухи с корзинами и деревянными вилами, собиравшие сухой навоз для очага, в разных направлениях проходили воинские колонны, проносились автомобили, разъезжали конные патрули у присутственных мест на площади Поклонений целыми днями маршировали новобранцы. Однажды здесь же устроили артиллерийские манёвры. Солдаты ловко отцепляли маленькие горные пушечки, выкатывали их на позиции, заряжали, целились. Проходивший мимо Першин отметил, что вся амуниция, сёдла, механизмы были в прекрасном состоянии, «франтоватая кожа приборов и чехлов блистала новизной». Раньше подобное зрелище привлекло бы множество зевак, особенно монголов с их простодушным любопытством, но сейчас вокруг не было ни души. Все прятались по домам, город затаился в ожидании близких и грозных перемен.
«Лишь изредка, – вспоминал Першин, – из монастырских храмов доносились ревущие протяжные звуки священных труб, зловеще раздававшиеся в морозном воздухе, но скоро и трубы умолкли. Военные власти запретили ламам совершать моления в храмах по той причине, что громкие и стонущие трубные звуки наводят ужас и смущают солдат. Солдаты говорили, что ламы своими молениями накликают всякие беды и несчастья на гарнизон, ибо им послушны злые духи и демоны, покровители этих мест. Как ни поясняли ламы, что они молятся добрым божествам, пришлось подчиниться»[90]90
Кажется странным, что китайцы отдали такой приказ, способный ещё больше настроить против них монголов, но для последователей Сунь Ятсена с его декларируемым атеизмом в этом нет ничего экстраординарного Рассказ Першина подтверждается донесением красной разведки «Религиозные обряды в храмах не исполняются, использование духовых инструментов (сан, хунчерек, бурэ, бишхур) запрещено»
[Закрыть].
Караулы никого не выпускали из Урги, но за деньги можно было раздобыть всё, в том числе разрешение на выезд. Те из русских, кто имел средства, уезжали в Китай по относительно безопасному Калганскому тракту. Более удобное направление на Хайлар, в зону КВЖД, оседлал Унгерн. Русских беженцев он мобилизовывал, считая, что их долг – воевать с красными, не важно – с гаминами или большевиками. Уклонявшиеся от исполнения этого долга рассматривались как дезертиры и по законам военного времени подлежали смерти.
Китайские колонисты, пробиравшиеся в Ургу, под защиту гарнизона, рассказывали, что войско барона постоянно растёт. Никто не верил, что он действует в одиночку, распространялись самые невероятные слухи о его покровителях. Среди них называли даже Врангеля, и после первого штурма столицы Чу Лицзян по телеграфу запросил подкреплений из Пекина на том основании, что Врангель якобы отправил на помощь Унгерну армию в 15 тысяч штыков. Видимо, поводом для этих опасений стали сообщения об эвакуации Крыма, а также мнимые намерения каппелевцев, считавших себя частью Русской армии Врангеля, из Забайкалья идти в Монголию.
РОЖДЕНИЕ УЖАСА
1
Врангель уже плыл из Севастополя в Турцию, когда Унгерн, отступив от Урги, вновь расположился лагерем на Тэрельдже. Преследовать его Чу Лицзян не решился, но настроение в дивизии было подавленное. По словам Торновского, «нравственный ущерб», причинённый неудачным штурмом, усугубился «экономическим кризисом».
Азиатской конной дивизии грозила реальная опасность превратиться в пешую – начался падёж лошадей, не привыкших обходиться без овса. Требовалось заменить забайкальских лошадей местными, но взять их было негде, как и скот для котлов. Монголы угнали табуны и стада подальше от района боевых действий, в округе попадались лишь юрты последних бедняков. «Достаточно было взглянуть на этих исхудалых, почерневших от грязи и дыма кочевников, чтобы понять, что здесь ничего не добудут самые искусные фуражиры», – вспоминал Князев.
Стояли морозы, а раздобыть юрты удалось не сразу. Тёплую одежду сами шили себе из овчины и бычьих шкур по доисторической технологии – используя жилы животных вместо отсутствующих ниток и дратвы. Обувь износилась, нужда заставила изобрести так называемый «вечный сапог»: ногу плотно обтягивали только что снятой, ещё тёплой шкурой, а затем быстро её сшивали. Застывая, шкура принимала форму ноги, сидела мертво и не снималась месяцами.
Мука кончилась, питались только мясом, да и его не хватало. При таком рационе люди ходили полуголодные, многие страдали выпадением прямой кишки. Чай, табак, спички и масса других обиходных мелочей стали объектом вожделения и предметом спекуляции. В победу над китайцами мало кто верил, началось «скрытое брожение», а потом и дезертирство.
В эти недели с Унгерном происходят необратимые перемены. Они отмечены всеми, кто знал его в Даурии. Из сурового, но справедливого начальника, не щадящего себя и требующего от подчинённых той же беззаветной жертвенности, он становится олицетворением первобытного ужаса – человеком, способным выносить приговоры о сожжении заживо и собственноручно пересчитывать отрубленные головы изменников. Теперь окончательно обнажаются патологические стороны его души, до того прикрытые необходимостью считаться хоть с какими-то социальными нормами. Абсолютное одиночество, абсолютная власть, крайняя степень физического и нервного истощения, непривычная трезвость и маниакальная вера в собственную всемирно-историческую миссию, которую он начинает воспринимать как возложенную на него свыше и не доступную пониманию окружающих, рождают в нём сознание своего права быть выше всех моральных законов, не признавать над собой никакого человеческого суда.
До поражения под Ургой он мог подвергать офицеров унизительным наказаниям, иногда расстреливал, но не поднимал на них руку. Отныне офицерские погоны перестают быть защитой от ударов его ташура. Восстановлена система доносительства с целью выявлять потенциальных дезертиров и вообще всех недовольных. Виновные караются с небывалой прежде жестокостью. Даурские застенки возрождены в юрте ординарца барона, хорунжего Бурдуковского по кличке Квазимодо. Он стал главным палачом для «своих», как Сипайло – для чужих.
С Баруна было много побегов, одиночных и групповых, но погоня всегда имела преимущество в скорости, ибо двигалась на сменных, а по Хайларской дороге – на уртонных лошадях. Добраться до Маньчжурии удалось только троим счастливчикам, в их числе капитану Судзуки, командиру Японской сотни. Думали, будто он бежал в Ургу, и Унгерн опасался, что Судзуки раскроет китайцам его секреты, главный из которых состоял в малочисленности Азиатской дивизии, но он обманул преследователей, направившись на восток не кратчайшим путём, а более длинным – по Старокалганскому тракту. Если бы его маршрут угадали верно, Судзуки, как всех беглецов, ожидала смерть.
Некоторые неудачники были выданы осведомителями и погибли прежде, чем сумели осуществить свой замысел. У одного офицера нашли запас лепёшек, что было неоспоримой уликой, доказывающей намерение бежать. Увидев приближающегося к его юрте Бурдуковского, он попытался скрыться, но был пойман, истерзан пытками и расстрелян посреди лагеря.
Самым массовым и трагичным стало бегство сформированной в Акте Офицерской сотни, входившей в полк имени атамана Анненкова. Его временный командир, поручик Царегородцев, сам организовал этот побег. В нём участвовали 15 офицеров и 22 всадника, считавшихся рядовыми, но тоже имевших офицерское звание. Все они раньше служили у Колчака и доверяли друг другу. Доносчиков среди них не нашлось. В назначенный день Царегородцев с вечера выслал большую часть своих людей в конную сторожевую заставу на подступах к лагерю, а потом сам с остальными участниками «заговора» выехал «для проверки заставы». Соединившись, «заговорщики» помчались на восток, имея в запасе целую ночь, чтобы уйти как можно дальше. Узнать о побеге Унгерн мог не раньше утра.
Когда на рассвете ему доложили о случившемся, Князев впервые увидел барона плачущим от бессильной ярости. Впрочем, скоро «глаза его просохли и приняли обычный оттенок холодного колодца, куда страшно заглянуть». Спустя полчаса вдогонку за беглецами поскакали две сотни всадников чахарского князя Найдан-гуна.
Это были те самые чахары, которые вместе с харачинами служили в Даурии как военный «кадр» правительства Нэйсэ-гэгэна. После мятежа Фушенги их перевели в Верхнеудинск, в дивизию генерала Левицкого, позже предательски убитого ими на льду Гусиного озера. Китайцы, столь же вероломно расправившись с Нэйсэ-гэгэном, отправили чахаров сторожить хлебные поля на реке Харе к северу от монгольской столицы, но после боёв под Ургой они рискнули предложить свои услуги бывшему начальнику. Их предводитель Найдан-ван решил, что в создавшейся ситуации барон не станет припоминать им старые грехи, и оказался прав. Унгерн с радостью принял этих профессиональных разбойников, простив им убийство русских офицеров. Ему нужна была туземная конница, а чахарам – возможность под его покровительством грабить китайцев.
После того как Унгерн послал их в погоню за Офицерской сотней, в лагере воцарилось напряжённое ожидание. «Коренные» даурцы жаждали крови «предателей», бывшие колчаковцы «сочувствовали отважным и с замиранием сердца ждали роковой развязки».
О дальнейшем рассказывали по-разному. Ясно только, что по дороге Царегородцев начал отделять от своего отряда небольшие группы, чтобы сбить погоню со следа, и сам вошёл в одну из таких групп, но большая часть его людей, около трёх десятков человек, ещё держались вместе, когда были настигнуты чахарами. По одной версии, те напали на них ночью, во время привала, как то было во время резни на Гусином озере, и перебили их спящих. По другой, более вероятной, сначала угнали лошадей, пасшихся рядом с биваком, а утром, окружив беглецов, издали открыли по ним ружейный огонь. Офицеров было вдесятеро меньше, они заняли круговую оборону на вершине сопки и отстреливались три дня, пока не иссякли патроны. Кто-то, вероятно, покончил с собой, прочие были убиты и обезглавлены. Их головы чахары в кожаных мешках привезли Унгерну в подтверждение того, что задание выполнено.
Эти доказательства были предъявлены ему вечером не то пятого, не то шестого дня после побега. По рассказу Князева, которого трудно заподозрить в желании опорочить любимого начальника, к тому времени уже стемнело, поэтому Унгерн при свете костра внимательно осмотрел каждую из приблизительно тридцати голов, опасаясь, что чахары его обманут и «подсунут фальшивки в корыстных целях». Опознав бывших соратников в лицо, он пересчитал жуткие трофеи, после чего строго по счёту выдал Найдан-гуну обещанную награду. По слухам, чахары получили по десять золотых империалов за голову[91]91
На этом фоне вполне пародийно звучит относящееся к Унгерну высказывание А. Дугина: «Чистота героя в тёмные времена вызывает такое сопротивление дегенеративной среды, что для её обуздания и подчинения приходится использовать экстраординарные средства».
[Закрыть].
Царегородцева догнали и убили в 60 верстах от границы. Все те, кто успел отделиться от главной группы, тоже погибли, живыми привезли троих человек, в том числе поручика Ждановского. Подозревая, что «метастазы заговора пронизали всю дивизию», Унгерн приказал пытать этих троих, чтобы узнать правду. В юрте Бурдуковского с них ремнями срезали кожу, срывали ногти, сажали на раскалённую печь, но ничего не добились и в назидание потенциальным дезертирам повесили в береговых кустах возле проруби на Тэрельдже, где брали воду и поили лошадей. «Утром и вечером прилетало чёрное воронье на труп Ждановского и гулко стучало клювами по мёрзлому телу», – пишет неизвестный унгерновский офицер[92]92
Далее он цитируется как Аноним. Этот офицер впоследствии, видимо, служил у красных, его неопубликованная и неатрибутированная рукопись сохранилась в личном архиве В. И. Юдина, в 1920-х годах – представителя НКИД РСФСР при частях РККА в Монголии и секретаря советского полпредства в Улан-Баторе.
[Закрыть].
Ещё один громкий побег был совершён дивизионным адъютантом, поручиком Ружанским, уже из нового лагеря на Керулене. Он сохранил две карандашные записки барона с какими-то распоряжениями, на которых оставил подписи Унгерна, всё остальное стёр и вписал новый текст: в одной записке предписывалось выдать ему крупную сумму денег, в другой – оказывать всяческое содействие в его командировке в Китай, в Хайлар. Выглядело это достаточно правдоподобно, в то время Унгерн ещё надеялся на помощь Семёнова и постоянно отправлял гонцов в Маньчжурию. Деньги могли предназначаться для закупки боеприпасов или для вербовки казаков и офицеров.
Дерзкая затея Ружанского почти удалась. Он всё продумал и, хорошо зная характер казначея дивизии Бочкарёва, явился к нему поздно вечером. Бочкарёв, очень дороживший своей должностью, побоялся среди ночи беспокоить штаб и выдал деньги – 15 тысяч рублей золотом, однако наутро, терзаемый сомнениями, начал наводить справки. Подлог раскрылся, тут же снарядили погоню в лице есаула Нечаева с четырьмя казаками. Тот предположил, что Ружанский не может миновать расположенный в 30 верстах восточнее по Хайларскому тракту монастырь Бревен-Хийд. Там находился лазарет, при котором служила его жена. Супруги – оба молодые, красивые, из хороших семей – страстно любили друг друга, и на смертельный риск Ружанский пошёл именно из-за жены. Сам он учился в петербургском Технологическом институте, она окончила Смольный. Ружанская была посвящена в замысел мужа и ждала его прибытия, чтобы вместе скакать дальше на восток, но он в темноте то ли сбился с дороги, то ли для безопасности поехал окольным путём, то ли на плохой лошади, с набитыми золотом тяжёлыми сумками, двигался слишком медленно. Нечаев появился в Бревен-Хийде раньше, чем Ружанский, и успел арестовать его жену.
Примчавшийся следом Бурдуковский по приказу Унгерна организовал показательную экзекуцию. Случай был экстраординарный, ужасной стала и кара. Ружанскому перебили ноги – «чтобы не бежал», руки – «чтобы не крал» и за неимением деревьев повесили в проёме ворот китайской усадьбы. Его жену отдали казакам и вообще всем желающим. «Для характеристики нравов, – рассказывает Волков, – упомяну, что один из раненых офицеров, поручик Попов, хорошо знавший Ружанских, также не выдержал и, покинув лазарет, прошёл в юрту, где лежала полуобезумевшая женщина, дабы использовать своё право». Затем Ружанскую привели в чувство, заставили присутствовать при казни мужа, после чего тоже расстреляли. На расстрел Бурдуковский согнал всех служивших в лазарете женщин, дабы они «могли в желательном смысле влиять на помышляющих о побеге мужей».
2
Первая попытка Унгерна штурмовать Ургу отозвалась на судьбах тысяч беженцев из России, рассеянных к югу от границы с Китаем. Волна насилия, выкидывая их из наскоро свитых гнёзд, прокатилась от Синьцзяна до хребтов Наин-Ула на западе, не затронув лишь Маньчжурию. Горели посёлки, шерстомойки, торговые фактории, кое-где власти позволили советским войскам вступить на китайскую территорию, чтобы уничтожить интернированные в приграничье остатки белых армий.
В это время в Бангай-Хурэ на севере Монголии учительствовал бывший колчаковский офицер Дмитрий Алёшин. Он обучал детей здешних русских колонистов письму, счёту, английскому языку, истории и географии. Родители, как водится, платили ему в складчину. За зиму Алёшин думал накопить денег и весной уехать в Харбин, но появление Унгерна сделало эти планы неосуществимыми. Китайцы начали разорять русские поселения в районе Кяхтинского тракта. Они знали, что Унгерн – белый, и этого было довольно, чтобы убивать всех, в ком подозревали белых офицеров. Алёшин скрылся в сопках, пристал к группе таких же, как он сам, ожесточившихся беглецов, которые, в свою очередь, нападали на китайских поселенцев и отставших солдат. Командир этого маленького партизанского отряда собирался вести своих людей к Унгерну, когда их убежище выследили и попросили приюта семеро бежавших от барона дезертиров. От погони они спаслись благодаря тому, что направились не в Маньчжурию, как все, а на север, к русской границе.
От них Алёшин услышал, что в Азиатской дивизии не только пленных красноармейцев, но и своих, виновных подчас в ничтожных проступках, до полусмерти бьют палками; что подозреваемым в намерении бежать льют в ноздри кипяток, поджигают волосы или поджаривают на медленном огне. Сильнее всего на слушателей подействовал рассказ о казни любимца барона, прапорщика Чернова.
Историю его преступления излагали в разных вариантах, но самым правдоподобным кажется следующий. После боёв под Ургой в дивизии было много раненых, и Унгерн решил отправить их в Акшу, в тамошний госпиталь. Оторванный от всего мира, он не знал, что и над Акшей, и над Даурией уже поднят красный флаг. Командовать походным лазаретом из нескольких десятков подвод назначен был бывший полицейский Чернов (по другим сведениям – выпускник консульской школы во Владивостоке). Он прошёл по степи около 500 вёрст и лишь неподалёку от границы выяснил, что в Забайкалье идти нельзя. Решено было возвращаться, но продовольствие кончалось, медикаментов не было, и тех тяжелораненых, кто всё равно не вынес бы дальнейшего перехода, Чернов якобы из милосердия решил отравить. Так, вероятно, излагал дело он сам, но обвинение утверждало, что смертельную дозу яда получили все имевшие при себе какие-то ценности или деньги.
В итоге лазарет обосновался в Бревен-Хийде, и когда в погоне за Ружанским туда прискакал Нечаев, кто-то пожаловался ему на Чернова. Заодно обнаружилось, что он постоянно пьянствует, грабит монголов, обворовывает раненых и держит их на голодном пайке, а также принуждает к сожительству сестёр милосердия. Нечаев доложил обо всём генералу Резухину, который тогда замещал уехавшего на встречу с монгольскими князьями Унгерна; Резухин распорядился посадить Чернова «на лёд», то есть оставить одного на покрытой льдом реке без права развести костёр (обычное наказание для уличённых в пьянстве), и сообщил о случившемся Унгерну. Тот пришёл в ярость, а поскольку преступление действительно было беспрецедентным, дело не ограничилось обычными «бамбуками» с последующим расстрелом или петлёй. Приказано было сжечь негодяя на костре. Экстраординарность наказания Князев оправдывал исключительной тяжестью вины Чернова, но даже он признавал, что эта казнь отодвинула её свидетелей «на 700–800 лет назад, в глубину Средневековья».
На Святки, когда дивизия наслаждалась отдыхом и праздничным рационом, Чернову дали 200 палок, затем подвесили на дереве, а под ним подожгли громадную кучу хвороста, облитого «ханой» – рисовой водкой. Среди его предсмертных проклятий одни расслышали и запомнили одно, другие – другое. Князев облёк их в литературно-чеканную формулу: «Здесь вы меня жжёте, подождите, на том свете я вас пуще буду жечь!» – будто бы крикнул Чернов своим палачам, имея в виду, что всем им, включая его самого, уготован ад, но уж там он как более важный преступник будет мучить менее важных.
Унгерн, как всегда в таких случаях, отсутствовал, но посмотреть на казнь собралась вся дивизия. Скоро, однако, зрителей рядом с костром почти не осталось. По словам Макеева, «жгутовые нервы унгерновцев не выдержали страшной картины». Хотя сам он, похоже, не ушёл до конца, иначе не увидел бы, что едва пламя подобралось к ногам уже потерявшего сознание Чернова, «кожа на ступнях завернулась, как завёртывается подошва, брошенная в огонь, и сало полилось и зашипело на ветках». Такого рода описания редко рождаются с чужих слов.
«Огонь побежал вверх по белью, – рассказывал Анониму очевидец, – волосы поднялись дыбом и вспыхнули. Ноги почернели и становились всё тоньше, туловище покрылось огромным красным пузырём». Наконец верёвки перегорели, и труп рухнул в костёр. Наблюдательный Макеев отметил, что голова Чернова «превратилась в череп негра – курчавый, из чёрного пепла, барашек».
Когда рассказ о казни Чернова был закончен, один из товарищей Алёшина, тоже бывший офицер, сказал: «Этого не может быть!» Сожжение человека на костре вызывало в памяти разве что картинку из книжки об ужасах инквизиции. Даже люди, прошедшие сквозь мясорубку Гражданской войны, не могли поверить, что в роли Торквемады выступает не кто-нибудь, а современный культурный европеец, аристократ, белый генерал.
Удручало и то, что русские офицеры не протестовали, превращаясь в соучастников этого варварства. Не случайно возникла легенда, будто один мягкосердечный офицер, будучи не в состоянии вынести подобное зрелище, но бессильный что-либо изменить, при казни Чернова подорвал себя ручной гранатой.
Позднее, во время похода в Забайкалье, в стоге сена заживо сожгли заподозренного в большевизме студента-медика Энгельгардт-Езерского, и этот случай породил аналогичную легенду: якобы некий свидетель казни, интеллигентный молодой человек, незадолго до того попавший в Азиатскую дивизию, настолько был потрясён страшной расправой, означавшей для него крушение всех идеалов, что бросился в Селенгу и утонул. Обе истории абсолютно недостоверны, и обе говорят о том, что унгерновцам хотелось отыскать в своих рядах хотя бы двоих праведников, ценой собственной смерти способных искупить вину остальных.
Монголы, при их воинственном прошлом едва ли не самый мирный из азиатских народов, свирепости Унгерна ужасались ещё сильнее, но им и легче было принять её как должное, если титул Бога Войны, которым наградили его кочевники, не был только лестной метафорой. Возможно, Унгерн сравнивался с воинственным покровителем лошадей Чжамсараном (он же Бег-Дзе) или даже был провозглашён его перерождением.
Это гневное божество из разряда дхармапала (по-тибетски – срунма или докшит), хранитель веры, устрашающий и беспощадный. Старший современник Унгерна, русский монголист Алексей Позднеев, изложил схему медитации, которую практиковали почитатели Чжамсарана. Прежде всего следовало представить всё пространство мира пустым, затем в этой пустоте увидеть безграничное море человеческой и лошадиной крови с поднимающейся над волнами четырёхгранной медной горой. На вершине её – ковёр, лотос, солнце, трупы коня и человека, а на них – Чжамсаран, коронованный пятью черепами. В правой руке, испускающей пламя, он держит меч, упираясь им в небеса; этим мечом он «посекает жизнь нарушающих обеты». На его левой руке висит лук со стрелами, в пальцах он сжимает сердце и почки врагов веры. Его рот «страшно открыт», четыре острых клыка обнажены, брови и усы пламенеют, как «огонь при конце мира». Рядом с ним восседает на бешеном волке бурхан Амийн-Эцзен с сетью в руках, предназначенной для уловления грешников. Другие спутники Чжамсарана – безжалостные меченосцы и палачи (ильдучи и ярлачи). Они облачены в кожи мертвецов, держат в зубах печень, лёгкие и сердца врагов буддизма, лижут их кости и высасывают из них костный мозг.
Сам не способный достичь нирваны, Чжамсаран сражается со всеми, кто препятствует распространению «жёлтой религии», причиняет зло ламам или мешает им совершать священные обряды. Унгерн принял на себя ту же роль, объявив войну безбожным гаминам, которые оскорбляют Богдо-гэгэна, убивают лам и запретили богослужения в столичных монастырях. При таком подходе всякий, на кого обращался его гнев, будь то дезертир, пьяница или сожжённый Чернов, становился врагом «жёлтой религии», а палачи типа Сипайло и Бурдуковского – спутниками Чжамсарана.
Если Унгерн действительно был провозглашён его перерождением, новый статус барона мог и не быть закреплён официальным актом в духе прецедента полуторавековой давности, когда Екатерину II объявили воплощением богини Сагаан Дара Эхэ (Белой Тары), всевидящей богини милосердия с глазами на руках и на ступнях ног[93]93
Было объявлено, что она воплотилась в российской императрице, дабы «смягчить нравы жителей северных стран».
[Закрыть]. Любой монастырь, а то и просто группа лам из соображений патриотического свойства по приказу или за деньги могли обнаружить в бароне признаки какого угодно божества из разряда воителей.
В свиту Чжамсарана включали зверей и птиц, ведущих ночной образ жизни или питающихся падалью – шакалов, диких собак, лис, грифов, сов. Отсюда уже недалеко до рассказов об усеянных человеческими костями сопках вокруг Даурии, где воют волки и одичавшие псы и где Унгерн по ночам проезжал на свидание со своим любимцем-филином. В одном случае «кровавый» барон представал божеством, в другом – демоническим безумцем, но в данном пункте кочевник-буддист не слишком отличался от русского интеллигента. Они по-разному драпировали реальное зло, но делали это с одинаковой целью – защититься от ужаса жизни, который просто так, в грубой наготе, нормальному человеку принять и пережить невозможно.








