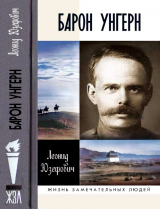
Текст книги "Барон Унгерн: Самодержец пустыни"
Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
2
Преступление «хозяина Даго» потрясало уже одним тем, что маяк, символ надежды и спасения, он сделал орудием зла, вестником гибели. Однако правдивость этой истории вызывает сильные сомнения.
Маяк Дагерорт (от шв. dager – свет, и ort — мыс), по-эстонски – Кыпу, был построен во времена Ганзейского союза и существует по сей день. На протяжении столетий каждую ночь с 15 марта до 30 апреля и с 15 августа до 30 сентября на вершине его сложенной из булыжного камня 36-метровой башни, на каменной решётке, обеспечивающей тягу, разводили громадный костёр из сухих смолистых дров. Зажигали его спустя час после захода солнца и тушили за час до восхода. В тихую погоду свет был виден на расстояние до 15 миль.
Купив имение Гогенхельм, Унгерн-Штернберг по обычаю обязан был взять на себя весьма обременительную заботу о маяке. На поддержание огня ежегодно требовалось около двух тысяч кубических саженей дров, а за триста лет, в течение которых существовал Дагерорт, лес вокруг вырубили, дрова приходилось возить издалека, да ещё и с подъёмом в гору. На содержание маяка новый хозяин Гогенхельма просил у казны пять тысяч рублей серебром в год, но получал только по три тысячи, а с 1796 года, после смерти Екатерины II – вообще ничего. Маяк тем не менее продолжал действовать. Барон возложил поставку дров на своих крепостных, за что избавил их от других повинностей. Никакой башни с «застеклённым бельведером» он не строил, а при тогдашнем способе эксплуатации маяка сама мысль о возможности подавать с него «ложные сигналы» кажется малоправдоподобной.
Разумеется, обманные огни можно было зажигать и в других местах, но это обвинение снял с барона венгерский исследователь Иштван Чекеи. Его интерес к нему пробудил роман Мора Йокаи «Башня на Даго», и после Первой мировой войны Чекеи приехал в Эстонию, чтобы попытаться узнать правду[12]12
Результаты его разысканий публиковались в немецкой прессе Таллина. Вырезки с этими публикациями сохранились среди бумаг Арвида Унгерн-Штернберга, двоюродного брата Романа Фёдоровича.
[Закрыть]. Изучив материалы судебного процесса 1802 года, он обнаружил, что о фальшивых маяках в них нет и речи, обвинение в убийстве моряков также не выдвигалось. Оказалось, что барон всего лишь вылавливал и присваивал себе грузы с потерпевших крушение кораблей, не соблюдая, правда, регламентировавших этот промысел норм берегового права[13]13
Возможно, обвинение просто не было доказано. Николай Лесков, живший на Даго в 80-х годах XIX века, в очерке «Темнеющий берег» пишет: «Береговое пиратство, которым славились в старину Эзель и Даго, несмотря на нынешние преследования его законом, всё-таки ещё не совсем исчезло, и малограмотный шкипер порой может принять за маяк разведённый на берегу “фальшфейер”. Пират Фипьзанда или Дагерорта начнёт ловить на огонь морских угрей и, как пить дать, “посадит его на гряду”, а потом придёт его спасать... и грабить (что почти одно и то же)».
[Закрыть]. По мнению Чекеи, подлинной причиной столь сурового приговора стала имущественная тяжба между Унгерн-Штернбергом и бывшим владельцем Гогенхельма, графом Штенбоком, в то время – эстляндским генерал-губернатором. По-видимому, его же стараниями вскоре после процесса в Ревеле вышла анонимная книжка, где впервые была обнародована версия о пиратстве. Тираж скупила и уничтожила семья подсудимого, уцелел единственный экземпляр[14]14
Высказывались предположения, что барон, состоявший в ложе «Астрея», пал жертвой внутримасонских интриг, поэтому процесс над ним и был окружён завесой тайны.
[Закрыть].
Чекеи увидел в Унгерн-Штернберге не кровожадного разбойника в чине камергера и с университетским образованием (это-то и волновало!), а трагическую жертву собственной исключительности в чуждой и грубой среде: «Барон был человеком прекрасного воспитания, необыкновенно начитанным и образованным. С молодости он вращался в высших сферах, был бесстрашным моряком, знающим и трудолюбивым землевладельцем, хорошим отцом. Он был строг как к себе, так и к окружающим, однако справедлив, славился щедростью и проявлял заботу о своих людях. Кроме того, он построил церковь. При всём том он страдал ностальгией по прежней жизни и отличался нелюдимостью. Местная знать не могла по достоинству оценить незаурядную личность барона».
Если бы праправнук прочёл эту характеристику, он мог бы применить к себе почти каждое слово. Роман Фёдорович Унгерн-Штернберг обладал теми же феодальными добродетелями, какие приписывал Чекеи своему герою – храбростью, щедростью, стремлением заботиться о подчинённых. Точно так же он слыл нелюдимом и страдал от непонимания окружающих. Он тоже получил хорошее воспитание, знал языки, компетентно рассуждал о буддизме и конфуцианстве, что не мешало ему жечь людей живьём и отдавать воспитанниц Смольного института на растерзание солдатне. Тип палача-философа только ещё входил в жизнь Европы, и современники замирали перед ним в растерянности. Чтобы устранить это противоречие, одни искренне считали вымыслом жестокость Унгерна, другие столь же искренне подвергали сомнению его образованность. Первые предпочитали говорить о «вынужденной суровости при поддержании дисциплины»; вторые, вопреки фактам, называли барона «дегенератом».
Приблизительно так же Чекеи воспринимал его прапрадеда. Он был уверен, что этот начитанный и даровитый человек никак не мог быть пиратом и пострадал дважды: сначала от судебного произвола, затем – от фантазии романистов и поэтов. Однако легенды редко возникают на пустом месте. Похоже, в самой личности «хозяина Даго» было нечто такое, что заставляло верить в историю с ложным маяком, как позднее верили любому рассказу о свирепости его потомка.
Наверняка Унгерн знал о прапрадеде гораздо больше, чем рассказал Оссендовскому. Одна деталь позволяет предположить, что он сознательно уподоблял себя этому человеку. По приезде из Польши в Петербург Отто Рейнгольд Людвиг, вынужденный выбрать единственное из трёх своих имён, русифицировал второе из них и стал Романом. Это же русское имя взял себе его праправнук, при крещении названный по-другому.
РОБЕРТ И РОМАН. ОТ АВСТРИИ ДО АМУРА
1
В плену Унгерн сказал, что не считает себя русским патриотом, и своей «родиной» назвал Австрию. Действительно, родился он не на Даго, как обычно указывается, а в австрийском Граце. В советских энциклопедиях датой рождения называется 10 (22) января 1886 года, хотя он появился на свет 17 (29) декабря 1885 года, то есть на 24 дня раньше[15]15
Эта дата фигурирует в переписке его двоюродных братьев Эрнста и Арвида Унгерн-Штернбергов, так что вряд ли в ней можно усомниться.
[Закрыть]. Очевидно, в Австро-Венгрии родители зарегистрировали рождение сына по григорианскому календарю, но в России, при поступлении его в гимназию или при оформлении каких-то бумаг, писарь, переводя григорианский календарь в юлианский, ошибся и вместо того, чтобы вычесть 12 дней, наоборот прибавил их к исходному числу. Полученная таким образом дата перекочевала в документы других канцелярий; после революции её сочли данной по старому стилю и, соответственно, приплюсовали ещё 12 дней. В итоге Унгерн стал моложе почти на месяц.
Столь же фиктивно его имя, под которым он вошёл в историю. По традиции, принятой в немецких дворянских семьях, новорождённый, чтобы иметь не одного, а сразу троих небесных покровителей, при крещении был назван тройным именем – Роберт Николай Максимилиан. Позже последние два были отброшены, а первое заменено наиболее близким по звучанию начального слога славянским – Роман. Оно ассоциировалось и с фамилией царствующего дома, и с летописными князьями, и с суровой твёрдостью древних римлян. К концу жизни это имя стало казаться как нельзя более подходящим его обладателю, чьи презрение к смерти, воинственность и фанатичная преданность свергнутой династии были широко известны. По отцу, Теодору Леонгарду Рудольфу, сын стал Романом Фёдоровичем.
Отец, младший ребёнок в семье, имел четверых старших братьев и на серьёзное наследство рассчитывать не мог. Однако в 1880 году, 23-летним юношей, он женился на девятнадцатилетней Софи Шарлотте фон Вимпфен[16]16
Франко-немецкий (гугенотский) род баронов фон Вимпфенов дал Франции двух знаменитых генералов – один возглавил армию, созданную жирондистами для борьбы с якобинской диктатурой в 1793 году, другой сражался с русскими в Крыму и с пруссаками под Седаном.
[Закрыть], уроженке Штутгарта. Невеста, видимо, принесла ему неплохое приданое. Супруги много путешествовали по Европе, пока не осели в Граце. Их первенец Роберт родился лишь на шестом году брака. Ещё три года спустя появился на свет второй сын, Константин Роберт Эгингард.
После переезда семьи в Ревель[17]17
Ныне – Таллин, Эстония.
[Закрыть], летом 1887 года, Теодор Леонгард Рудольф совершил поездку по Южному берегу Крыма с целью изучить возможности развития там виноградарства. Путешествие было предпринято по заданию Департамента земледелия Министерства государственных имуществ. Свои выводы Унгерн-старший изложил в солидном сочинении с цифрами и схемами, но как доктор философии заодно высказал ряд соображений, столь же любопытных, сколь и неуместных в соседстве с таблицами сравнительного плодородия крымских почв. «Россия, – пишет он, например, – страна аномалий. Она одним скачком догнала Европу, миновав её промежуточные стадии на пути к прогрессу». В доказательство этого тезиса приводится следующий факт: от просёлочных дорог Россия сразу перешла к железным, а шоссейных практически не знала. В то время мало кто задумывается о том, что, прямо с просёлка встав на рельсы, страна вот-вот покатится по ним к революции.
Сочинение Унгерна-старшего – труд профессионала, знакомого и с почвоведением, и с химией, что не исключает склонности автора к своеобразному романтическому прожектёрству. Если сын всерьёз будет вынашивать планы создания ордена рыцарей-буддистов для борьбы с революцией, идея отца хотя и скромнее, заквашена на тех же дрожжах: для пропаганды виноделия среди крымских татар предлагалось учредить «класс странствующих учителей». Этих бродячих проповедников автор изображал чуть ли не героями, предупреждая, что их миссия потребует «много самопожертвования», и «при выборе таких лиц следует поступать с крайней осмотрительностью». Конечно, крымские татары как мусульмане с понятной враждебностью относились к виноградной лозе, но стремление обставить хозяйственное предприятие конспирологической атрибутикой, облечь его в формы жертвенного служения и подвижничества всё-таки не совсем типично для нормального чиновника. Зная младшего Унгерна, в отце можно угадать зародыш тех черт, которые проявятся в сыне.
В 1891 году супруги Унгерн-Штернберги развелись, пятилетний Роман и двухлетний Константин остались с матерью. Через три года она вышла замуж за барона Оскара Хойнинген-Хюне. Второй её брак оказался более удачным, Софи Шарлотта прожила с мужем до самой своей смерти в 1907 году и родила ещё одного сына и двух дочерей.
Впоследствии сложилось мнение, будто она мало уделяла внимания первенцу, который с детства был предоставлен самому себе. Если даже и так, это не отразилось на его отношениях с единоутробным братом и сёстрами. Они оставались вполне родственными даже после того, как мать умерла. Однако с отчимом Унгерн сразу не поладил и не слишком уютно чувствовал себя в семье, что не могло не сказаться на его характере. С родным отцом он, похоже, никаких связей не поддерживал на протяжении всей жизни. Не осталось ни малейших следов его участия в судьбе сына.
Во время Гражданской войны рассказывали, что отец Унгерна был убит крестьянами в 1906 году, при «беспорядках» в Эстляндской губернии, и это навсегда «положило в сыне глубокую ненависть к социализму». Такого рода историями часто оправдывают тех, чью жестокость невозможно объяснить только рациональными причинами. О легендарном душегубе Сипайло, состоявшем при Унгерне в Монголии, тоже говорили, будто в ургинских застенках он мстит за свою вырезанную большевиками семью. Во всяком случае, словарь прибалтийских дворянских родов, изданный в Риге перед Второй мировой войной, датой смерти Теодора Леонгарда Рудольфа (Фёдора) Унгерн-Штернберга называет 1918 год, а её местом – Петроград. Обстоятельства, при которых он погиб или умер, неизвестны.
2
До четырнадцати лет Роман обучался дома, в 1900 году поступил в Ревельскую Николаевскую гимназию, но через два года был исключён. «Несмотря на одарённость, – пишет его кузен Арвид Унгерн-Штернберг, – он вынужден был покинуть её из-за плохого прилежания и многочисленных школьных проступков». Решено было, что при его характере ему больше подойдёт военное учебное заведение. Отчим остановил выбор на Морском кадетском корпусе в Петербурге, куда и отдал пасынка в 1902 году (в бумагах полагалось указывать последнее место учёбы, и для того, видимо, чтобы скрыть факт исключения из гимназии, перед поступлением в Морской корпус Унгерна ненадолго приписали к частному пансионату Савича). Родной отец во всех этих хлопотах никак не участвовал. Хотя в то время он жил в Петербурге, билет на право брать мальчика в отпуск был выписан на другое лицо.
Семью годами позже Унгерн аттестовался начальством как «очень хороший кадет», который «любит физические упражнения и очень хорошо работает на марсе», при этом ленив и «не особенно опрятен». Сохранился внушительный список его «проступков», регулярно караемых сидением в карцере. Всё это преступления достаточно невинные: «вернулся из отпуска с длинными волосами», «курил в палубе», «бегал по классному коридору», «не был на вечернем уроке Закона Божия», «потушил лампочку в курилке перед входом офицера», «дурно стоял в церкви», «уклонялся от утренней гимнастики» и т. д. Постоянно фигурируют какие-то состоящие под строжайшим запретом, но дорогие сердцу шестнадцатилетнего кадета Унгерн-Штернберга «ботинки с пуговицами».
О его характере можно судить по тому, что он способен был сбежать из-под ареста, пока дежурный уносил посуду после обеда, и вызывающе «разгуливать по шканцам». При этом подростковое бунтарство сочеталось в нём с мрачностью и застенчивостью. При чтении реестра его проказ нельзя не заметить, что почти все они совершались не в компании сверстников, а в одиночестве.
Со временем он начинает хуже учиться. Автор очередной аттестации, указывая на его грубость и неопрятность, делает далеко идущий вывод: «Весьма плохой нравственности при тупом умственном развитии». В последнее поверить трудно, тем не менее в 1904 году Унгерн оставлен на второй год в младшем специальном классе. Ещё через полгода родителям предложено «взять его на своё попечение», поскольку поведение их сына «достигло предельного балла (4) и продолжает ухудшаться». Мать и отчим предупреждены, что в любом случае, возьмут они его домой или нет, из корпуса он будет отчислен.
«Вскоре после начала Русско-японской войны, – не без умиления рассказывает его первый биограф Николай Князев, – на утренней поверке как-то недосчитались троих гардемарин младшего класса; одного из них, конечно, звали Романом». Ничего подобного не было, хотя сам Унгерн тоже говорил, что добровольно оставил Морской корпус, дабы попасть на войну с японцами. Документы это опровергают, но можно допустить, что положение второгодника было для него унизительно, отношения с начальством испортились вконец, поэтому он решил ехать на фронт и «предельным баллом» по поведению сознательно провоцировал своё исключение.
В доме отчима Унгерн прожил три месяца, пока шло оформление вольноопределяющимся в 91-й Двинский пехотный полк, но повоевать ему не удалось. На Дальний Восток он попал в июне 1905 года, когда бои уже прекратились. Рассказы о полученных им ранениях и Георгиевском кресте (или даже трёх) за храбрость – легенда. Правда, послужной список Унгерна сообщает, что он был награждён «светло-бронзовой» медалью «за поход в Русско-японскую войну», а всем нижним чинам, прибывшим в действующую армию после сражения под Мукденом, которое Николай II постановил считать концом войны, давали такую же медаль, но «тёмно-бронзовую». Это позволяет допустить, что в каких-то диверсионных вылазках Унгерн всё-таки участвовал[18]18
Сообщено В. Е. Чуровым.
[Закрыть].
Вольноопределяющийся должен был прослужить в армии один год. По истечении этого срока Унгерн вернулся в Петербург и поступил сначала в Инженерное военное училище, где проучился очень недолго, затем – в Павловское пехотное. Здесь он благополучно прошёл «полный курс наук» и в 1908 году был произведён в офицеры, но не в подпоручики, как следовало бы ожидать по профилю училища, а в хорунжие 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска. Странное для «павлона», как называли павловских юнкеров, производство и назначение Арвид Унгерн-Штернберг объяснял тем, что его кузен мечтал служить в кавалерии, а выпускнику пехотного училища «возможно было осуществить это желание только в казачьем полку». Назначению предшествовала обязательная в таких случаях процедура приписки к одной из забайкальских станиц.
То, что из всех казачьих войск он выбрал именно второразрядное Забайкальское, его враги объясняли «шкурным» стремлением получить большие «проездные и подъёмные», а поклонники – увлечённостью «просторами и дебрями Забайкалья», которые «приглянулись» ему по дороге в Маньчжурию и где могла найти приют его «мятущаяся душа». Скорее всего, ошибались и те и другие. Как раз в то время поползли слухи о надвигающейся новой войне с Японией, и он, видимо, хотел находиться поближе к будущему театру военных действий. Кроме того, забайкальцами командовал генерал Эдлер фон Ренненкампф, а Унгерн состоял с ним в родстве – его бабушка по отцу, Наталья Вильгельмина, была урождённая Ренненкампф. Возможно, это тоже сказалось на его выборе, ибо позволяло надеяться на некоторую протекцию по службе.
3
В мирное время Забайкальское казачье войско выставляло четыре «первоочередных» полка шестисотенного состава – Читинский, Нерчинский, Верхнеудинский и Аргунский, в котором начал службу Унгерн. Полк базировался на железнодорожной станции Даурия вблизи китайской границы и в окрестных посёлках. Здесь Унгерн, раньше мало имевший дело с лошадьми, быстро стал превосходным наездником. «Ездит хорошо и лихо, в седле очень вынослив», – аттестовал его командир сотни.
Когда в августе 1921 года он попал в плен к красным, на одном из допросов было сделано краткое описание его внешности. В нём отмечено: «На лбу рубец, полученный на востоке, на дуэли». По словам Врангеля, хорошо запомнившего этот шрам, рана от полученного тогда шашечного удара заставляла Унгерна всю жизнь мучиться «сильнейшими головными болями» и «отражалась на его психике». Говорили, будто из-за неё он временами даже терял зрение.
В начале XX века дуэли в русской армии не были запрещены, напротив, поощрялись как средство поддержания корпоративного сознания офицерства. Традицию столетней давности искусственно реанимировали сверху, соответственно усилился элемент государственной регламентации в этой деликатной сфере. Поединок перестал быть интимным делом двоих; необходимость дуэли определялась офицерскими судами чести, за чьей деятельностью надзирали командиры полков и начальники дивизий. Они же выступали арбитрами в спорных вопросах. В результате, как это всегда бывает, когда обычай превращается в писаный закон, священный некогда ритуал утратил былую значимость.
В дивизии, где служил Унгерн, произошёл, например, такой инцидент. Один офицер нанёс другому «оскорбление действием», и суд чести вынес постановление о необходимости поединка. Противники сделали по выстрелу с дистанции в 25 шагов, после чего и помирились. Вскоре, однако, выяснилось, что накануне секунданты одного из офицеров предложили секундантам другой стороны не заряжать пистолетов, а обставить дело лишь «внешними формальностями». Те отказались, и двоим офицерам, решившим вместо дуэли устроить её имитацию, пришлось покинуть полк.
Казалось бы, дело исчерпано, виновные наказаны, тем не менее начальник дивизии был возмущён. «Нравственные правила и благородство исчезают в офицерской среде, – пенял он полковым командирам, – и среда эта приобретает мещанские взгляды на нравственность и порядочность». Негодование было вызвано тем, что изгнанию не подверглись и секунданты противной стороны. Ведь они, выслушав порочащее их постыдное предложение, не потребовали сатисфакции, а довольствовались докладом о случившемся. Да и суд чести, не настояв на обязательности ещё двух поединков, не оправдал ни имени своего, ни предназначения[19]19
С началом Первой мировой войны дуэли в армии запретили, но когда в декабре 1917 года прапорщик Крыленко стал большевистским главковерхом, несколько офицеров через газеты послали ему вызов на дуэль, соглашаясь драться в любом месте и на любых условиях. Ответа, естественно, не последовало.
[Закрыть].
Обвинить Унгерна в «мещанских взглядах на нравственность» не мог бы никто, но через полтора года службы в Даурии ему пришлось оставить полк. Причиной послужила не дуэль, а опять же то обстоятельство, что она не состоялась в ситуации, когда обойтись без неё было нельзя.
На попойке в офицерском собрании Унгерн поссорился с сотником Михайловым, и тот при всех назвал его «проституткой». Барон почему-то смолчал и мало того, что в ближайшие дни не послал обидчику вызов, но даже не потребовал извинений. Возмущённые офицеры созвали суд чести, однако на нём Унгерн не захотел ничего объяснять. Что побудило его так себя вести, неизвестно. В трусости его никто никогда не обвинял, тем не менее и ему, и Михайлову предложили перевестись в другой полк. Их поединок так и не состоялся, а шрам на лбу Унгерн получил уже на новом месте службы, в Благовещенске-на-Амуре. Правда, это была не «дуэль», как говорил он сам, а тоже пьяная ссора, на сей раз прямо на месте перешедшая в рубку шашками.
Об этом в 1926 году, в Пекине, написал бывший офицер Голубев, причём поимённо перечислил входивших в состав суда чести и решавших участь барона офицеров-аргунцев. Сам Унгерн говорил, что свой шрам он получил «на востоке», а в Иркутске, где проходил допрос, так можно было сказать только про Дальний Восток, но никак не про соседнее Забайкалье. Вдобавок есть в этой загадочной истории с сотником Михайловым какая-то ложащаяся на характер Унгерна психологическая убедительность. Видимо, у него имелись веские причины не только отказаться от дуэли с человеком, назвавшим его «проституткой», но и объяснить причины своего отказа.
По другой, менее обоснованной версии, пьяная ссора, в которой Унгерну разрубили лоб, произошла в Даурии. После излечения он вызвал обидчика на дуэль, а поскольку тот не принял вызова, оба были исключены из офицерского состава полка.
Так или иначе, но Унгерн перевёлся в Амурский полк – единственный штатный полк Амурского казачьего войска. В 1910 году он покинул Даурию, чтобы вернуться туда через восемь лет и превратить название этой станции в символ белого террора и едва ли не иррационального ужаса.








