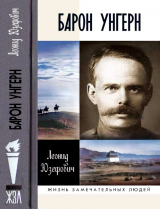
Текст книги "Барон Унгерн: Самодержец пустыни"
Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
2
Разными путями в Восточном Забайкалье собралось от 25 до 30 тысяч солдат и офицеров Колчака – всё, что осталось от 700-тысячной армии, год назад находившейся в нескольких сотнях вёрст от Москвы. Семёновцы не слишком приветливо встретили прибывших, те отвечали им открытой враждебностью. Среди каппелевцев было много студенчества, интеллигенции. Почти в полном составе пробились в Читу полки ижевских и воткинских рабочих, которые вплоть до весны 1919 года отказывались признавать трёхцветное знамя своим и в бой против красных шли под красным флагом, с пением «Смело, товарищи, в ногу». Для семёновских офицеров все эти люди были если не большевиками, то с сильным «демократическим душком», а каппелевцы видели в них просто бандитов, чья тупая жестокость заставляла крестьян целыми сёлами уходить «в сопки». Они не могли простить атаману, что тот интриговал против Колчака и не послал на фронт ни одного солдата, когда сибирские армии истекали кровью на Урале и под Тобольском. Местные жители усиливали эту неприязнь рассказами о кровавых карательных экспедициях, о всеобщем воровстве, о зверствах Унгерна и Тирбаха[71]71
Подполковник Артемий Тирбах славился своим садизмом в тылу и трусостью на фронте. В эмиграции был убит ненавидевшими его трёхреченскими казаками.
[Закрыть].
Пётр Савинцев, редактор дивизионной газеты «Уфимец», вспоминал, как при выпуске её первого номера командир 8-го Камского полка Воробьёв предостерёг его: «Ну, если вы будете лизать ж... атаману, лучше на глаза не показывайтесь, изобьём!» Перспектива оказалась вполне реальной. Савинцева вызвал к себе генерал Бангерский, старавшийся «ладить с Семёновым», достал из стола «солидную книгу» по истории Забайкальского казачьего войска и предложил печатать в газете отрывки из неё. «Я думаю, – сказал он, – в наших частях с удовольствием будут читать эту историю». – «А я, ваше превосходительство, думаю, – возразил Савинцев, – что за такой материал меня в моём полку просто бить будут».
Возмущало всесилие японцев, а при этом – холуйский тон читинских газет, умилённо писавших, что в Чите мало осталось детей, не имеющих японских игрушек. Раздражала небоеспособность семёновских частей при их прекрасной амуниции. Воюя исключительно с мужиками, делавшими пушки из водопроводных труб, они летом щеголяли в галунных погонах при полевой форме, зимой носили валенки, полушубки, меховые шапки, а ижевцы и воткинцы, пройдя с боями от Камы до Байкала, зябли в ветхих шинелях, в гимнастёрках из мешковины. Как записал в дневнике тот же Савинцев, свою речь перед Уфимской дивизией Семёнов «начал с высоких материй, а кончил тёплыми штанами, которые обещал выдать». Высокое жалованье семёновских солдат вызывало зависть, зато применяемые к ним телесные наказания – презрение[72]72
В 1923 году одного из офицеров Сибирской дружины, попавшего в плен в Якутии, спросили на допросе, служил ли он у Семёнова. Ответ характерен: «Я атаманам не служил!» Это было то немногое, чем он мог гордиться.
[Закрыть]. У каппелевцев такого не водилось.
В свою очередь атамановцы были недовольны тем, что все офицеры, участники Ледяного похода, получили повышение сразу на два чина. Заслужить таким образом генеральские погоны было нельзя, но количество новоиспечённых полковников перешло все разумные пределы. Время от времени раздавались одинокие голоса, призывавшие проявить мудрость и самим понизить себя в звании хотя бы на один чин, но редкие альтруисты следовали этим призывам. Шайдицкий, ездивший из Даурии в Читу, рассказывал, что у него там «рука болела от отдания чести».
В Забайкалье была создана Дальневосточная русская армия – филиал Русской армии Врангеля. Два из трёх её корпусов составили каппелевцы, третий – семёновцы. Командующим стал Войцеховский, а главнокомандование Семёнов оставил за собой. Собственно атамановские части, не считая Азиатской дивизии, к тому времени или разбежались, или перешли к красным, как пресловутая Иудейская рота, или настолько были деморализованы, что боялись выходить из казарм, тем не менее Семёнов отказывался заявить о своём подчинении Врангелю, на чём настаивали каппелевцы. Войцеховский, искавший пути к национальному примирению и для начала безуспешно пытавшийся объявить амнистию партизанам, скоро слагает с себя командование, когда получают огласку его переговоры с правительством ДВР, и отбывает во Францию. Командующим становится Николай Лохвицкий, родной брат писательниц Мирры Лохвицкой и Надежды Тэффи. Он ставит перед собой задачу подчинить Азиатскую дивизию штабу армии и сместить Унгерна как наиболее одиозную фигуру режима.
Разговоры о том, что он заслуживает петли, пошли после того, как каппелевцы провели инспекцию забайкальских тюрем и, потрясённые тем, что они там увидели, большинство заключённых выпустили на свободу. В Даурии были освобождены вообще все арестанты, а генерала Евсеева, чьи в высшей степени лаконичные заключения заменяли судебные приговоры, в том числе смертные, отдали под суд и приговорили к повешению. Спасся он благодаря вмешательству Семёнова. Одновременно по распоряжению Лохвицкого начали собирать материалы для нового процесса, где главным обвиняемым должен был стать Унгерн.
В октябре 1920 года, когда он готовился штурмовать Ургу, китайская полиция в Харбине «совершила налёт» на квартиры трёх каппелевских генералов – Акинтиевского, Филатьева и Бренделя, незадолго перед тем покинувших Забайкалье из-за трений с Семёновым, и арестовала их по какому-то вздорному обвинению. Наутро все трое были освобождены, но бумаги, изъятые при обыске, бесследно исчезли. Никто не сомневался, что китайцы переправили их Семёнову, что харбинская полиция им подкуплена, и целью этой акции являлось похищение документов, компрометирующих атамана и его окружение, прежде всего – Унгерна.
В интервью газете «Свет» Акинтиевский перечислил, что именно у него украли. Многие бумаги касались непосредственно барона: «Доклад об убийствах, расстрелах и других преступлениях, чинимых в Даурии генералом Унгерном и его подчинёнными», «Жалоба г-жи Теребейниной об убийстве её мужа, поручика Теребейнина, по приказу Унгерна», а также ряд материалов, необходимых для предания его военно-полевому суду. Многие потом жалели, что хозяин Даурии, бросивший столь зловещую тень на Белую идею, сумел избежать казни. Один каппелевский офицер писал в близкой к Савинкову варшавской газете «За свободу»: «Знаменитый Унгерн, сумасшедший барон, давно был бы повешен, если бы не японцы».
Летом 1920 года, пока он вёл «сопочную» кампанию против партизан Лебедева, Лохвицкий двинул к Даурии лучший и самый «демократический» полк – 8-й Камский, насчитывавший до девятисот штыков. Предполагалось лишить Унгерна базы, после чего проще будет его арестовать, но он вовремя узнал об этом и отправил оставшимся в казармах частям приказ «действовать энергично», то есть обороняться с применением наличных сил и средств. По другой версии, всё обстояло ровно наоборот – Унгерн сам решил выгнать из Даурии разместившийся там гарнизон каппелевцев, которые в его отсутствие начали подбираться к накопленному им запасу снаряжения и боеприпасов, и, оставив партизан в покое, поспешил в свои владения.
До вооружённого столкновения не дошло, но командующий поставил Семёнова перед выбором: или он, Лохвицкий, или Унгерн. Естественно, атаман выбрал старого друга. Оскорблённый Лохвицкий уехал в Харбин, формально – в отпуск, но все понимали, что назад он уже не вернётся. Командование армией принял Вержбицкий.
Вероятно, именно в это время Унгерн склонился к мысли всё бросить, уехать в Европу, поселиться «на родине». Имелась в виду не Эстония, а недавно появившаяся на карте Австрия. Унгерн говорил об этом на допросе в плену, не называя месяца, когда попытался воплотить в жизнь свою идею, но точно указав год – 1920-й. Должно быть, ему казалось, что в Австрии он будет принят и натурализован по праву рождения в австрийском Граце, но получить «заграничную визу» почему-то не удалось. Скорее всего, попытки не были очень настойчивыми и прекратились после того, как Лохвицкий покинул Забайкалье.
Вержбицкий ещё меньше, чем его предшественники, способен был справиться с непокорным бароном, но от греха подальше Семёнов и Унгерн решили перебазировать Азиатскую дивизию подальше от железной дороги. 10 августа, вернувшись из Читы, Шайдицкий сошёл с поезда в Даурии и с удивлением обнаружил, что в военном городке никого нет, казармы пусты. Впрочем, сам Унгерн был в своём кабинете. Он подвёл Шайдицкого к окну и, указав «на далёком горизонте одинокую сопку на границе с Монголией», сказал: «По компасу – на продолжение створа. Вот вам направление, догоняйте дивизию. Когда она придёт в Акшу, я приеду туда».
ИЗ АКШИ – НА ЮГ
1
Акша – приграничный степной городок в верховьях Онона, примерно в трёх сотнях вёрст к западу от Даурии. К исходу августа 1920 года Унгерн, получив благословение Семёнова, сосредоточил здесь все свои силы. Как бывало и раньше, на краю пропасти атаман вновь расчехлил выцветшее, но ещё не окончательно истлевшее знамя панмонгольского движения.
В мемуарах он уверяет, что стремился исключительно к «борьбе с Коминтерном», но интриги каппелевских генералов и натянутые отношения с хозяином Маньчжурии, Чжан Цзолином, побудили его переместить «базу» этой борьбы из Забайкалья в Монголию. Само собой, Семёнов предпочёл умолчать о том, что тогда же сделал большевикам предложение, которое русские фашисты, обвинявшие его в масонстве, позднее определили как попытку «обращения в лоно Авраама, Исаака и Иакова».
А именно: 7 августа 1920 года, на бланке своей походной канцелярии, но без регистрационного номера и печати, не прибегая к услугам секретаря и машинистки, чтобы обеспечить абсолютную тайну, и не указывая имени адресата, чтобы его обращение могло быть рассмотрено широким кругом лиц, атаман собственноручно изложил своё предложение в письме, которое затем по секретным каналам попало к премьер-министру ДВР Борису Шумяцкому. Предполагалось, видимо, что тот перешлёт его в Москву[73]73
Когда Шумяцкий через год предал это письмо гласности, Семёнов объявил его фальшивкой. Однако публикация была проиллюстрирована фотографией текста письма, что не имело смысла, если бы оно было сфабриковано – почерк говорил сам за себя. К тому же трудно представить мотивы подобной фальсификации.
[Закрыть]. Суть такова: Семёнов с верными ему войсками готов покинуть Забайкалье и уйти в Монголию и Маньчжурию для их завоевания; большевики должны финансировать его усилия (в течение первого полугодия – до 100 миллионов иен) и оказывать помощь всем необходимым, «включительно до вооружённой силы», если эта деятельность будет совпадать с интересами Кремля. Взамен Семёнов брал на себя обязательство ни более ни менее как полного «вышиба Японии с материка» и создания независимых Монголии, Маньчжурии и Кореи, чьи посольства он лично доставит в красную Москву – при условии, что его поезду гарантируют свободный проезд по «всем железным дорогам Советской России» и соответствующие почести.
Всё это вовсе не такой блеф, как кажется. Летом 1920 года китайский республиканский клуб (партия) Аньфу, среди прочих провинций контролировавший Внешнюю Монголию, начал борьбу с чжилийским генералитетом; японцы негласно поддержали своих старых союзников аньфуистов, а Чжан Цзолин выступил на стороне чжилийцев. Он давно мечтал выйти из-под опеки Токио и создать собственное государство из Маньчжурии и обеих Монголии под номинальной властью законного наследника Цинов, одиннадцатилетнего Пу И, нашедшего приют при его мукденском дворе.
В сущности, Семёнов предложил большевикам план Чжан Цзолина, только на его место поставил себя. Завоёвывать Маньчжурию и тем более Корею он, понятное дело, не собирался и приплёл их к своему проекту в расчёте соблазнить падких на затеи мирового масштаба коминтерновских деятелей. Семёнов мог планировать лишь возрождение самостоятельной Внешней Монголии с последующим присоединением других населённых монголами областей. Цель оставалась прежней: занять пост «главковерха» при Богдо-гэгэне, а фактически стать правителем нового государства под сюзеренитетом уже не Японии, а Советской России.
В любом случае всё предприятие должно было начаться походом на Ургу. Не случайно как раз в то время, когда Семёнов отправил письмо Шумяцкому, Азиатская дивизия выдвигается в район Акши, где начиналась трактовая, доступная для обоза и артиллерии, дорога к монгольской столице. В обозе находилась знаменитая «чёрная телега» – кибитка чёрного цвета с дивизионной казной в размере около 300 тысяч рублей золотом. Такую сумму Унгерн мог получить только от Семёнова. В этой же кибитке везли подарки монгольским князьям и ламам – фарфоровые вазы, курительные трубки, бронзовое литьё. Куда и зачем предстоит идти, Унгерн знал и даже объявил некоторым офицерам конечную цель экспедиции, но ему в голову не приходило, что знамя, осеняющее этот долгожданный поход, может быть и красным.
Год спустя, в Иркутске, присутствуя на одном из допросов пленного барона, Шумяцкий поинтересовался, известно ли ему, что Семёнов за 100 миллионов иен предлагал свои услуги большевикам. Естественно, Унгерн об этом понятия не имел, однако сразу же поверил, что такое возможно. Старого приятеля он знал хорошо и не питал иллюзий относительно его готовности к жертвам во имя Белой идеи.
2
Пока Азиатская дивизия стояла в Акше без Унгерна, дезертирство приняло угрожающие размеры. Однажды ночью исчез целый казачий полк. Офицеров, оставшихся без подчинённых, свели в отдельную роту, которая сама позднее попытается бежать. Несколько человек уезжают в служебные командировки и пропадают с концами. Шайдицкий с крупной суммой денег отправляется вербовать добровольцев в зоне КВЖД; перед отъездом из Акши его с сомнением спрашивают: «А вернётесь ли вы сами в дивизию?» – «Если не вернусь, при встрече разрешаю плюнуть мне в физиономию», – гордо отвечает Шайдицкий и не возвращается[74]74
Сам он об этом умалчивает и уверяет, будто Унгерн, относившийся к нему по-отечески, отправил его в тыл с целью избавить «от того кошмара в Монгольском походе, который он, несомненно, предчувствовал».
[Закрыть].
Воевать никто не хочет; Унгерн нервничает, не получая от Семёнова чётких указаний, но ещё не решается действовать на свой страх и риск. То он объявляет оставшимся в Даурии артиллеристам, что силой никого не держит, и в подтверждение своих слов распускает полбатареи по домам, то вдруг приказывает расстрелять двоих офицеров той же батареи, будто бы подбивавших солдат к дезертирству. Один из них, штабс-капитан Рухлядев, перед смертью сумел передать жене своё обручальное кольцо, завёрнутое в записку: «Погибаю ни за что».
В Акше старшие офицеры стараются «подтянуть» разлагающуюся дивизию и отвлечь её «от невесёлых дум о будущем».
В числе прочих мер – спектакли для солдат и приказ сотням собираться по вечерам «на песню». Тем временем Унгерн, как сообщают харбинские газеты, встречается с монгольскими князьями в монастыре вблизи озера Долон-Нор. Пока он ведёт переговоры, его свита развлекается охотой и рыбалкой. В сентябре утки уже взматерели, есть вечерний и утренний слёты. Много фазанов, ибо зима была малоснежной, весенний паводок не угрожал фазаньим гнёздам. Над степью появляются передовые стаи летящих с севера гусей, и автор фенологической заметки с особым чувством, понятным русским беженцам в Маньчжурии, вспоминает слова слышного в гусином крике прощального привета: «Прощай, матушка Русь, к теплу потащусь!» Затем в этом царстве пернатых возникает аэроплан. За штурвалом – японский лётчик. Он садится на берегу Долон-Нора, после чего летит обратно на север – «связь между атаманом и бароном поддерживается по воздуху».
Японцы эвакуировали свои войска в Приморье, Семёнов вынужден вступить в переговоры с правительством ДВР. На станциях Гонгота и Хабибулак он подписывает мирные соглашения с «буфером», проводит выборы в Народное собрание, передаёт ему гражданскую власть над Забайкальем, оставляя за собой военную, и переносит ставку из Читы в Даурию. Унгерн ждёт, что теперь атаман вплотную займётся монгольской экспедицией, но этого не происходит.
Москва его предложение отвергла или не соизволила ответить, а ситуация в Китае резко изменилась после того, как Чжан Цзолин нанёс удар аньфуистам, разгромленным чжилийским генералом У Пейфу. Отныне поход Азиатской дивизии на Ургу означал бы войну не со слабеющим клубом Аньфу, а с могущественным генерал-инспектором Маньчжурии, готовым распространить свою власть на Халху. В Даурии шумит последняя волна пропагандистской кампании в защиту монгольской независимости[75]75
Пробольшевистская харбинская газета «Вперёд» откликается на это куплетом:
В наклонности к безволию,Предчувствуя беду,В Монголию, в Монголию,В Монголию пойду!
[Закрыть], но Семёнов уже сознает, что Монголия потеряна для него навсегда.
Унгерн должен был насторожиться, узнав о готовящейся свадьбе атамана. Его собственный брак – акция скорее политическая, зато Семёнов женится как частное лицо. Отставлена ветреная Маша, он страстно увлечён семнадцатилетней Еленой Терсицкой, машинисткой его походной канцелярии. Она – дочь священника из Оренбургской губернии, в Забайкалье пришла вместе с каппелевцами. В харбинских газетах публикуются оплаченные, видимо, Семёновым статьи, приписывающие его хорошенькой избраннице пылкое сострадание к героям борьбы за Белое дело и готовность к самопожертвованию. Сообщается, что невеста отказалась от свадебного подарка, взамен попросив помочь интернированному в Синьцзяне атаману Дутову, и жених со сказочной щедростью отправил ему 100 тысяч рублей золотом. Согласно ещё более сусальному варианту той же истории лишь при выполнении этого предварительного условия Терсицкая соглашалась отдать Семёнову руку и сердце. Однако люди, лично с ней знакомые, не обольщались насчёт её благородства. По мнению Ханжина, Маша «при своём взбалмошном характере и своей нравственной испорченности была добрым человеком», а Терсицкая – «самолюбивая, мстительная и чрезвычайно злая». Если верить Ханжину, Семёнов, при отъездах Маши не брезговавший случайными связями, прельстился красавицей-машинисткой, но та, будучи «девицей неглупой», на связь не пошла, предложив на ней жениться. Влюблённый Семёнов попался на эту удочку. Внезапная страсть вспыхивает в нём как нельзя более вовремя; прекрасная Елена помогает ему смириться с утратой власти над Забайкальем и крушением монгольских планов. Вряд ли ей с такой лёгкостью удалось бы женить на себе атамана в зените его славы[76]76
Ещё до ухода на фронт Семёнов женился на казачке Зинаиде, но давно с ней не жил. Являлся ли этот брак официальным, и если да, был ли оформлен развод, мне не известно. Позднее враги атамана регулярно обвиняли его в двоежёнстве.
[Закрыть].
Свадьбу отпраздновали в середине августа 1920 года. Незадолго до того Семёнов провожал Машу в Китай и там «прощался с ней», о чём, надо думать, невеста не знала или не желала знать, а на обратном пути в Читу, на станции Оловянная, встретился с Унгерном. Это их последняя в жизни встреча. О чём они говорили, можно лишь гадать, но сразу по прибытии в Акшу барон трубит общий сбор, переходит, говоря языком военных сводок, демаркационную линию, определённую Гонготским соглашением с ДВР, и открывает боевые действия против войск «буфера».
3
Вскоре Семёнов объявил о «бунте» Унгерна, который якобы вышел из подчинения Вержбицкому и самовольно увёл дивизию «в неизвестном направлении». В мемуарах атаман пишет, что сделал это заявление для «маскировки» движения Унгерна к Урге; сам он с другими частями якобы собирался выступить следом, но Унгерн говорил в плену, что Семёнов разработал тогда совсем другой план, предполагавший масштабное наступление на Верхнеудинск и «далее на запад». Азиатская дивизия должна была через отроги Яблонового хребта двигаться на Троицкосавск. В соответствии с поставленной задачей Унгерн и действовал, полагая, что Семёнов развивает операцию на другом направлении, но тот не тронулся с места. Возможно, посылая Унгерна на запад, атаман собирался затем развернуть его на юг, к Урге, хотя точно ничего сказать нельзя, в то время его планы менялись чуть ли не еженедельно.
Тогда же в дивизии появилось около семидесяти японских солдат и офицеров под командой капитана Судзуки, раньше состоявшего при Семёнове. Эйхе немедленно запрашивает о них представителей Токио в Чите и во Владивостоке; те отвечают, что никакой поддержки с их стороны Унгерну не оказывается, и даже называют Азиатскую дивизию «шайкой». Полковник Исомэ заявляет, что подданные Японии находятся в ней по собственному желанию и считаются уволенными из императорской армии. Однако если в японских военных уставах эталоном дисциплины считалась такая степень послушания, когда подчинённый следует за начальником, как «тень за предметом и эхо за звуком», сомнительно, чтобы эти люди оказались при Унгерне без приказа. Скорее всего, они были приставлены к нему в роли отчасти советников, отчасти наблюдателей, но впоследствии превратились в заложников ситуации, бессильных что-либо изменить.
В то время в Азиатскую дивизию входят три конных полка по 150—200 сабель каждый – «атамана Анненкова», Бурятский и Татарский, в котором служили не столько татары, сколько башкиры, пришедшие в Забайкалье с каппелевцами и как «азиаты» отданные под начало Унгерна. Кроме того – комендантский дивизион, Японская сотня, две батареи неполного состава и пулемётная команда полковника Евфаритского, в будущем – организатора заговора против Унгерна. Всего, по разным подсчётам, от 1000 до 1200 бойцов, из них полтораста нестроевых.
С этой значительной для Забайкалья силой Унгерн рассеивает мелкие отряды красных, но вскоре в район Акши стягиваются части НРА, матросы, мадьяры, наконец, Таёжный партизанский полк анархиста Нестора Каландаришвили. Головным эскадроном в нём командует Иван Строд, имеющий восемь ран, четыре Георгиевских креста и два ордена Красного Знамени. Неподалёку от монгольской границы грузин и латыш настигают эстляндского барона. Его бурятская конница «показала хвосты», партизаны занимают сожжённую унгерновцами деревню. Здесь, за околицей, Строд видел обнажённые трупы крестьянок с разрезанными крест-накрест грудями, а возле обгорелых развалин мельницы – двоих привязанных к мучному ларю мёртвых стариков: одного с совком, другого с мешком. Чья-то рука придала телам естественные позы, в которых они и закоченели. Брюки у обоих были спущены, икры изгрызены собаками или свиньями.
Красные трубят о своих победах, читинские и харбинские газеты – о победах Унгерна, но что происходит на самом деле, понять трудно. Боевые действия сводятся к перестрелкам и скоротечным стычкам, победителя не всегда можно отличить от побеждённого, а тайга, горы и полыхающие кругом лесные пожары делают относительными все военные успехи. Ясно одно: убедившись, что колёсных дорог впереди нет, пройти дальше на запад с артиллерией и обозом невозможно при любом исходе столкновений с красными, Унгерн возвращается в Акшу, потеряв четыре пушки и часть подвод со снаряжением и боеприпасами.
На восток, в контролируемую каппелевцами зону железной дороги, он тоже идти не может, там его ждут неизбежные теперь арест и суд. Остаётся единственное направление – на юг. Не получив санкции от Семёнова, Унгерн решает действовать по прежнему плану. 1 октября 1920 года он переходит пограничную реку Букукун и пропадает в необозримых просторах Монголии[77]77
В январе 1920 года, в Нижнеудинске, когда чехи закрыли путь на восток поезду Колчака, но сам он ещё сохранял свободу действий, кто-то из его окружения предложил уходить в Забайкалье через Монголию, на лошадях. Зажёгшись этой идеей, адмирал собрал свой конвой, в чью преданность «верил безгранично», и спросил, кто желает идти вместе с ним. Вызвалось всего несколько человек из пятисот. Для Колчака это стало «страшным разочарованием», после которого он впал в апатию. «Зачем только было спрашивать? – восклицает генерал Филатьев, рассказавший об этом эпизоде. – Конвой был на службе, приказал бы ему выступать, не вводя в соблазн, и пошли бы без разговоров» В аналогичной ситуации Унгерн так и поступил, потому что был человеком совсем иного типа.
[Закрыть].
«За ним, – восторженно пишет Альфред Хейдок, – шли авантюристы в душе, люди, потерявшие представление о границах государств, не желавшие знать пределов. Они шли, пожирая пространства Азии, впитывая в себя ветры Гоби, Памира и Такла-Макана, несущие великое беззаконие и дерзновенную отвагу древних завоевателей».
«С ним, – разрушая этот романтический мираж, констатирует колчаковский офицер Борис Волков, – идут или уголовные преступники типа Сипайло, Бурдуковского, Хоботова, кому ни при одной власти нельзя ждать пощады, или опустившиеся безвольные субъекты типа полковника Лихачёва, которых пугает, с одной стороны, кровавая расправа при неудачной попытке к бегству, с другой – сотни вёрст степи и сорокаградусный мороз с риском не встретить ни одной юрты, ибо кочевники забираются зимой в такие пади, куда и ворон костей не заносит».








