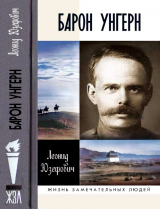
Текст книги "Барон Унгерн: Самодержец пустыни"
Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
2
В мае 1917 года, после Персии находясь на Румынском фронте, Семёнов пишет докладную записку на имя Керенского, в то время военного министра, и с однополчанином отправляет её в Петроград. Суть записки – предложение создать из кочевников Восточной Сибири части иррегулярной кавалерии на «принципах исторической конницы времён Чингисхана». Семёнов предлагал на добровольной основе сформировать в Забайкалье отдельный конный монголо-бурятский полк и привести его на фронт с целью «пробудить совесть русского солдата, у которого живым укором были бы инородцы, сражающиеся за русское дело». Если отбросить риторику, можно предположить, что прагматичный Семёнов хотел переждать в тылу смутное время развала армии, а когда ситуация изменится к лучшему, прибыть на фронт во главе лично им сформированной и преданной ему боевой единицы. Она могла стать фундаментом быстрой карьеры.
После Февральской революции, чтобы выпустить пар сепаратистских настроений и сохранить армию, Военное министерство пошло на её «национализацию»[36]36
В апреле 1917 года был издан приказ о выделении из частей солдат-инородцев для создания национальных формирований. Тем самым для многих открылась возможность легально покинуть опостылевшие окопы и отправиться в тыл. «После такого приказа мы рисковали не найти ни одного русского человека во всей нашей армии», – резонно замечает Семёнов.
[Закрыть], появились национальные батальоны, полки и даже дивизии – украинские, кавказские, латышские и пр. В условиях повального дезертирства были созданы маломощные, но широко рекламируемые как образцы воинской стойкости отряды с устрашающими наименованиями и кладбищенской эмблематикой – «штурмовые бригады», «ударные батальоны», «батальоны смерти». Свой монголо-бурятский полк Семёнов видел в этом ряду, и момент выбран был удачно: вскоре пришло распоряжение откомандировать автора записки в столицу.
В обвинительном заключении по его делу, которое спустя много лет было вынесено советским военным трибуналом, указывалось, будто летом 1917 года Семёнов намеревался «организовать переворот, занять здание Таврического дворца, арестовать Ленина и членов Петроградского Совета и немедленно их расстрелять с тем, чтобы обезглавить большевистское движение». Этот пункт обвинения основан на его собственных мемуарах, но вряд ли Семёнову тогда могло прийти в голову что-либо подобное. Скорее всего, он сочинил свой план задним числом, а НКВД воспользовался его слабостью неизменно изображать себя на авансцене истории.
В августе 1917 года Семёнов с мандатом Временного правительства и крупной суммой денег, полученных в Иркутском казначействе, прибывает в Читу с её подступающим к самым окраинам роскошным сосновым бором и немощёными улицами, которые в сезон ветров засыпали сухим навозом, чтобы спасти горожан от туч песка и пыли. Этот город, где Семёнов когда-то не сумел поступить в гимназию, через год станет его столицей, но пока что он всего лишь есаул в невнятном ранге комиссара «по образованию добровольческой армии» и командира несуществующего полка. От него все норовят избавиться. Наконец после двухмесячных мытарств он с десятком казаков и несколькими офицерами добирается до пограничной китайской станции Маньчжурия.
Отсюда Семёнов рассылает вербовщиков в Баргу и Внутреннюю Монголию, заручается поддержкой бурятских националистов. С огромным трудом ему удаётся сколотить отряд, по месту формирования названный Особым Маньчжурским. К январю 1918 года в нём насчитывалось около пяти сотен туземных всадников и примерно полтораста русских казаков и офицеров. С этой значительной по местным масштабам силой Семёнов бросает вызов Чите, где власть уже перешла к большевикам.
3
В отличие от Унгерна, особым пристрастием к спиртному Семёнов не страдал, хотя выпить любил. Напиваясь, не зверел, напротив – становился покладистым. Он принадлежал к тем натурам, на кого алкоголь действует умиротворяюще, да и вообще по характеру не был жесток. По природной доброжелательности он легко соглашался с аргументами собеседника, но не потому, что считал их убедительными, а просто из нежелания спорить и портить отношения. Случалось, что под влиянием разных людей он отдавал противоречащие одно другому распоряжения. «По натуре в высшей степени добрый и отзывчивый, но бесхарактерный и безвольный», – характеризовал его генерал Ханжин.
Представление о нём как о человеке податливом и не имеющем собственного мнения было всеобщим. Член войскового правления Гордеев, земляк и детский товарищ атамана, говорил: «Я хорошо знаю Семёнова. По моему мнению, он ни над чем не задумывается. Что-нибудь скажет одно, а через десять минут – другое. Кто-нибудь из близких людей может посоветовать что-то, Семёнов с ним согласится, а через некоторое время соглашается с другим. Такие свойства характера привели к тому, что он совсем измельчал». Впрочем, доверять этой характеристике не стоит, мало кто способен по достоинству оценить младшего товарища, когда тот вдруг совершает головокружительную карьеру. Подобный взлёт всегда кажется незаслуженным и несправедливым.
На самом деле за мягкость часто принимали его беспринципность, за безволие – осторожность и осмотрительность. Полковнику Джону Уорду, начальнику британского экспедиционного отряда, он показался похожим на тигра, «готового прыгнуть, растерзать и разорвать», а его глаза – «скорее принадлежащими животному, чем человеку».
Один из колчаковских офицеров определил Семёнова как «умного, вернее, очень хитрого человека», но отметил, что «настоящим атаманом своей казачьей вольницы он не являлся, наоборот, эта вольница диктовала ему свои условия». Наблюдение спорное: трудно понять, где кончалась его реальная зависимость от приближённых и начинался миф о ней. В этом мифе брала начало легенда, будто атаман, как истинный государь, окружён злыми советниками, скрывающими от него правду.
Считалось, что он не знает о творящихся его именем безобразиях. «Семёнов-то сам хорош, семёновщина невыносима!» – пишет генерал Сахаров; в Забайкалье то же самое повторялось почти всеми на все лады. Крестьяне-старообрядцы, уходя партизанить в сопки, заявляли, что идут воевать не с Семёновым, а с семёновщиной. Точно так же мужики с молитвенным благоговением произносили имя Ленина и резали коммунистов. Тут сказались архаические модели поведения, следование традиции, в которой власть священна и борьба ведётся не с её верховным носителем, а с чем-то от него отдельным, настолько же противоположным ему по духу, насколько внешне близким. Окружение Семёнова – оборотни, завладевшие рыцарским оружием атамана, чтобы на него пала пролитая ими кровь. В действительности он быстро избыл зависимость от соратников первых месяцев своего атаманства, но, возможно, поддерживал легенду о ней как парадоксальное средство укрепления личного авторитета. Этим он отделял себя от преступлений им же созданного режима.
Его биограф писал, что с 1917 года за ним, как «за головным журавлём, без всяких компасов и астролябий указывающим верный путь в тёплые страны, тянется вереница верящих и преданных ему спутников». Под «компасами и астролябиями» разумеются идеологические установки – Семёнов и вправду обходился без них. «Он вообще не идеалист», – говорил о нём Унгерн, объединявший в этом слове понятия «идеализм» и «идейность». Перед англичанами и американцами атаман являлся в образе демократа, покровителя дальневосточного отделения Лиги свободы и прав человека, японцы видели в нём олицетворение русского национального духа. Для сторонников единой и неделимой России он – сепаратист, лелеявший планы передачи Монголии российских земель за Байкалом; для позднейших русских фашистов из Харбина – масон, работавший по инструкциям французской ложи «Великий Восток» и создавший у себя в армии «жидовские части»; для следователей НКВД – фашист, ещё в годы Гражданской войны носивший на погонах знак свастики[37]37
Этот буддийский символ вечного круговорота жизни был эмблемой Монголо-Бурятского конного полка имени Доржи Банзарова, чьим шефом считался Семёнов.
[Закрыть].
«Семёнову не хватало ни образования, ни широкого кругозора», – писал Врангель, признаваясь, что не в состоянии понять, каким образом этот заурядный человек мог «выдвинуться на первый план Гражданской войны». Многие видели в нём посредственность, а его сказочную карьеру объясняли случайным сплетением обстоятельств. «В нормальное время, – заметил эмигрантский историк Балакшин, – он вышел бы в отставку в чине генерал-майора и доживал век в почёте и уважении своих станичников, но судьба избрала для него другой путь». Далее перечисляются его звания и титулы: «генерал-лейтенант в 30 лет, верховный главнокомандующий и глава Белого движения»[38]38
В январе 1920 года Колчак официально назначил Семёнова своим преемником.
[Закрыть], «равный среди монгольских князей» и пр. Всё это непосильным грузом легло на его плечи. По словам Балакшина, Семёнов наивно верил, что «простым выполнением своего долга справится с ролью, навязанной ему судьбой». Эта точка зрения в эмиграции была достаточно популярной – она отказывала атаману в способности ответить на вызов истории, но не в личном достоинстве.
Другие не были к нему столь снисходительны. Семёнова называли «смесью Ивана Грозного с Расплюевым», представляли то кровавым деспотом, то ничтожеством, то претендентом на российский престол, то чуть ли не большевиком. Он предпринимал попытки перейти на службу к красной Москве, но примерно тогда же генерал Сахаров, убеждавший его начертать на знамени «всем дорогое имя» Михаила Романова, из разговора с ним вынес твёрдую уверенность, что он – настоящий монархист, и лишь обстоятельства не позволяют ему открыто выкинуть лозунг борьбы за реставрацию Романовых. О нём писали как о грубом необразованном казаке и как о человеке, который владеет английским и китайским, специально изучал буддизм, издал сборник своих стихотворений «Казачья лира», переводил на монгольский язык стихи Пушкина и Лермонтова.
Развязанный при нём террор возмущал даже всякое перевидавших колчаковских офицеров, но сам он не был ни фанатиком, ни извергом. Диктатор областного масштаба, он не послал ни одного солдата за пределы Забайкалья (не считая неудачной вылазки в Иркутск в январе 1920 года), но пытался перекроить карту Азии и мечтал о создании новых государств. На выдаваемых от его имени наградных листах помещались шашка и винтовка, перекрещённые на фоне земного шара, – эмблема, весьма схожая с коммунистической символикой. Казаки считали его казаком, буряты – бурятом, монголы уповали на него как на защитника их интересов, даже евреи видели в нём заступника и покровителя.
Как ни странно, всё, что говорилось и писалось о Семёнове – почти правда. Он был и тем, и другим, и третьим, равно как не был никем. Может быть, это и позволило ему продержаться у власти дольше, чем любому другому из вождей Белого движения.
ОСОБЫЙ МАНЬЧЖУРСКИЙ ОТРЯД
1
Семёновский отряд пополнялся по тому же принципу, что и Запорожская Сечь. У русских волонтёров никто никаких документов не спрашивал, задавали всего три вопроса: «В Бога веруешь? Большевиков не признаешь? Драться с ними будешь?» Утвердительные ответы давали право быть зачисленным на довольствие. Поскольку платили хорошо, на станцию Маньчжурия стекался всякий сброд. Присваивали офицерские чины, щеголяли чужими наградами. Как обычно в смутные времена, появились и самозванцы разного масштаба. Китаец-парикмахер выдавал себя за побочного отпрыска японской императрицы, а какой-то молодой еврей назвался сыном покойного генерала Крымова и фигурировал при штабе, пока не был разоблачён и выпорот.
Вопреки расхожему мнению ссыльные и каторжники шли служить не только к красным. «Хуже всего здесь контрразведка, куда собрались отбросы жандармов, охранных агентов и разнузданная молодёжь самого садического типа», – писал об Особом Маньчжурском отряде (ОМО) военный министр Омского правительства Будберг. Среди представителей этой золотой молодёжи с уголовным прошлым были сын министра двора Фридерикс, убивший из-за наследства родного брата; обвинявшийся в шпионаже в пользу Германии барон Тизенгаузен; известный петербургский шарлатан Волков, он же «великий маг Али», укравший у своей любовницы, генеральши Самойловой, драгоценности на сто тысяч рублей. Все они попали в Забайкалье по судебным приговорам, а теперь оказались в отряде Семёнова. Из-за таких фигур аббревиатуру ОМО расшифровывали как «Осторожно, может ограбить».
«Гражданская война в России дала много Пожарских, но очень мало Мининых», – обмолвился однажды Семёнов. Сам он быстро решил свои финансовые проблемы благодаря японцам[39]39
Представление об этих суммах даёт цифра, фигурировавшая на заседаниях японского парламента: только с декабря 1918-го по февраль 1920 года на Семёнова было истрачено 21 миллион 110 тысяч иен. Цифра становится ещё более фантастической, если учесть, что одна иена приравнивалась к 60–70 рублям.
[Закрыть]. Те сделали ставку на него, а не на Колчака, слишком тесно, по их мнению, связанного с англичанами и американцами. Зато управляющий КВЖД, генерал Хорват, к Семёнову отнёсся настороженно и военную власть в полосе отчуждения вручил Колчаку. Подчиниться ему атаман отказался наотрез. Адмирал называл семёновцев «хамами», «бандой», но эта «банда» быстро превращалась в серьёзную силу. На японские деньги Семёнов закупал снаряжение вплоть до радиостанций, обзавёлся артиллерией, приступил к оборудованию бронепоездов, а Колчак сумел поставить под ружьё не более семисот человек, разбросанных по всей магистрали и вооружённых лишь трёхлинейками. К весне 1918 года Семёнов имел впятеро больше. Правда, из трёх с половиной тысяч бойцов русских насчитывалось не более трети. Личный состав отряда был преимущественно азиатский: китайцы (в том числе хунхузы), монголы всех племён, буряты, корейцы.
Первая попытка продвинуться в Забайкалье окончилась неудачей, но в начале апреля Семёнов вновь перешёл границу и с налёту захватил сначала Даурию, затем станцию Мациевская, где едва не погиб – раненного в ногу, его извлекли из-под обломков колокольни, разрушенной прямым попаданием снаряда. Здесь под видом добровольцев к нему присоединился батальон японской императорской армии в 400 штыков. «Маленькие ростом, великие своим воинским духом, щеголеватые и весёлые, японские солдаты в тёплый весенний вечер выскакивали из вагонов, кокетливо иллюминованных светящимися фонариками самых причудливых форм. В руках у каждого было по национальному японскому и русскому флагу, они оживлённо размахивали этими эмблемами русско-японской солидарности» – так бывший адъютант Семёнова описывал первое появление японцев в Забайкалье. Для него это было «повторение повествования евангелиста о благодетельном самаритянине».
Из Мациевской, взятой после упорного боя, Семёнов устремляется к Чите. К концу апреля захвачена станция Оловянная, атаман с авангардом выходит к берегу Онона, но красные успевают взорвать мост. Подрывником выступает не кто-нибудь, а лично командующий Забайкальским фронтом эсер-интернационалист Сергей Лазо. Минёры, не желая рисковать жизнью под прицельным огнём казаков, стрелявших с другого берега, отказались ползти к реке, чтобы ещё раз поджечь потухший от дождя запал, тогда Лазо сделал это сам, причём только третья попытка оказалась успешной.
Невозможно установить точную численность семёновских частей и противостоящих им красных отрядов. Всё постоянно движется, меняется, сотни людей перебегают от Лазо к Семёнову и обратно. Дезертируют тоже сотнями. Мобилизации, которые пытается проводить каждая из сторон, вызывают ненависть к ней и увеличивают не столько её собственные силы, сколько армию противника. Реквизиции проводят те и другие, врагом становится тот, кто сделал это первым.
Разделение по имущественному признаку почти не прослеживается. Сплошь и рядом богатые крестьяне и даже казаки выступают сторонниками советской власти, а бедные поддерживают Семёнова. Под прикрытием красного или трёхцветного знамени сводят старые счёты из-за выгонов и пахотных земель. Появление в ОМО бурятских и монгольских всадников, привлечённых обещанием вернуть отнятые у них под пашню степные угодья, толкнуло крестьян в противоположный стан. Среди бойцов Лазо в ходу был лозунг «Грабь тварей!», то есть бурят. К тем из них, кто сражался на стороне красных, относились презрительно: «Как я встану рядом с ясашным?» Для казаков такой проблемы не существовало, их отношение к степнякам было несравненно более уважительным.
Человек мог оказаться по ту или иную сторону фронта по причинам, не имеющим ничего общего с идеологией. Парень из Читы при красных пошёл служить в вокзальную охрану, потому что ревновал невесту, работавшую там кассиршей; к ней постоянно приставали мужчины, и он охранял её бдительнее, наверное, чем вокзал от семёновских диверсантов, с приходом белых соперник настрочил на него донос. Несчастный жених поплатился арестом, бежал и в конце концов попал к партизанам. В те дни люди выбирали судьбу на годы вперёд, хотя ещё не догадывались об этом.
Идейное противостояние пока что смутно осознается и не без труда формулируется даже верхушкой враждебных станов, а на низовом уровне принимает карикатурные формы или корыстно используется в житейских ситуациях. На отбитой у Лазо железнодорожной станции казачий офицер заказывает местному портному-еврею новый мундир. Закончив работу, портной из страха перед заказчиком отказывается взять у него деньги. Тот рад не платить, но не желает чувствовать себя должником и, чтобы избавиться от моральных неудобств, заявляет, что портной – большевик, раз он против денег, и приказывает его выпороть.
Большинство населения не понимало, кто, с кем и из-за чего воюет. В эмиграции один офицер с грустью вспоминал разговор, состоявшийся между ним и какой-то женщиной на улице только что захваченного белыми городка. Та никак не могла взять в толк, на чьей стороне сражаются победители. «Мы красных бьём», – объясняет офицер, но такой ответ не избавляет его собеседницу от сомнений. Если есть воители, значит, как испокон веку ведётся, должны быть и те, кого они защищают. «Вот вас и защищаем», – находится наконец офицер. Тогда, растрогавшись, женщина благодарно крестит его и говорит: «Ну слава Богу! А то ведь все нынче промеж себя дерутся, про нас-то уж и позабыли».
Фронт замирает у Оловянной, затем Лазо внезапно переходит Онон. Наступление началось на Пасху, когда семёновцы отмечали праздник, а сам атаман уехал кутить в Харбин. Он срочно возвращается, но положение уже безнадёжно. Своим последним оплотом Семёнов сделал пограничную пятивершинную сопку Тавын-Тологой, укрепив склоны окопами и рядами колючей проволоки, однако не удержал её и был отброшен в Китай.
Лазо вступил в переговоры с представителями китайской военной администрации. Те прибыли на встречу с положенными по этикету безделушками в качестве подарков, а командующему преподнесли мешок дефицитного сахарного песка. Хозяин усадил гостей пить чай у себя в вагоне, и тут выяснилось, что подаренный песок сильно подмочен. Лазо приказал адъютанту немедленно, любыми путями раздобыть рафинад. С трудом сумели отыскать несколько кусков. Лазо гордо выставил их на стол и, как пишет его жена, «в разговоре с китайцами сделал тонкий намёк на то, что русские люди предпочитают пить чай с рафинадом и не любят сахарный песок, в особенности если он подмочен».
На этой благостной ноте Ольга Лазо заканчивает свои воспоминания о борьбе мужа с Семёновым, но ощущение хаоса подспудно присутствует даже в них. Семёновский офицер, спустя десять лет напечатавший в харбинской газете «Наш путь» заметки об этих днях, вспоминает какие-то свои командировки, поездки на паровозном тендере, стрельбу, бегство, случайных попутчиков, но постепенно начинает казаться, что автор ясно помнит лишь одно – то, как от поджигаемой красными и белыми степи небо всё время затянуто дымной пеленой. Каждый новый день разгорается незаметно и так же незаметно переходит в ночь. Над миром властвуют сумерки. Это ощущение пронизывает весь его сбивчивый рассказ, чья главная историческая ценность состоит в нарастающем при чтении чувстве тревоги от многократно и на разные лады повторяемого: «Свет солнца, притемнённый дымкой степного пала, казался не дневным, а вечерним».
2
Из мемуаров Семёнова следует, что Унгерн присоединился к нему в конце ноября или в начале декабря 1917 года. Произошло это на станции Даурия, где размещался лагерь германских и турецких военнопленных. Из них Унгерн сколотил что-то вроде военно-полицейской команды, которая быстро покончила с гарнизонной солдатской вольницей и грабежами в пристанционном посёлке. С тех пор у некоторых семёновских офицеров остались вестовые-турки, славившиеся умением варить кофе.
Неясно, когда Унгерн покинул Персию, но путь из Урмии в Даурию пролёг через Ревель. Сохранившийся в бумагах Арвида Унгерн-Штернберга рукописный рассказ Альфреда Мирбаха, мужа сестры Унгерна, частично заполняет временной пробел между двумя его экзотическими должностями – инструктором ассирийских дружин и начальником пленных немцев, усмиряющих буйства своих русских охранников.
Мирбах сообщает, что осенью 1917 года они с Унгерном и братом Унгерна по матери, Максимилианом Хойнинген-Хюне, оказались в Иркутске. Как и зачем все трое туда попали, из его воспоминаний понять нельзя, но дело проясняется, если вспомнить, что Мирбах тогда отбывал ссылку на севере Иркутской губернии, в Балаганске. Перед войной он возглавлял Охранное отделение в Лодзи и ещё двух южных округах Царства Польского и сохранил тесные связи с жандармским полковником Мясоедовым, раньше служившим в Польше. В 1915 году Мясоедова обвинили в шпионаже в пользу Германии, судили и повесили, а Мирбах, тоже угодивший под суд, отделался ссылкой. Хаос и растущее влияние большевиков заставляли опасаться за жизнь бывшего жандарма, и, видимо, по просьбе сестры Унгерн с семнадцатилетним Максимилианом отправился в Сибирь. Они вывезли Мирбаха из Балаганска в Иркутск, и туда же затем приехала его жена.
В то время уже не нужно было обладать прозорливостью Чойджин-ламы, чтобы предсказать надвигающуюся Гражданскую войну. Зная, что Семёнов находится в Забайкалье, Унгерн решил ехать к нему. Мирбах собирался составить ему компанию, но в конце концов передумал. Брать с собой жену и её юного брата было рискованно, отправлять их домой одних – опасно. Втроём они отправились обратно в Ревель, а Унгерн – в Даурию. Скорее всего, с этой ситуацией связана и смерть его отчима, Оскара Хойнинген-Хюне, чуть позже при невыясненных обстоятельствах убитого в Красноярске. Иначе как тревогой за судьбу сына и дочери невозможно объяснить его появление там зимой 1918 года.
В мемуарах Семёнов пишет, что успех «самых фантастических» его предприятий стал возможен благодаря «тесной спайке» с бароном. Первые месяцы их эпопеи – это героический период движения. Вожди его бедны, одиноки, гонимы и красными, и старой администрацией КВЖД во главе с неблагодарным Хорватом, забывшим, что они поймали и расстреляли претендовавшего на его место харбинского большевика Аркуса. Этот период изобилует историями о чудесах, какие обязательно существуют в официальной мифологии тех режимов, чьи создатели взялись ниоткуда, из полнейшей безвестности, как Семёнов. Такие истории придают им подобие легитимности. Случайность тут всегда играет важнейшую роль, ибо в ней являет себя Божественный Промысел, а смекалка и отвага, как у младшего сына в сказке, становятся главным оружием героя в борьбе с вооружённой до зубов неправдой. Здесь атаман и барон с горсткой верных сподвижников разоружают тысячи развращённых большевистской пропагандой нижних чинов, члены Маньчжурского совета пасуют перед воинским эшелоном, где якобы находятся казаки, а на самом деле никого нет. Свечи, зажжённые в окнах пустых вагонов, обманывают большевиков, а китайские солдаты пугаются покрытого брезентом бревна, принимая его за пушку, и послушно выполняют предъявленные им требования.
В январе 1918 года Семёнов назначил Унгерна комендантом Хайдара – крупного железнодорожного узла и второго по численности русского населения города в зоне КВЖД. Поначалу местная публика не приняла его всерьёз, но он быстро показал, на что способен: военный врач Григорьев, публично выступавший против невесть откуда свалившегося на хайларцев барона, был расстрелян без суда. Впервые в жизни Унгерн отдал приказ убить человека, но не похоже, чтобы его терзали какие-то сомнения или угрызения совести. Оправдываясь перед Семёновым, он ссылался на то, что «в условиях зарождающейся Гражданской войны всякая гуманность и мягкотелость должны быть отброшены». Для него это было тем проще, что в его распоряжении находилась сила, абсолютно чуждая любым интеллигентским слабостям. Семёнов потому и отправил Унгерна в Хайлар, что там был развернут штаб монгольской «бригады».
Её появление у семёновцев имело свою предысторию. В 1916 году, во время волнений во Внутренней Монголии, восстали харачины, самое воинственное из монгольских племён. Год спустя, теснимые китайцами, они совершили набег на Цеценхановский аймак Халхи; в бою с ними был ранен будущий председатель монгольской Народно-революционной партии Сухэ-Батор, в то время – пулемётчик войск Ургинского правительства. Потерпев неудачу, харачины двинулись в Баргу и в сентябре 1917 года подошли к её столице – Хайл ару. Их насчитывалось около восьмисот всадников под командой князя Фушенги. Его наследственные владения были конфискованы в пользу переселенцев из Китая, в качестве компенсации он получил чин полковника китайской армии с соответствующим жалованьем, но это не помешало ему возглавить мятеж.
Под Хайларом к нему присоединился отряд чахарского князя Баир-гуна, в прошлом – соратника легендарного Тогтохо. Оба получили тайную помощь от Японии. У Фушенги была рота переодетых в монгольское платье японских солдат при семи офицерах, у Баир-гуна – четыре орудия с японской обслугой. Из них повстанцы принялись бомбардировать город с окрестных сопок. Азиатская его часть загорелась и была разграблена, а русские кварталы, прилегавшие к железнодорожной станции, спасли от разгрома проезжавшие в это время с фронта уссурийские казаки.
Китайский гарнизон разбежался, но скоро начались столкновения между харачинами и чахарами, с одной стороны, и баргутами – с другой. Те и другие были монголами, но олицетворяли собой две крайние тенденции в монгольском мире: первые, согнанные китайцами со своих земель, стали скитальцами и профессиональными грабителями, вторые отчасти перешли к оседлому образу жизни. Местный князь Линшэн требовал от пришельцев покинуть пределы Барги; те отказывались, поскольку идти им было некуда. Ситуация сложилась тупиковая, и чтобы как-то её разрешить, в декабре 1917 года в Хайларе собрались восточномонгольские князья и ламы. Эту «конференцию» организовали японцы, и они же позвали на неё Семёнова. С благословения или по прямому совету состоявшего при нём капитана Куроки атаман предложил делегатам выход из тупика: харачины и чахары остаются в Барге, но поступают к нему на службу, благодаря чему получают средства к существованию и прекращают грабежи. Фушенга согласился; его всадники составили в ОМО отдельную «бригаду», для контроля над которой требовался человек с железной рукой. Унгерн полностью отвечал этому условию. Фактически он взял на себя командование монгольской «бригадой»: все важнейшие вопросы решались русскими и японскими офицерами, Фушенга царствовал, но не управлял.
В августе 1918 года, при новом наступлении Семёнова в Забайкалье, харачины по распоряжению штаба Особого Маньчжурского отряда угнали из приаргунских станиц, которые поддержали Лазо, не то восемь, не то 18 тысяч овец. Предполагалось передать их казакам, пострадавшим от большевистских реквизиций, но вскоре обнаружилось, что по ошибке или, скорее, по неистребимой привычке к разбою харачины угнали не тех овец – большинство их принадлежало казакам, служившим вовсе не у красных, а у Семёнова. Часть стада вернули владельцам, но породистые овцы были уже испорчены – их гнали вперемежку с баранами и оплодотворили много раньше, чем положено по скотоводческому календарю. Другую часть успели продать, остальное пошло в котёл самим харачинам. Пострадавшие от реквизиций вообще ничего не получили. Естественно, разразился скандал. Член войскового правления Гордеев, на которого со всех сторон сыпались жалобы, обратился за разъяснениями в штаб и получил следующий ответ: «О, этого вопроса вы, батенька, не поднимайте. Ведь это сделал барон. Батенька, если я об этом заявлю, мой чуб затрещит. Тут есть особый пункт, которого касаться нельзя». Словом, с Унгерном лучше не связываться. Его неприкосновенность объяснялась, возможно, близкими отношениями не только с Семёновым, но и с теми, от кого зависел сам атаман – японцами.
В Хайларе он не мог не познакомиться с состоявшими при Фушенге японскими офицерами (среди них находился профессиональный разведчик капитан Нагаоми, он же Окатойо) и должен был привлечь их внимание своим неординарным для русского офицера интересом к Востоку вообще и буддизму в частности[40]40
Японский экспансионизм связан не столько с синтоизмом, сколько именно с буддизмом – религией, общей для всех народов Восточной Азии. Она призвана была стать основой их объединения под эгидой Токио.
[Закрыть]. На ситуацию в Азии он смотрел так же, как кумир японской офицерской молодёжи, военный министр Кадзусигэ Угаки, провозгласивший, что Япония будет противостоять равно европейскому и американскому «деспотическому капитализму» и «катящейся на восток волне русского большевизма». В разговорах могли обсуждаться и шансы на возвращение к власти Цинов. Наследник престола, девятилетний Пу И, жил при дворе Чжан Цзолина, генерал-инспектора Маньчжурии, но для Унгерна этот мальчик был не просто одним из инструментов политики Токио в Китае. Единственный, как во всякой утопии, рычаг, с чьей помощью можно направить ход истории в нужную сторону, он видел в маньчжурской династии, а точку опоры – в Монголии.








