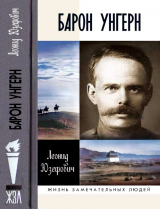
Текст книги "Барон Унгерн: Самодержец пустыни"
Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
СЕМЬ ГОЛОСОВ
1
Спустя полтора десятка лет после того, как Унгерн был расстрелян, в китайском Калгане во Внутренней Монголии одиноким стариком в нищете доживал век Дмитрий Петрович Першин, уроженец Даурии, известный в прошлом журналист, публиковавшийся под псевдонимом «Даурский», сибирский автономист, друг Потанина и Ядринцева. В должности чиновника по особым поручениям при иркутском губернаторе он много ездил по Монголии, интересовался буддизмом, коллекционировал буддийские иконы на шёлке – танки, а уже на шестом десятке, в годы Первой мировой войны, принял предложение стать директором Русско-монгольского коммерческого банка и поселился в Урге. Здесь судьба Першина-Даурского пересеклась с судьбой даурского барона.
В 1935 году, по просьбе жившего тогда в Тяньцзине историка Ивана Серебренникова, в прошлом министра снабжения в правительстве Колчака, Першин написал обширные воспоминания, озаглавленные: «Барон Унгерн, Урга и Алтан-Булак: Записки очевидца тревожных времён во Внешней (Халха) Монголии». Это обстоятельный рассказ умного, трезвого, иногда ироничного наблюдателя. Его взгляд остёр, память не ослабла, но голос уже тронут старческой сухостью. То, что случилось в Монголии при Унгерне, для Першина стало не апофеозом безумия и ужаса, как для заброшенных сюда революцией русских интеллигентов, и уж тем более не звёздной минутой жизни, как для молодых унгерновских офицеров, а всего лишь «тревожными временами». Першин пережил их зрелым человеком, когда новые впечатления не способны изменить устоявшийся взгляд на вещи, и перенёс на бумагу в том возрасте, когда близость смерти побуждает быть не судьёй, а летописцем.
Иначе звучит голос 27-летнего поручика, георгиевского кавалера и поэта Бориса Волкова. Для него Унгерн был врагом идейным и личным, отдавшим приказ о его расстреле, который лишь случайно не был приведён в исполнение. Записки Волкова – самый страстный из обвинительных приговоров, когда-либо выносившихся «кровавому» барону; по сравнению с ними даже речь Емельяна Ярославского, выступавшего общественным обвинителем на судебном процессе Унгерна в Новониколаевске, кажется холодным экзерсисом профессионального партийного публициста.
Студент юридического факультета Московского университета, Волков с началом войны окончил фельдшерскую школу, ушёл на фронт, после революции вернулся в родной Иркутск, участвовал в юнкерском восстании в декабре 1917 года и скрылся от красных в сербском эшелоне. По дороге в Приморье сербы довезли его до Харбина, оттуда он был послан обратно в Иркутск для подпольной работы. В разгар боёв Лазо с Семёновым какой-то наивный комиссар, не успевший расстаться с благостными иллюзиями относительно ближайшего будущего, разрешил Волкову производить археологические раскопки близ монгольской границы, в районе Вала Чингисхана. Под прикрытием этой легенды он выехал в Забайкалье, там примкнул к семёновцам, а летом 1919 года колчаковская контрразведка направила его в Ургу как своего агента – с заданием собирать информацию о панмонгольском движении. Здесь Волков женился на дочери барона Петра Витте, начальника русской «Экспедиции по обследованию Монголии» и вместе с семьёй жены остался в Урге[80]80
Вера Хатчер, правнучка Витте, вспоминает рассказ своей бабушки (в письме ко мне): «Когда Волков въехал в Ургу в шляпе, она была потрясена не потому, что “ах, какой мужчина!”, а потому что решила, что он пижон. Время было военное, и в шляпах тогда мужчины верхом не особенно ездили. У меня есть монгольские фотографии той поры. Мужчины там в военных фуражках или меховых шапках наподобие папах, но не таких высоких, а женщины в фетровых или войлочных шляпках с маленькими полями».
[Закрыть].
После её взятия Унгерном он ждал конца как колчаковский шпион и враг Семёнова, хотя, похоже, вся его деятельность по наблюдению за местными панмонголистами существовала в сослагательном наклонении или ограничивалась разговорами с тестем, хорошо знавшим политическую обстановку в Монголии. Зато при встрече с Унгерном он сумел произвести на него хорошее впечатление и был принят на службу. Другие мемуаристы подтверждают его слова о том, что «барон чрезвычайно доверял первому впечатлению».
Спустя четыре месяца, перед тем как Азиатская дивизия выступила в поход на Советскую Россию, Унгерн составил список подозрительных лиц, подлежащих ликвидации после его ухода из Урги, а с дороги прислал телефонограмму с приказом добавить к этому списку ещё четверых человек. Среди них значилась фамилия Волкова, но ему опять повезло: принявший телефонограмму дежурный офицер сам был поименован в числе этих четверых и предупредил товарища по несчастью.
Волков бежал на озеро Буир-Нор вблизи китайской границы. Китайцы вылавливали беглых унгерновцев и бросали в средневековую Цицикарскую тюрьму, но Волкова провезли мимо пограничных постов на телеге, под несколькими слоями брезента. В Хайларе один баргутский князь, которому барон Витте оказал когда-то важную услугу, взял под покровительство его зятя. «Воинственный баргут привёл меня в штаб китайских войск, – пишет Волков, – и, хладнокровно обмахиваясь шёлковым веером, заявил повскакавшим с мест от изумления офицерам, что я только что от Унгерна из Урги, и что я – его гость, поэтому всякое нанесённое мне оскорбление он будет считать личным оскорблением».
Если Першин писал через полтора десятилетия после казни Унгерна, то Волков – летом 1921 года, прячась от китайцев на сеновале у знакомого бурята в Хайларе и ещё не зная, чем закончился поход Азиатской дивизии на север. Его цель – раскрыть глаза современникам. «Стоит ли писать об этом? – так начинает он свои записки. – Не знаю. Часто я задаю себе этот вопрос. Поверил ли бы я тому, о чём хочу рассказать, если бы сам не пережил тех кошмарных кровавых дней, если бы, встав рано утром где-нибудь в мирном городе, за чашкой кофе пробежал страницы чужих, полных ужаса слов? Всегда я отвечаю отрицательно. Слишком нереально, слишком нелепо всё пережитое».
Позднее Волков издал сборник своих стихов, его очерки печатались в американских журналах. В США он написал роман, мечтал о писательском успехе, но в этих его записках, без затей озаглавленных «Об Унгерне», нет и намёка на какие-то литературные красоты. Это глас вопиющего в пустыне, где никто не хочет знать правду, гибрид памфлета с мартирологом, реестр убийств, каталог бессмысленных и циничных преступлений.
Перед Першиным стояли совсем другие задачи. Огонь давно потух, можно было без опаски ворошить остывшие угли. В его мемуарах все события тех месяцев, даже самые страшные, разворачиваются на фоне городской топографии, привычного быта и безмятежных монгольских пейзажей. «В Урге наступила сухая, как всегда, и холодная осень, – вспоминал он недели, последовавшие за первыми двумя штурмами города. – Вся долина реки Толы, вдоль которой протянулась столица, и окружающие её плоские горы без единого деревца были затянуты скучным, серо-жёлтым, блёклым покровом засохшей травы. Это однообразие пейзажа приятно контрастировало с массивным кряжем священной горы Богдо-Ула, густо покрытой хвойными разных пород».
2
Иная Монголия встаёт со страниц книги поручика Азиатской дивизии Николая Князева. Её красота неоспорима, но тревожна, природа в своём вечном величии не обнажает пустоты и суетности людских страстей, напротив – подчёркивает их энергию. «Барханы следовали за барханами, покрытые местами сероватым снегом и выцветами соли, – описывает Князев преследование китайских войск в Гоби. – В промежутках между их волнами сияли короткие охряные горизонты. Слышалось поскрипывание вьюков и учащённое дыхание верблюдов. Мерно раскачиваясь на ходу, то поднимаясь на бархан, то вновь погружаясь в овраги, проплывал отряд версту за верстой, и к вечеру тени, падающие от верблюдов, принимали гигантские размеры».
В Монголии Князев вёл дневник, а в 1942 году, в Харбине, издал книгу «Легендарный барон». Работать над ней он начал ещё в 1930-х годах и, в отличие от Першина и Волкова, свой многолетний труд считал, видимо, главным делом жизни. Уроженец Петербурга, Князев окончил юридический факультет Московского университета, был офицером военного времени, потом бежал в Сибирь и попал к Унгерну ещё в Даурии. Одно время он возглавлял дивизионную контрразведку, наверняка на нём было немало крови, отсюда его желание во всём оправдать Унгерна, чтобы оправдаться самому. Тем не менее литературная одарённость Князева несомненна, а главного героя своей книги он знал так хорошо, что мог определить его настроение по опущенному или закрученному вверх правому усу.
В предисловии Князев настаивает, что изобразил Унгерна таким, каким тот «преломился в сердце его соратника, пройдя через призму зрелого сознания». Однако ценность этой талантливо написанной книги – не в «зрелом сознании» бывшего осведомителя, в эмиграции ставшего полицейским агентом, а в умении с завораживающей яркостью воссоздать картины двадцатилетней давности, когда автор был молод, полон сил, дышал воздухом иного мира и, поднявшись на сопку над полем боя с китайцами, мог увидеть и на всю жизнь запомнить, как «по широкой пади, розовой от первых лучей торжественно восходящего солнца, быстро продвигались разошедшиеся веером семь конных колонн».
Если Волков – самый яростный из обличителей барона, Князев – самый пылкий из его апологетов, то полковник Михаил Торновский – самый, пожалуй, объективный из всех, кто писал об Унгерне, и единственный, кто чувствовал себя обязанным подняться над собственными чувствами во имя высшей правды. Ему казалось, что он на это способен.
«За прошедшие двадцать лет, – пишет Торновский в предисловии к своей книге, – ко мне обращалось много лиц, прося дать материалы о событиях в Халхе 1920—1921 годов, участником которых я поневоле очутился, но все эти просьбы я отклонял, так как у меня самого не выкристаллизовалась беспристрастная оценка ряда событий. Историческая правда выясняется спустя много времени. Участникам событий трудно отрешиться от личных взглядов, и мне нужно было бы подождать писать на эту тему ещё лет десять, но боюсь, – трезво заключает он, – что не проживу их».
Торновский – иркутянин, кадровый офицер, у белых командовал полком, а после падения Колчака застрял в Урге. Он прибыл сюда, «имея в кармане один серебряный доллар», но коммерческая жилка и должность церковного старосты помогли ему наладить связи в русской колонии. Узнав, что в монгольской столице плохо с дровами (рубить лес на расположенной рядом священной горе Богдо-Ула строжайше запрещалось), он организовал доставку дров с дальних лесных дач, начал разработку залежей горного хрусталя в пещерах на Хэнтее, подумывал о рыбных промыслах на озере Хубсугул, но вся эта деятельность была прервана появлением Унгерна. Торновского мобилизовали, он служил начальником штаба в бригаде генерала Резухина, а после его убийства благополучно провёл остатки бригады от Селенги до китайской границы. Позже он обосновался в Шанхае, работал в эмигрантских издательствах и газетах, и здесь же в течение двух лет, с 1940 по 1942 год, написал свою книгу, при его жизни не увидевшую свет даже в отрывках[81]81
Опубликованы С. Л. Кузьминым (Легендарный барон: Неизвестные страницы Гражданской войны. М., 2004).
[Закрыть].
3
Не похожи один на другой голоса ещё двоих свидетелей – военного врача Никандра Рябухина (Рибо) и есаула Алексея Макеева. Они представляли собой две различные группы унгерновского офицерства: первый – бывших колчаковцев, разными ветрами занесённых в Монголию, второй – тех, кто пришёл сюда из Даурии вместе с бароном.
Прилагательное «колчаковский» с добавлением любого ругательства определяло отношение таких, как Макеев, к таким, как Рябухин. Отношения между ними были напряжёнными, а то и откровенно враждебными. По сути дела, это был всё тот же конфликт между каппелевцами и семёновцами, но осложнённый новыми обстоятельствами. «Коренные» даурцы с оружием в руках прошли всю Монголию, трижды штурмовали столицу и захватили её, а в итоге были вытеснены на вторые роли более образованными и опытными колчаковскими офицерами, мобилизованными или добровольно влившимися в Азиатскую дивизию после взятия Урги.
Её ветераны ненавидели этих людей, те платили им презрением. Из ближайших соратников барона по Забайкалью, им же и произведённых в офицеры, один раньше был денщиком, второй – содержателем трактира, третий – извозчиком, четвёртый – полицейским, а большинство колчаковцев составляли настоящие фронтовики. Попадались люди с университетским образованием, кадровые военные вплоть до генштабистов. Те и другие на происходящее вокруг смотрели, естественно, по-разному.
Рябухин – оренбуржец, в прошлом личный врач атамана Дутова. В Монголию он попал из Синьцзяна, где были интернированы остатки Южной (Оренбургской) армии, служил в ургинском госпитале, затем возглавил походный госпиталь дивизии. В августе 1921 года Рябухин стал одним из руководителей заговора против Унгерна, которого считал маньяком и садистом. При этом в монгольских делах он разбирался плохо, мало ими интересовался и писал лишь о том, что видел своими глазами.
Иной фигурой был Макеев – адъютант Унгерна. По приказу барона ему приходилось исполнять «разовые экзекуции», хотя никакой природной склонности к заплечному ремеслу он не имел, в конце концов заплатил нервным расстройством за эту случайно доставшуюся ему должность и был переведён из палачей в осведомители. При мятеже в Азиатской дивизии он вовремя переметнулся на сторону заговорщиков, остался жив и в 1934 году, в Шанхае, выпустил книжку под названием «Бог Войны – барон Унгерн». Она стала первым посвящённым ему отдельным изданием и пользовалась большим успехом не только среди русских в Китае; отрывки из неё публиковали эмигрантские газеты по всей Европе.
Книжка написана от третьего лица, автор вывел себя под прозрачным именем есаула М., храбреца и человека чести. В ночь мятежа он пытался застрелить Унгерна, но это не помешало ему сохранить «тёплую память о своём жестоком, иногда бешено-свирепом начальнике»[82]82
Стоит отметить, что оба главных апологета Унгерна, Князев и Макеев, были причастны к карательным акциям.
[Закрыть]. В бесхитростно рассказанных им историях всё перемешано, всё изложено с одинаковой лихостью и тяжеловесно-витиеватым юмором – подробности убийств и экзекуций, походы и сражения, бегство в Китай и коронация Богдо-гэгэна. Это взгляд человека, в далёкой юности подхваченного стихией, а теперь раздираемого двумя противоречивыми чувствами – ностальгическим преклонением перед мощью владевшего им урагана и понятным желанием ощущать себя не просто жалкой песчинкой в его потоке.
Седьмой голос принадлежит 43-летнему журналисту и литератору Антонию Фердинанду Оссендовскому, впоследствии – польскому писателю с мировым именем. После революции он преподавал химию в Томском политехникуме, поэтому в Урге его называли «профессором». Возможно, он сам так представлялся, хотя был всего лишь приват-доцентом. Летом 1917 года он издал брошюру, в которой уличал Ленина как агента германского Генштаба, и при большевиках счёл за лучшее перебраться из Петербурга в Сибирь. Какое-то время Оссендовский служил в Осведомительном отделе при Ставке Верховного правителя в Омске, с приближением красных бежал в Монголию. По его рассказам, он безуспешно пытался проникнуть в Индию через Гоби и Тибет, пережил множество опасностей, спасался в пустыне от разбойников, слышал «страшные дикие голоса, раздававшиеся в ущельях и горных пропастях», видел «горящие озёра» и скалы, чьи складки «в лучах заходящего солнца напоминали мантию Сатаны», но вся эта героическая авантюра – плод небескорыстной писательской фантазии, рассчитанной на читательский интерес. С Унгерном он познакомился весной 1921 года и в течение нескольких дней был его постоянным собеседником.
Незадолго перед тем как Азиатская дивизия выступила из Урги на север, Оссендовский уехал в Америку. Через год в Нью-Йорке на английском вышла его книга «Звери, люди и боги», сразу же переведённая на многие европейские языки и ставшая бестселлером. Монголия и Унгерн, поданные в соответствующей упаковке, оказались ходким товаром. Книгу цитировали на заседаниях британского парламента как беспристрастное свидетельство очевидца, но Свен Гедин, шведский путешественник по Центральной Азии, обвинял автора в недобросовестности. В Париже состоялся публичный диспут, на нём Оссендовский с успехом отражал нападки оппонентов. Тон задавали корреспонденты советских газет, но и русские эмигранты не разделяли восторгов европейской публики. В Оссендовском они увидели «новую Шахерезаду», хотя свои литературные узоры он расшивал всё-таки по реальной канве.
В голосе Оссендовского чувствуется оттенок фальши, но таков уж его природный тембр. Во всяком случае, почти всё рассказанное им об Унгерне подтверждается или протоколами допросов самого барона, или другими мемуаристами. То, что воспринималось как фантастика, оказалось правдой. Если Оссендовский что и сочинял, так это свои приключения и мистические откровения, которыми якобы одаривали его монгольские ламы, включая Богдо-гэгэна. В остальном он лишь приукрашивал свою роль в реальных событиях и тщательно утаивал неудобные для себя факты. Не стоит искать у него признаний в том, что последний, печально известный приказ Унгерна по дивизии частично вышел из-под его пера, или что в Урге он как химик участвовал в опытах по производству химического оружия.
Расположение к нему барона Торновский объясняет просто: Унгерн рассчитывал, что «профессор» за границей «опишет его в ярких красках, достойных кинокартины». Похоже, это недалеко от истины. Оссендовский сообщает, что, узнав о его дневнике, Унгерн захотел прочесть записи о себе и, прочитав, написал на обложке тетради: «Печатать после моей смерти». Судя по этой резолюции, собственный образ показался ему приемлемым. Загадочный, никем не понятый одинокий пророк, грозный, но справедливый мститель, потомок крестоносцев в костюме монгольского хана – таким он хотел видеть себя сам и таким его изобразил Оссендовский. Одобрение первого читателя предвосхитило успех у последующих[83]83
Унгерновская эпопея породила такое количество легенд и вызвала настолько полярные оценки, что многие её участники и свидетели по разным мотивам сочли своим долгом написать о ней. Кроме тех, о ком рассказано в этой главе, до нас дошли обстоятельные и достоверные воспоминания бывшего офицера Азиатской дивизии Голубева (имя, отчество и биография неизвестны), енисейского казака К. И. Лаврентьева, колчаковцев Д. Д. Алёшина, К. Гижицкого, С. Е. Хитуна и др. Многие из них, в том числе записки Голубева и Лаврентьева, впервые опубликованы С. Л. Кузьминым (Барон Унгерн в документах и мемуарах. М., 2004).
[Закрыть].
ГРАД ОБРЕЧЁННЫЙ
1
Русское, но принятое и европейцами название столицы Монголии происходит от слова орго – ставка. Китайцы называли её Богдо-Хурэ («священный монастырь»), монголы – Их-Хурэ («большой монастырь»). В декабре 1911 года, после коронации Богдо-гэгэна, город был официально переименован в Нийслэл-Хурэ («монастырь-столица»), а ещё 13 лет спустя стал Улан-Батором.
Урга раскинулась вдоль реки Толы, в долине, которая своим мягким ландшафтом напомнила одному бывалому путешественнику «роскошные долины Ломбардии». Тола здесь течёт почти точно с востока на запад; город находился на её правом берегу и в начале XX века состоял из группы отдельных поселений. Калганский тракт связывал его с Китаем, Кяхтинский – с Россией; по этим же дорогам шли телеграфные линии. Обочины были густо усеяны костями павших лошадей, быков, овец и смутно белели даже в темноте.
Те, кто направлялся в Ургу с севера, из России, въезжали в неё с запада. Первое, что они видели, был раскинувшийся на пологом склоне холма справа от дороги старейший столичный монастырь Гандан-Тэгчинлин – «Большая колесница совершенной радости». От других столичных монастырей он отличался строгостью нравов. Женщины должны были обходить его по окружной дороге, мужчинам-иноверцам тоже запрещалось здесь появляться. Это был город богословов, Афины северного буддизма. За пределами Тибета лишь Гандан имел право присуждать учёные степени теологам, но кроме них тут обучались врачи и астрологи. Здесь выставлялись для поклонения высушенные, покрытые золотой краской и превращённые в изваяния-шарилы[84]84
Шарил (от санскр. шарира) – вид мумифицирования тел монгольских правителей и представителей высшего ламаистского духовенства.
[Закрыть] тела двух предшественников Богдо-гэгэна VIII, считавшихся пятым и седьмым перерождением тибетского подвижника Даранаты. В 1904 году, бежав из занятой англичанами Лхасы, в Гандане поселился Далай-лама XIII; для встречи с ним из Петербурга тогда приезжал знаменитый буддолог Фёдор Щербатской.
Над многоярусными черепичными кровлями дуганов возвышался простой и мощный, башнеобразный белый храм Мэгжид Жанрайсиг, посвящённый Авалокитешваре Великомилосердному (по-монгольски – Арьяболо); его земным воплощением считались далай-ламы. Внутри стояла громадная ростовая статуя этого бодисатвы из позолоченной бронзы высотой 80 локтей (более 25 метров), изделие китайских литейщиков из монастыря Долон-Нор. Статую по частям доставили в Ургу и смонтировали на месте. Находясь под ней, снизу можно было разглядеть лишь пьедестал в форме лотоса и укутанные шёлком колени бронзового исполина[85]85
В 1930-х годах статуя была разобрана, вывезена в СССР и, по всей видимости, пошла на переплавку. Попытки разыскать её следы, предпринятые в конце 1980-х, оказались безуспешными. В 1996 году восстановленная на средства от народных пожертвований статуя Авалокитешвары была воссоздана командой скульпторов под руководством народного художника МНР Н. Жамбы.
[Закрыть]. Подавляющее и вместе с тем волнующее чувство собственной малости, которое испытывали кочевники рядом с этим колоссом, один русский скиталец времён Гражданской войны сравнил со своими чувствами при виде Кёльнского собора. Полая внутри, статуя была заполнена священными книгами, субурганами разных размеров, в том числе из сандалового дерева, можжевеловыми палочками для воскурений и прочими сокровищами. Её окружали 10 тысяч статуэток Будды Аюши, покровителя долгоденствия; все они были отлиты на варшавской фабрике Мельхиора.
На сооружение Мэгжид Жанрайсиг ушла львиная доля кредита, который правительство Николая II предоставило правительству Богдо-гэгэна для создания армии и развития экономики. Русские дипломаты регулярно пеняли монголам на нецелевое расходование полученных средств, но протесты ни к чему не привели, строительство продолжалось, пока в 1914 году не было завершено. Немец Герман Констен наблюдал эту стройку в самом разгаре, и множество рабочих вкупе с архаичными подъёмными приспособлениями произвели на него приблизительно то же впечатление, какое могло вызвать у современного европейца возведение египетских пирамид.
В полуверсте от Гандан-Тэгчинлина, если двигаться на восток, начиналась центральная часть города – Хурэ (русские назвали её «Куренём»). Она имела форму неправильной подковы, разомкнутой на юг, в сторону Толы. На противоположном, левом берегу вздымались величественные лесистые кряжи священной Богдо-Улы, с другой стороны тянулись голые сопки гряды Чингильту-Ула. Над ними господствовала гора Мафуска, увенчанная мачтой радиостанции.
На западе Хурэ жили китайцы. Это был богатый буржуазный район с усадьбами из нескольких смежных внутренних дворов, отгороженных от улицы глухой стеной с фигурными, ярко раскрашенными воротами. Отсюда, над ложем Толы, одна над другой шли две широкие террасы. Нижняя представляла собой тибетский квартал; на верхней, в бревенчатых домах со ставнями и резными наличниками, жили самые давнишние из русских колонистов. Ещё восточнее располагался Захадыр – центральный базар, самое оживлённое место в городе. Во время осады Урги к его лавкам стекались за информацией китайские и унгерновские шпионы; все новости тут становились известны раньше, чем в штабе Чу Лицзяна или канцелярии Чэнь И. На Захадыре «бился пульс ургинской розничной торговли», а местом заключения крупных оптовых сделок были четыре-пять китайских улиц между Ганданом и главным монастырём Урги – Да-Хурэ. По традиции никакая купля-продажа не должна производиться вблизи храмов – ближе, чем слышен удар храмового гонга, но китайцы втиснулись сюда вопреки протестам ламства и удержались благодаря поддержке Пекина.
Собственно Да-Хурэ лежал за овражистым руслом впадающей в Толу речки Сельбы. В нём и вокруг него была сосредоточена большая часть монгольского населения Урги. Ламы жили в юртах, обнесённых оградками из жердей, но многие князья выстроили себе деревянные или глинобитные «бейшины». Каждый из двадцати шести хошунов Халхи имел тут своё представительство с чиновником и писарем-бичакчи. Над массивом юрт и двориков царили два ориентира – полукруглый, обитый листовой медью, купол храма Майдари-Сум[86]86
Будда Майдари (инд. Майтрейя) – владыка будущего, буддийский мессия.
[Закрыть], и золочёная крыша Шара-ордо, Жёлтого или Златоверхого дворца Богдо-гэгэна. Другой его дворец, который русские называли Зимним, а монголы – Зелёным, изолированно стоял на берегу Толы.
В центре Да-Хурэ простиралась огромная, пустынная, но в праздники заполняемая тысячами паломников площадь Поклонений. Перед ней стояли трёхарочные въездные ворота с изящными черепичными кровлями – дар последнего, как оказалось, китайского императора последнему, как скоро выяснится, ургинскому хутухте.
Не считая мелких кумирен, на площадь Поклонений так или иначе выходили все основные святыни столицы: пережившая три столетия и считавшаяся священной гигантская юрта Абатай-хана, который первым из князей Халхи принял буддизм; Майдари-Сум и тантрийский Тэгчин-Калбын-Сум, личный храм Богдо-гэгэна, примыкавший к его Златоверхому дворцу. Особняком стоял Цогчин – первый соборный храм Урги, громадный деревянный шатёр, вмещавший две с половиной тысячи молящихся. Его своды опирались на 108, по числу титулов Авалокитешвары, колонн из хангайской лиственницы[87]87
Все эти храмы, как и Летний дворец Богдо-гэгэна, были разрушены в 1930-х годах.
[Закрыть].
В южном сегменте площади группировались все государственные учреждения (ямыни). Здесь же располагалась резиденция Чойджин-ламы – родного брата Богдо-гэгэна VIII и главного оракула, якобы предсказавшего Семёнову его великое будущее; дальше вновь шли китайские кварталы с лавочками, дешёвыми харчевнями, цирюльнями, шорными и скорняжными мастерскими. Этот район русские называли Половинкой.
«От Половинки, – пишет Першин, – далее на восток дорога поднимается на безотрадное полугорье, голое и каменистое, занимаемое Консульским посёлком». Здесь находился комплекс зданий российского консульства с квартирами служащих и офицеров конвоя, казармами, почтой, типографией, школой монгольских драгоманов и православной церковью. Ещё дальше тянулась единственная улица длиной версты в полторы, вдоль неё стояли дворы русских купцов, скотопромышленников, торговцев, ямщиков. В начале этой улицы выделялось самое большое в городе двухэтажное кирпичное здание бельгийской золотопромышленной компании «Монголор». Накануне Первой мировой войны в нём обосновался дипломатический агент Орлов со своим штатом. Другие иностранные консульства и концессии находились в китайской части столицы. Помимо русского флага над ней развевались американский, британский, датский (датчане строили телеграфные линии), бельгийский и почему-то греческий.
Русская колония имела выборные органы управления, больницу и коммерческое училище[88]88
При нём в разгар Гражданской войны выпускалась вполне аполитичная газета «Юный колонист», в кинематографе «Иллюзион» перед сеансами читались лекции типа «Любовь с естественно-исторической точки зрения» (прочитана 25 апреля 1919 года неким Барташевым). О событиях в России здесь знали мало, да и узнать было непросто; в книжной лавке Годченина бешеным спросом пользовались случайно попадавшие в Ургу отдельные номера сибирских газет.
[Закрыть]. До революции её численность определяли приблизительно в 500 человек, но потом она стала быстро расти, особенно после разгрома Колчака, когда в Монголию хлынули беженцы из Сибири. К приходу Унгерна в ней насчитывалось около трёх тысяч русских. Процент интеллигенции был, наверное, не меньший, чем в Москве и Петербурге.
От Консульского посёлка дорога вела к Маймачену. Практически это был отдельный китайский город в трёх-четырёх верстах от центра Урги. При Цинах здесь проживал пекинский наместник-амбань, покинувший Монголию в 1911 году. Через восемь лет его место занял генерал Сюй Шучжэн, а на смену ему пришёл Чэнь И. В казармах рядом с Маймаченом размещалась большая часть столичного гарнизона. Солдаты в тогдашнем Китае – это отбросы общества, их старались держать подальше от жилых кварталов.
«В один из вечеров над Ургой зашла туча и разразилась гроза со страшными раскатами грома, – писали томские профессора Боголепов и Соболев, побывавшие здесь в 1912 году. – Фонарей в огромном городе нет, было темно, как ночью, и каждый удар грома сопровождался криком: «“А-а-а!” Это монголы выражали свой страх перед грозой. Судя по крику, в Урге великое множество монголов, но никто не знает, сколько в ней жителей».
Позже со статистикой тут обстояло не лучше, население столицы оценивали в 60, 80 и даже в 100 тысяч человек. Труднее всего было назвать численность монголов – она зависело от сезона и дат религиозного календаря. Сотни и тысячи юрт то покрывали склоны окрестных холмов, то исчезали. Островами среди волн этого изменчивого степного моря были монастыри, в них проживало не то 20, не то 30 тысяч послушников и лам. Их оранжевые и бордовые одеяния попадались всюду, но в уличной толпе заметно преобладал синий цвет китайских халатов – китайцы составляли до двух третей постоянных жителей Урги.
Зимой сюда съезжались монгольские князья с домочадцами и свитой, однако живущих здесь круглый год простых монголов было немного. Торговлей они почти не занимались, хотя их ближайшие родичи, буряты, держали в руках весомую долю ургинской коммерции. Среди выходцев из России немало было евреев и татар. Быстро росла японская колония; один из её членов, как в 1919 году доносил в Омск местный колчаковский агент, открыл первый в Урге публичный дом, чтобы через женщин выведывать секреты русских и китайских клиентов[89]89
В крупных городах Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии многие публичные дома принадлежали японцам – они славились как самые умелые и жестокие сутенёры.
[Закрыть]. Время от времени появлялись западноевропейские и американские дипломаты, коммерсанты, инженеры, миссионеры и просто авантюристы вроде беглого датского матроса Франца Ларсена, харизматичного конокрада, любимца Богдо-гэгэна и его жены Дондогдулам, которую он учил стрелять из винчестера.
В районе Захадыра и Половинки, на узких улочках, стиснутых заплотами из неошкуренных лиственничных стволов, было многолюдно. В толчее проходили обозы и верблюжьи караваны, проезжали всадники и китайцы-велосипедисты, но не такой уж большой редкостью считался и автомобиль. На Калганском тракте существовали газолиновые пункты для заправки горючим. Работала электростанция на угле из Налайхинских копей, кое-где в домах по вечерам зажигалось электричество. Имелся кинематограф, куда монгольские князья приезжали со всеми домочадцами, как на праздник. Телефонная сеть насчитывала до сотни абонентов.
Русские считали Ургу типично азиатским городом, однако японцы утверждали, что такого города нет больше нигде в Азии. Лестный титул Северной Лхасы определял суть монгольской столицы не многим точнее, чем сравнение с Северной Венецией применительно к Санкт-Петербургу. Через свои святыни и обитающего в ней Живого Будду связанная с сакральными силами, но несравненно шире открытая миру, чем Лхаса настоящая, где даже швейные машинки находились под запретом, Урга являла собой уникальное сочетание монастыря и ханской ставки, рынка и богословской академии, Востока и Запада, современности и Средневековья.
Монголы не сжигали и не зарывали своих мертвецов, а оставляли в степи на съедение хищникам. Это был последний доступный человеку подвиг самопожертвования – после смерти он должен был собственной плотью послужить на благо других живых существ, чтобы обеспечить себе благоприятное перерождение. Если труп долго оставался несъеденным, родственники покойного начинали беспокоиться. В Урге вместо волков, лис и грифов-стервятников роль могильщиков исполняли собаки. За пару часов от вынесенного в сопки мёртвого тела оставался голый скелет, но обилие человеческих костей в окрестностях столицы никого не смущало – для буддиста скелет символизирует не смерть, а начало новой жизни.
«Ни водопровода, ни канализации, ни мостовых, ни освещения, – констатирует Торновский. – Санитарной частью заведовали солнце, ветер, холода, собаки и чистый воздух. Благодаря им в Урге почти не было инфекционных заболеваний».
Громадные стаи полудиких собак обитали на городских свалках и в тех местах, куда выносили трупы, по ночам их лай и вой «сливались в шум, подобный резкому воющему ветру и звуку морского прибоя». В сопках между Гандан-Тэгчинлином и Да-Хурэ, где этих пожирателей мертвецов было больше всего, ночная встреча с ними могла стоить жизни одинокому путнику – иногда они нападали и на живых. Европейцы, признавая их необходимость, относились к ним с опасливым омерзением, а монголы – с почтением. Несколько особенно крупных экземпляров этой породы были представлены в зверинце Богдо-гэгэна.








