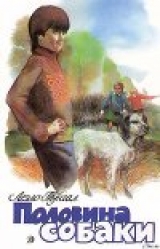
Текст книги "Половина собаки"
Автор книги: Леэло Тунгал
Жанр:
Детские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
ЛЕТО ПЕСТРОЙ БАБОЧКИ

Я сидела на большом сером камне, положив подбородок на колени и обхватив их руками. Кто выдумал фразу «счастливое детство»? Наверное, какой-нибудь очень старый и очень несчастный человек… Сейчас я хотела быть старой или хотя бы взрослой, которая может приходить и уходить когда угодно и куда угодно. Ушла бы очень далеко – туда, где меня никто не знает, и ушла бы сразу! Вернулась бы лет через двадцать, а может, не вернулась бы никогда…
Вода тихонечко плескалась о камень, озеро блестело и переливалось розовым, голубым и желтым, словно в нем полоскали тысячи кисточек из-под акварельных красок. Поодаль в камышах шебаршилось семейство уток. Родители-утки время от времени спорили о чем-то на своем утином языке. Может быть, они обсуждали проблему воспитания своих детей…
И вдруг я представила себе, как в космосе вращается планета Земля: зеленый, голубой, желтый шар, который до того огромен, что маленькое зарастающее озеро Лауси ничего для него не значит, а уж этот серый валун, на котором сидит десятилетняя девчонка, и подавно. Было такое ужасное, грустное чувство одиночества, что хотелось сочинять стихи, кричать или плакать. Но плакать я была больше не в состоянии – слезы кончились. Кричать было неловко, совсем неподалеку виднелся маленький желтый дом, в котором жила семья художника Сунилы. Что бы они там сказали, если бы услыхали, как я ору ни с того ни с сего? Подумали бы небось, что Тийна спятила. Сочинять стихи о том, что я чувствовала сейчас, не получалось. Настоящие поэты, наверное, умеют превращать грусть в стихи, – скажем, так: «Пламенеет озеро на заре и сверкает как золото…»
О грусти в том стихотворении вроде бы ничего не говорится, и, однако же, когда читаешь его, становится грустно. Но как должна писать стихи та, которую никто не любит, даже ее собственная мать? И отец у нее не родной, и ее дразнили раньше и скоро опять начнут дразнить «Водка-Тийна»…
За все свое «счастливое детство» я была счастлива лишь один год. И сегодня это прекрасное время вдруг кончилось. А ведь могло бы оно продлиться хотя бы до Нового года, или хотя бы еще две недели – до моего дня рождения – мог бы задержаться со своим приходом этот сегодняшний недобрый день.
Сегодня утром мы всем классом поехали в Карилу. И я ведь очень хотела поехать туда вот так, как сегодня: празднично одетая и хорошо причесанная, сидя в автобусе рядом со своей соседкой по парте, которую зовут Пилле. Мне хотелось поехать в Карилу и показать Карилаской школе, что я не глупая, грязная и ленивая девчонка, как, похоже, они все там думали, что я не Золушка, но даже если и была ею, то теперь обратилась в принцессу. Правда, у меня не было ни кареты из тыквы, ни лошадей, в которых превратила мышей добрая фея, ни самой доброй феи, но был дядя Эльмар, муж моей мамы, которого я все никак не могу назвать отцом, – честный и порядочный работяга. «Если они там, в Кариле, станут спрашивать, как нам живется в Майметса, немного преувеличу, – решила я утром, – скажу, что у меня целых две свои комнаты, хотя уже то, что у меня одна-единственная совершенно своя комната, наверняка окажется для них потрясением! Уж у Вармо-то челюсть отвалится, а это главное. Но ему еще придется услышать, что у меня в табеле четверки только по физкультуре и математике, а по всем остальным предметам пятерки, и тогда до него небось дойдет, что он несправедливо обзывал меня тупицей и горемыкой, что никакая я не горемыка, как они все там, в Кариле, считали!»
Говорят, что утро вечера мудренее. И вот уже вечер, и я сижу здесь, на камне, и никого не хочу видеть. Что с того, что мой портрет в Майметса на школьной Доске почета! Я опять чувствую себя как Горемыка, Золушка, Скопище несчастий и Водка-Тийна – столько прозвищ было у меня в Карилаской школе. У хорошего дитяти всегда много имен… Но главное – сегодня я струсила и предала свой класс. Трусость и предательство всегда ходят рука об руку. Именно из-за моей трусости Майметсская школа, которую я так полюбила, проиграла товарищеские соревнования Карилаской школе, где на меня нагнали такой страх, что при одной мысли об этом потеют ладони.
В кармане зашуршала бумага. Я хотела себе назло еще раз перечесть угрожающее письмо Вармо, но под руку попалась в кармане совсем другая бумага – та, на которой было записано мое приветственное стихотворение Карилаской школе:
Прекрасно, что мы встретиться смогли.
Мы расстояние преградой не считаем.
Мы дружбу вам в подарок привезли —
Теперь все вместе и споем и почитаем!
Это стихотворное приветствие я придумала сразу без переделок – тотчас после того, как Пилле сообщила мне свою великую новость и, наевшись красной смородины, умчалась обратно домой на новом складном велосипеде.
– Ой, Тийна, ты и не знаешь, за это время был милли-о-он событий! – тараторила Пилле. – Во-первых, в нашем классе новенький, его зовут Тынис, он приехал из города. У него большущая коллекция марок, штук пятьсот, наверное, в альбоме. И еще через неделю у нас будет встреча с Карилаской школой – товарищеские соревнования по шашкам, лапте и самодеятельности, и… Ах, да, Олав поймал двух настоящих преступников в школе, конечно, с помощью моего отца, но все-таки… Они с Мадисом построили катамаран. Вообще-то это такой плот, вернее, часть старого забора, но мы точно и не знаем, каким должен быть катамаран. И мы на нем плавали по озеру, это было здорово! Ах да, ты должна написать об этом стихотворение, учительница Маазик сказала.
– Но я ведь тоже не знаю, что за штука этот катамаран.
Пилле рассмеялась:
– Нет, не о нем, о товарищеской встрече надо написать стих! Ну, мол, добро пожаловать!.. Нет, добро пожаловать не годится, ведь мы сами едем туда. Ты напиши, мол, мы рады встретиться с вами, все-таки соседи… Или что-нибудь в этом роде.
– Мы поедем в Карилу?
– Знаешь, раньше наша школа с этой школой дружила, теперь надо обновить отношения! – объясняла Пилле.
Я сразу подумала: а как мать отнесется к тому, что я поеду в Карилу, да еще буду там читать стихи? Но Пилле сама уладила это: она заметила, что моя мама собирает смородину в саду, пошла к ней и сказала вежливо, как взрослая:
– Здравствуйте, Тийнина мама! Я соседка Тийны по парте – Пилле Сийль и пришла сообщить Тийне, что в следующую субботу наш класс встречается в Кариле с тамошним четвертым… Вернее, пятым классом. Классная руководительница просила, чтобы Тийна написала на этот случай стихотворение. Знаете, Тийна у нас прямо настоящий писатель!
– Да неужто? – изумилась мама и спокойно продолжала собирать ягоды в манерку. Заметив, что Пилле ждет ее ответа, мама сказала: – Ну, наверно, она сама знает, поедет или нет.
– Как хорошо, что вы разрешаете! – обрадовалась Пилле. – У вас такие красивые крупные ягоды – прямо жемчужины. Моя мама тоже обещала посадить у нас за домом кусты смородины и яблони. Знаете, вокруг нашего дома так пустынно… и асфальт прямо как в городе!
– Кем работает твоя мама?
– Она учительница музыки… Знаете, она в свое время окончила консерваторию, но потом упала и сломала руку. Пианисткой она больше быть не смогла, но отец говорит, что в этом наше счастье, иначе она вряд ли стала бы учительницей в деревенской школе. Я тоже немножко учусь играть на рояле, но у меня не хватает усидчивости! – тараторила Пилле. – В наш класс поступает теперь новый мальчик, он играет жут… очень хорошо на гитаре, и мы могли бы составить свой оркестр. Тийна могла бы взять себе барабан или триангль. Ведь у поэтов хорошее чувство ритма…
И тут мой маленький братик заплакал в комнате, наверное, он только что проснулся, но мама не сказала: «Тийна, сходи и посмотри, что там с ним», как она обычно командует, а пошла в комнату сама, посоветовав Пилле:
– Можешь смело полакомиться нашей смородиной, да мы ведь и не успеем все сами собрать.
– У тебя та-а-кая замечательная мать! – восхищалась Пилле.
– Мхм, – пробормотала я, краснея, а сама подумала, как было бы здорово, если бы Пилле сказала об этом и в Кариле. Отцу Вармо, и матери Вармо, и тете Альме, и Малле Хейнсаар, и…
До чего прекрасный был день! Пилле, набив рот смородиной, села на велосипед и крикнула:
– Утежу задо! – Она рассмеялась так, что красные ягоды полетели изо рта, и перевела: – У тебя жутко замечательный дом! Ну пока!
Пестрая бабочка… Пестрая бабочка пролетела над камышами. И, вспоминая теперь, мне показалось, что в тот послеобеденный час когда Пилле ела у нас смородину, летала над кустами точно такая же пестрокрылка. Пожалуй, такие пестрые бабочки летали тут все лето… Уже весной учительница Маазик сказала:
– Нынче у нас у всех будет лето пестрой бабочки – смотрите, две пестрые бабочки летают над ивняком!
Это было в начале мая, когда мы всем классом сгребали и убирали старую листву. Конечно, бабочка, летавшая сейчас над камышами, не могла быть одной из тех двух, что летали тогда над ивняком, – все парки, луга и леса были полны бабочек: желтых, белых, пестрых… Но нашему классу первыми явились пестрые бабочки-крапивницы.
– Есть старинное народное поверье, что у того, кто увидит весной первой пеструю бабочку, будет пестрое лето. А того, кто увидит желтую бабочку, ждет золотое лето. Белая бабочка означает вроде бы бледное и скудное событиями лето, – рассказывала учительница Маазик.
– Ну, учительница, это же предрассудки! – крикнул Эльмо.
– Не скажи! – возразила Труута. – Я точно помню, что в начале того лета, когда я ездила с тетей отдыхать в Крым, видела, честное слово, видела самой первой желтую бабочку! И действительно – это было золотое лето! Яблоки! Груши! Груши – больше моей головы вдвое!
– Этому я верю, и, как видно, одна из них там, в Крыму, упала тебе на голову! – поддел Трууту Мадис.
– Ах, твои шутки всегда такие плоские! – вздохнула Труута.
Учительница улыбнулась:
– Конечно, это суеверие, насчет бабочек, но ведь красивое, верно? А древние народные приметы, по которым предсказывали погоду, не просто выдумки. В старые времена не было ни синоптиков, ни радио, а газеты приходили на хутора не каждый день. Вот народ и следил внимательно за природой и делал свои выводы. Например, считалось, что, если зимой деревья стоят в густом инее, осенью будет большой урожай орехов. А если в новогоднюю ночь погода ясная и небо усыпано звездами, то в наступающем году у домашней скотины будет большой приплод. И то, что вас ожидает лето пестрой бабочки, пожалуй, не так уж далеко от истины – ведь у детей летом каких только приключений не бывает! Но кто оставил этот сиреневый куст не очищенным, а, бабочки?
– Кто этот куст приведет в порядок, тот в будущем году получит много пятерок! – крикнул Олав и сам бросился к кусту.
Но Мадис, наверное, тоже хотел получить много пятерок, поэтому они с Олавом столкнулись у куста лбами. На это Эльмо заметил:
– Кто в мае набьет себе шишку, того весь год будут звать Шишкой.
Услыхав это, Труута громко рассмеялась, а Мадис, держась рукой за лоб, огрызнулся:
– Если весной курица полетит, значит, осенью Труута поумнеет!
Вот так они цапаются постоянно. Но это не со зла – больше просто пробуют, кто острее на язык. Если у кого-нибудь случается беда, враз забывают о шуточках. У нас все-таки мировецкий класс!
Но что будет, если они услышат, каким скопищем бед я была, пока не поступила в Майметсскую школу… А вдруг они подумают, что я и на самом деле неудачница, что я только пустила пыль в глаза своим одноклассникам, как написал Вармо?
Захочет ли Пилле еще сидеть со мной за одной партой, если услышит, что в Карилаской школе я была двоечницей-троечницей, у которой тетради всегда были в каких-то грязных пятнах, а юбка всегда была жутко мятой, что по понедельникам я обычно прогуливала школу, бродя по лесу? Едва ли она захочет сидеть со мной, услыхав, что в Кариле моя соседка или сосед по парте считали для себя постыдным наказанием, если были вынуждены сидеть со мной. Труута, корчащая из себя утонченную дамочку, посмеивается над Мадисом за то, что он донашивает костюмы брата, которые стали тому малы. А что бы она сказала, увидав меня тогда в моей плохо сшитой блузе, из которой я, идя в школу, старалась выветрить запах табака, из-за чего осенью и даже зимой приходилось ходить в пальто нараспашку. Ой, об этом не хотелось даже думать!
Но может, Вармо все-таки честно сдержит свое обещание? Нет, не верится! Хотя я и сделала сегодня в Кариле так, как он потребовал, но когда мы уезжали и садились в автобус, Вармо сказал мне тихо и угрожающе: «Ну погоди, Горемыка, это еще только начало!»
Кажется совершенно невероятным, что еще сегодня утром я, счастливо взволнованная, шла в школу по сумеречной, пахнущей поздней земляникой тропинке через лес. Небо было таким голубым и чистым, какое бывает, пожалуй, лишь на почтовых открытках, а перед зданием школы цвели белые и красные флоксы. Учительница Маазик поставила нас всех по очереди спиной друг к другу, и в результате этого выяснилось, например, что я за лето стала выше Пилле, и Трууты, и других девочек. Только Майя была выше меня. И хотя Труута похвалялась своим новехоньким летним платьем из модного жатого материала, я совсем не чувствовала себя неловко в своей самодельной юбке. Тетя Марет, которая помогла мне сшить ее и сама «ради эксперимента» выкрасила в синий цвет вшитые в юбку кружева, сказала, что я могу в этой юбке даже участвовать в демонстрации мод. Хотя и говорят, что главное – красота души, но уж очень приятно сознавать, что на тебе красивая юбка! Распознать душу не так-то просто, а вот юбку сразу заметили все. Криста спросила:
– Где ты достала такое красивое темно-синее кружево?
– Та художница, которая живет в доме у озера, выкрасила, – ответила я.
На это Мадис покачал головой и сказал:
– Ишь ты, чего только не делается на свете ради красоты!
Сам-то Мадис был в новехонькой школьной форме, такой новехонькой, что, когда в автобусе повесил пиджак на «плечики», был виден ярлык с ценой, прикрепленный к подкладке.
– Ну и балда же я! – У Мадиса был смущенный вид. – Девчонки, есть у кого-нибудь с собой ножницы? Забыл дома отпороть этот ценник, так торопился!
– Мадис, у тебя новый костюм? – изумилась Труута.
– Хочешь, купи! – предложил Мадис. – Если у девчонки в августе спина голая, в сентябре у нее каплет из носа! Ах женщины – отправляетесь на товарищескую встречу, а никто не догадался взять с собой ножницы!
Мадис достал из кармана маленький ножичек и ловким движением перерезал нитку, на которой болтался ярлык.
– Мужики, оружие всегда должно быть при себе! – сказал он, закрывая ножичек. – Мало ли что может случиться, а вдруг навстречу выскочит дикий кабан или появится шпион!
Учительница Маазик вошла в автобус и пересчитала нас.
– Так, теперь, кажется, все?
– Даже больше, чем все, – ответил новый мальчик Тынис, пощипывая гитару, и кивнул головой в сторону Олава, который безуспешно пытался спрятать под сиденье свою собаку.
– Ой, Олав, ехать в гости с собакой не годится! – сказала учительница.
Олав принялся вытаскивать Леди за ошейник из автобуса. Леди грустно смотрела на него, но не очень сопротивлялась.
– Кое-кому и раньше не раз доставалось за лишние слова, – пробормотал Олав в сторону Тыниса. – Даун!
Дверки автобуса закрылись, и Леди осталась провожать нас взглядом.
– Не сердись, Олав, – сказала учительница. – Но идти с собакой в школу, да еще в чужую, действительно неприлично.
– Мх-мх, – сопел Олав. – Смотреть на такую собаку – дело чести, и не каждому такая честь положена. И всякие филателисты пусть не кашляют! – добавил он, глянув в сторону Тыниса.
Но Олав не злопамятный, поэтому, когда Тынис начал песню, задавая ритм гитарой, Олав вместе со всеми нами весело пел: «И радость, радость, радость в ду-у-ше у нас…»
Приятно и легко было ехать вот так и петь – Карила могла бы находиться и гораздо дальше, и дорога могла бы длиться вдвое дольше.
Чуть больше года назад этой же дорогой я ехала из Карилы, сидела в кузове с домашним скарбом, охваченная великим безразличием к новому дому, новой школе, новой жизни – не верилось, что хоть что-нибудь может измениться. Или все-таки надеялась?
Сегодня утром мы проехали мимо моего старого дома. Рядом с сохнущими на натянутой проволоке белыми простынями он выглядел еще более убогим и серым, чем раньше. Не знаю, кто там теперь живет: только ли старуха Альма, оставшаяся после нас в доме одна, или в нашу бывшую комнату вселилось новое семейство? И есть ли у них дети? И дразнят ли их тоже Горемыками? Белые кружевные гардины тети Альмы всегда далеко были видны, и ее красная пеларгония цвела постоянно. Тетя Альма – добрый человек, частенько она угощала меня бутербродом или жареной салакой, а однажды – в день рождения ее сына, который погиб на войне, – даже самодельным пирожным. Иногда, если мать не приходила ночью домой, тетя Альма приносила мне утром мисочку рисовой каши или холодную котлету, но чаще я приходила к ней в гости.
Комната тети Альмы была как бы не из нашего воронье-серого дома: белые вязаные салфеточки и скатерочки на всевозможных местах делали ее каморку похожей на музей народных промыслов. На стене висел в темно-коричневой резной рамке фотопортрет молодого человека с розовыми щеками и голубыми глазами. То был Ааго, сын тети Альмы, который погиб на войне. Под портретом на комоде стояла светло-розовая ваза с волнистыми краями, и в ней всегда были цветы. Я никак не могла поверить, что такой красивый молодой человек никогда уже больше не вернется к тете Альме. Когда я сказала ей об этом, она смахнула слезинку в уголке глаза и вздохнула:
– Нет, деточка, он больше не вернется никогда! Но бог уже скоро призовет меня к себе, тогда, наверное, мы и встретимся.
На другой картинке в комнате тети Альмы и был изображен сын божий Иисус Христос, измученно висевший на кресте, к которому его безжалостно прибили гвоздями так, что из рук и ног сочилась кровь. Тетя Альма учила меня молиться перед этой картинкой. Не знаю, что сказала бы Пилле, услыхав, что я, пионерка, молилась богу? Правда, тогда я еще не была пионеркой, училась только в первом классе, а молилась вместе с тетей Альмой только потому, что хотела, чтобы моя мать больше не пила. Я от всего сердца просила об этом бога, долго, пристально вглядывалась в картинку, и мне однажды показалось даже, что Христос кивнул, видимо, мне так сильно хотелось верить в чудесную силу картинки.
Но из-за этой веры мне пришлось здорово пострадать. Когда учитель на уроке рассказывал о мощном атомном ледоколе, я сказала: «А бог еще сильнее!» – и весь класс разразился смехом. После этого меня еще долго дразнили Божьей Овечкой. А однажды вечером мать заметила, что я в постели шепчу молитву, которой меня научила тетя Альма, и сильно рассердилась.
– Так вот как далеко дело зашло! – закричала мать и стала трепать меня за волосы. – Эта старушонка совсем тебе голову задурила! Чтобы ноги ее больше в нашей комнате не было! И немедленно прекрати у нее околачиваться! Как же ты можешь быть такой дурочкой? И что такое, по-твоему, этот бог?
Я сказала, что бог может творить чудеса.
– Чудеса? Ну ладно, если бог есть, пусть сотворит чудо и превратит наш телевизор в крокодила!
Я в ужасе зажмурилась и стала прислушиваться. Но не было слышно ни звука. Я чуть-чуть разжала веки, чтобы можно было подглядывать: телевизор стоял на своем месте и не имел ничего общего с крокодилом. Я не знала, радоваться мне или огорчаться. Боялась крокодила, но все же огорчилась, что чудес не бывает: ничего не меняется.
Во всяком случае, тем же вечером мать сходила к тете Альме, и после этого старушка больше никогда не рассказывала мне библейских сказок. Но и у нас долго не появлялось больше ни одного пьяного гостя. Ой, как же я боялась этих ужасных, каких-то коричневых с головы до ног людей – лица у них были коричневые, руки коричневые, одежда тоже. Каждый раз, когда они приходили, наше жилье наполнялось гвалтом, густым табачным дымом и противным запахом водки. Одного из этих мужчин – отца Вармо – я боялась как огня. Стоило ему только сесть за стол и раз-другой поднять стакан, белки его глаз делались красными, как у злого цепного пса. Да он и был злым. Он-то и разбил чашку с утенком, которую мать подарила мне в день рождения, и я так ценила ее, что не решалась пользоваться ею каждый день. Волли – так зовут отца Вармо – просто взял эту чашку со стола и швырнул ее об стену… Я потом пыталась склеить осколки, но это не удалось. Только ручку чашки, на которой была красивая золотая полоска, я долго хранила как дорогую память. А в тот раз я так отчаянно ревела, что мать испугалась и велела дяде Волли уйти. «Немедленно», – как она говорила обычно. Тогда Волли принялся меня утешать: щипал меня под подбородком, схватил мой нос своими скрюченными коричневыми пальцами и спросил заигрывающим, сальным голосом:
– Ну, Тийнчик, скажи, ты знаешь, откуда появляются дети?
Он был таким жутким, что я и пикнуть не осмеливалась.
– Волли, немедленно убирайся домой! – крикнула мать. – Что за насмешки над ребенком!
– Тсс-тсс! – успокаивал ее Волли. – Как же так, она не знает, что если у ребенка на спине ранец, то он явился из школы, если ранца еще нет, то из детсада! Хе-хе-хеэ! Да не хмурься ты, Линда, лучше посмотри, не осталось ли у тебя в шкафу еще чего-нибудь. Начал капать дождичок, пора детишкам на бочок! – крикнул он мне.
Кажется, я тогда и заснула плача, во всяком случае, когда я проснулась, подушка была мокрой от слез. Будильник мы забыли завести вечером, он не тикал. Мать спала на кушетке, она так и не раздевалась, даже кофту не сняла. Мне стало ужасно жаль ее, когда я увидела оставшийся в беспорядке стол, на котором стояло несколько пустых бутылок и между окурками лежали два засохших бутерброда с сыром. Мать моя, вообще-то, трудолюбивая, будь то мытье посуды и уборка комнаты – все у нее так и спорится. Но стоило прийти этим жутким гостям, ее словно подменяли. И как она в тот раз не смогла выгнать припершихся к нам нахалов? Одна-то она никогда не пила – и тогда мне с нею было очень хорошо. Иногда мать учила меня вышивать, иногда мы смотрели с нею вдвоем ее старый фотоальбом. В детском доме, где мать росла, она была, судя по фото, самой красивой девочкой: на более ранних снимках – с толстой светлой косой, позже – с красивыми густыми локонами. Мать ничего не знала о своих родителях. Грудным младенцем ее нашли в Яанов день возле какой-то кирки[8]8
Кирка – лютеранский храм, церковь.
[Закрыть], потому-то в ее паспорте стоит фамилия – Киркаль и отчество – Яановна. По-моему, это жутко захватывающая история, вроде «Стародревних историй эстонского народа», где рассказывается о похищениях и исчезновениях королевских дочерей. Когда мать в первый раз рассказала мне о своем детстве, я была уверена, что она похищенная принцесса. Но почему-то мать до сих пор сама не соглашается искать своих родителей. «Один раз попробовала – и хватит!» – говорит она сердито.
Впервые мать рассказала мне, что она – подкидыш, вскоре после гибели чашки с утенком. Но на следующее утро после гибели чашки, когда я проснулась, увидела, что будильник давно остановился, а за окном по-зимнему сумеречно. Я попыталась разбудить мать, наверняка ее уже ждали в коровнике на дойку. Но она только чуть разлепила веки и пробормотала: «Минуточку!» Когда же я стала ее трясти, чтобы она совсем проснулась, она разозлилась: «Оставь меня в покое! Марш в школу!»
Я быстро оделась, забросила ранец за спину и зашагала в школу – пальто, как всегда, нараспашку, чтобы одноклассники не стали насмехаться насчет запаха табака. В сумерках мне навстречу приближалась по шоссе сгорбленная фигура. Это был пастух Юссь, который всюду таскал с собой транзисторное радио, на сей раз оно стояло у него на финских санках… И я узнала, что уже девять часов тридцать минут. Юссь возвращался домой из коровника. Следовательно, мы с матерью обе опоздали – я в школу, она на работу. Такие неприятности случались за последние полгода уже не раз. Меня охватил ужас, когда я подумала про учителя математики Йохансона, чей урок я проспала, и мне сделалось грустно, когда я представила себе печальные голубые глаза классной руководительницы. Она вела у нас трудовое воспитание, и тихим голосом, таким же, как на уроке при рассказе о портновском искусстве, спрашивает: «Итак, Тийна, опять дома неприятности? И что же нам с тобой делать?» И я не умею ответить, что мы со мной будем делать…
Я решила, что в этот день не пойду в школу, повернулась и пошла к лесу по дороге, наезженной по свежему снегу. В лесу было тихо, только ворон каркал так громко, что я вздрогнула. Под большими елями видны были в снегу следы маленьких зверюшек – мышей или белок? – и остатки изгрызенных шишек. Я знала, что шоссе ведет к чужому хутору, и вынуждена была свернуть с проложенной машинами дороги в глубокий снег. Издалека уже слышался лай собаки, наверное, какой-нибудь Крантс или Паука, заслышав мое приближение, предупреждал хозяев. Один сапог был у меня дырявый, но это было неважно, потому что сапоги мои были низкие, и в них все равно на каждом шагу набивался снег. Мне стало холодно, пришлось застегнуть пальто на все пуговицы. Помню, что долго сидела на большом заснеженном пне. Сидела и мечтала о том, что вот сейчас придет из лесного хутора маленькая румяная, закутанная в большой клетчатый платок старушка, подойдет прямо ко мне, не проваливаясь в снег – настолько она хрупкая и легкая, словно фея… Но она не фея, вовсе не фея, а моя бабушка!.. Почему бы моя бабушка не могла жить здесь? У некоторых есть даже целых две бабушки и два дедушки, почему же у меня не может быть одной-единственной розовощекой бабушки? Возвращаясь домой, решила все это выяснить у матери.

Но в тот же день мать сама и рассказала мне свою историю, прежде чем я успела попросить об этом. Когда я сидела на пне, у меня стали мерзнуть ноги, не помогло, что я поджала пальцы. На миг возникло даже желание всерьез простудиться и заболеть, но когда я вспомнила, что завтра урок трудового воспитания, а у меня уже склеена красивая картина зимней ночи из синей бумаги и ваты, желание заболеть прошло. Учительница Саар хвалила каждого всегда, когда только было возможно. А я была очень охоча до похвал, еще и теперь хочется, чтобы меня хвалили. Но главное, я вдруг ощутила такой голод, что даже при воспоминании о засохших и посыпаных табачным пеплом бутербродах во рту стало полно слюны. Я зашагала обратно домой, и эта обратная дорога показалась мне вдвое длиннее, чем путь до пня… Я подумала, что, если мать еще спит, сама разведу в плите огонь, поджарю два яйца и посижу долго перед открытой дверкой топящейся плиты и погрею ноги.
Но из нашей кухни слышался громкий шум скандала. Я остановилась в передней и не осмеливалась войти, думала, что опять кто-то устроил у нас гулянку. Тетя Альма приоткрыла свою дверь и поманила меня, скрючив палец, к себе. Увидав, что я колеблюсь, она прошептала:
– Деточка, не ходи сейчас туда, в гнездо греха! Иди сюда! Иди!
Но я помнила запрет матери, покачала головой и объявила тете Альме, что очень тороплюсь. Голоса, раздававшиеся за нашей дверью, не были криками разгулявшихся гостей, а больше походили на такие женские вопли, какие бывают в кинофильмах.
– Здравствуйте! – сказала я.
У нас в гостях была мать Вармо, жена Волли, разорявшегося тут вчера вечером. Но похоже, она не чувствовала себя гостьей. Она стояла посреди комнаты, размахивала рукой и кричала:
– Этот притон надо смести с лица земли! Сжечь, сровнять с землей! – Она схватила со стола ту самую тарелку, о которой я вспомнила в лесу, и швырнула ее о стену.
«Интересно, а у них дома есть вообще-то целая посуда?» – подумала я, хотя ноги дрожали от холода и от страха. Моя мать сидела за столом, обхватив голову руками, и не видела ни меня, ни разлетевшейся тарелки. Тарелка же летела как-то странно плавно, как в фильме, когда что-нибудь показывают в замедлении. Я видела, как она стукнулась о полку в стене и затем медленно стали падать бутерброды… сперва на полку, потом, один за другим, на пол. Я пошла к матери и положила ей руку на плечо. Мать подняла глаза, они были мокрыми от слез.
– Уходи! – сказала мать сердитой гостье. – Будь добра, оставь мой дом в покое!
– Ах, твой дом! А кто думает о моем доме?.. – возмущалась мать Вармо.
И тут в дверь постучали. Я вздрогнула от страха – до сих пор ни один стук в нашу дверь не предвещал ничего хорошего. И хотя новые гости были мне знакомы, а одну из них – учительницу Саар – я даже любила, но по выражению их лиц нетрудно было догадаться, что и от этого визита ничего хорошего ждать не приходится. Не помню больше, что они говорили, наверное, и о моих опозданиях и прогулах, в памяти остались лишь пронзительные выкрики матери Вармо: «Вы только подумайте, она получает больше двухсот в месяц, а посмотрите, как они живут! Посмотрите, ребенок полуголый!» Помню: мои ноги все еще мерзли, а одна из учительниц говорила о том, что меня могут согласно закону отнять у матери и поместить в детдом. Затем помню еще слезы на лице матери – ни раньше, ни позже я не видела ее такой плачущей, – и еще лихорадочно-быстрые ее слова о повторяемости судеб, и что она не позволит, чтобы это случилось. Помню, как сильно она прижимала меня к себе, мне было даже почти больно. И все же мне было хорошо, так хорошо мне давно уже не было. В глазах учительницы Саар стояли слезы, она бормотала что-то об испытательном сроке и комиссии по делам несовершеннолетних, а другая учительница строго велела матери Вармо выбирать выражения. Когда все чужие ушли, мы с матерью начали убирать в комнате. О своих мокрых сапогах я совсем позабыла, но мать заметила их и испуганно всплеснула руками. Я сняла сапоги, носки и колготки – ноги были красные. Мать устроила меня греть ступни перед раскрытой дверкой плиты, а сама быстро сходила к тете Альме.
– У нее всегда есть все! – сказала она, вернувшись с гусиным жиром, и принялась втирать его мне в ступни. – Пожалуй, будет разумнее не пойти тебе завтра в школу, а то еще заболеешь!
Но мне очень хотелось в школу. Я рассказала матери про свой прогул, про сидение в лесу и про то, что зимняя картина на уроке труда получилась у меня очень красивой. Мать взяла ее с полки и стала рассматривать.
– Хм, весьма мило. Только… что за пятно тут на небе?
Вчера никакого пятна на бумаге не было, были только облака из ваты и звезды из серебристой фольги, наклеенные на темно-синий фон.
– Да на нее же упал этот окаянный бутерброд с сыром! – догадалась мать. Увидав, что я чуть не плачу, она добавила: – Ты грей свои пятки, сколько можешь. Потом – шерстяные носки на ноги и сразу в постель. А где у тебя цветная бумага?








