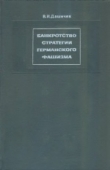Текст книги "Волга рождается в Европе (ЛП)"
Автор книги: Курцио Малапарте
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
14. Бегство мертвецов
Качковка, 8 августа
Советские войска не оставляют своих мертвецов на поле сражения при своем отступлении и не хоронят их на месте. Они берут их с собой. Они погребают их в двадцати, тридцати километрах далее сзади, в чаще леса, на дне долины. В больших братских могилах, и на могилы они не ставят кресты, и не оставляют обычно какие-нибудь другие знаки. Они утаптывают свежую землю ногами, рассыпают над ней листву, траву, ветки, иногда кучу навоза, чтобы никто не смог нарушить покой этих тайных могил.
Что-то ужасное, что-то таинственное есть вокруг этого тайного погребения, при этом утаивании мертвых. «Бегство мертвецов», сказал мне сегодня утром один немецкий солдат. Да, действительно бегство мертвецов, как будто бы мертвецы с трудом встали, медленно удалились, помогая друг другу, по неизвестным дорогам через хлебные нивы и леса, так, как будто они убегали не из-за страха, а чтобы избежать какого-то последнего приключения, какого-то неизвестного и пугающего рока. Как будто мертвецы убегали, после того, как они убрали с поля сражения все знаки дикой борьбы, каждый предмет, который мог бы напомнить о кровавом столкновении, которое могло бы своим присутствием помешать миру лесов, нив, широких золотых площадей подсолнухов. Да, это почти так, как будто сами эти мертвецы «убирают» за собой на полях сражений. Потом они медленно уходят, исчезают навсегда, не оставляют признаков жизни, даже отпечатка их сапог в грязи, даже винтовку, которую осколок снаряда разбил у них в руках.
Это обстоятельство, которое производит сильное впечатление на всех, которым приходится пересекать одно из этих полей боя немедленно после окончания борьбы. Также на северном участке, также и на других участках фронта русские при отходе забирают своих павших с собой. После целых дней, целых недель жестокой борьбы, после яростной битвы, после повторяющихся столкновений больших масс танков немецкие солдаты вместо тысяч погибших русских, которых следовало бы ожидать найти после таких ожесточенных боев, находят на всей территории только тут и там несколько мертвецов, которых скорее случайно не заметили, чем оставили намеренно. Это отсутствие мертвецов на поле сражения кажется в той же мере человеческим волшебством, как и чудом природы. Оно придает территории боев призрачный вид. Потому что в мире ничего не может быть более призрачным, чем очищенное от мертвых поле боя. Это как ложе смерти, после того, как мертвеца унесли. Есть что-то слишком голое, слишком белое в этих холодных скомканных простынях, в этой подушке с холодной вмятиной. Что-то похожее, что-то холодное и голое есть и в траве, в камнях, в глыбах земли поля боя, лишенного своих мертвецов. Я с первых дней войны нахожусь с немецкими войсками на русском фронте. Я шаг за шагом участвовал в продвижении моторизированной колонны от Штефанешти до Могилева. С колонной пехоты я пережил затем марш от Бельцев до Сороки, и от Сороки через Ямполь сюда, к сердцу Украины. Теперь я нахожусь на самом краю выдвинутого дальше всего на восток участка всего немецкого фронта. И я до сегодняшнего утра никогда не видел еще покрытого мертвыми русскими поля боя. Несколько погибших, это было все; как на том холме у Скуратово или в тех танках на улице в Бельцах. Но когда мы сегодня утром достигли края впадины долины, на дне которой лежит деревня Качковка, я впервые увидел буквально засеянное мертвецами поле сражения, еще неприкосновенное, еще не поврежденное поле сражения, с которого русские ничего больше не смогли унести, даже своих павших. Местность, на которой ожесточенная борьба происходила сегодня утром, которая продолжалась от десяти часов утра до захода солнца, лежит на самом краю равнины, почти на высоте перед обрывом в долину Качковки. Это ровная территория, нивы и поля подсолнечника. Край долины густо зарос акациями и тополями. Прекрасный лес грецкого ореха тянется вниз по крутым склонам почти до самых домов деревни. Русские крепко зацепились на ребре склона, на позиции, которая из-за невозможности маневрировать позади нее на крутых склонах была отчаянной, но зато прекрасно подходила для обороны, потому что защищала от артиллерийского обстрела. Пока сам не доберешься до поля битвы, глаз не замечает ничего, что указывает на бойню или хотя бы только напоминает об ожесточении борьбы. Мертвецы частью лежат по ту сторону края долины на склоне, частью на нивах или полях подсолнухов и частью в выкопанных вдоль самого внешнего края равнины узких траншеях. Там, где сопротивление продолжалось наиболее ожесточенно, мертвецы лежат бок о бок в группах, плотно, иногда один за другим. В другом месте они лежат по двое или по трое за кустами, кулак еще сжимает винтовку, или на спине, с раскинутыми руками, ошеломленные смертью в этом последнем движении самопожертвования человека, пораженного пулей в грудь. Другие лежат, согнувшись, с той слабой бледностью, которая происходит от огнестрельных ранений в живот. Некоторые, смертельно раненые, сидят неподвижно, прислонившись спиной к стволам деревьев, или лежат на боку и тихо и жалобно стонут, почти стыдливо: «Боже мой! Боже мой!» У этого последнего обращения, которое выносит наружу так долго подавляемые всей этой доктриной и пропагандой чувства, в этом сетующем человеке есть неожиданное и новое звучание, что-то чистое и верное, в самом предельном смысле истинное. «Боже мой! Боже мой!» Офицер лежит на хлебном поле, лицом к земле, одна нога подтянута к другой, правая рука прижата к груди. На земле лежат разбросанные гильзы, пулеметные ленты, патронные обоймы, все эти маленькие вещи, которые можно увидеть лежащими на поле боя. Моя нога наталкивается на замазанные землей и запачканные кровью предметы одежды, клочки бумаги, пустые жестянки, канистры, походные фляги, каски, пилотки защитного цвета, кожаную портупею, разбитые винтовки. Собака, которая привязана к стволу дерева, жалобно визжит, пытается разорвать веревку сильным рывком. Ее глаз кроваво свисает из глазницы.
В окрестностях нескольких километров эта сцена удручающе повторяется вновь и вновь в точно той же форме, вплоть до самых маленьких подробностей. На месте, где разорвался тяжелый снаряд или бомба пикирующего бомбардировщика, мертвецы и остатки битвы лежат в запутанной неразберихе. Как будто их унесло туда невидимым течением, как потоком воды. Многие из погибших полуголые, раздетые мощным воздушным потоком ударной взрывной волны. Из вспоротого мешка выкатились на землю несколько буханок хлеба. Это жесткий хлеб с плотным хлебным мякишем. Я откусываю кусок. Вкус очень хорош, корочка крошится между зубами как сухарь. У солдата с запачканным кровью лицом (он почти сидит в воронке от снаряда) на коленях и вокруг него вразброс лежат сто маленьких кусочков того свежего овечьего сыра, который называется в этой местности брынзой. У солдата он есть еще во рту, он как раз ел, когда осколок попал ему в висок.
Немецкие санитары-носильщики передвигаются по полю боя, осторожно, немного пригибаясь. Они ищут среди мертвецов раненых, которых поднимают на носилки. На поле опустилась великая тишина. Даже пушки замолчали. Там позади, на удалении трех или четырех километров перед нами в направлении на Шумы, в направлении на Ольшанку, еще идет бой. Несколько домов горят за тем лесом, на другой стороне долины. Группа немецких солдат копает ров, другие таскают русских погибших к краю рва. И вот ров готов. Одно за другим тела скатываются в могилу. Потом солдаты засыпают могилу землей. Почетный караул берет оружие «на караул». Голос офицера звучит жестко и резко. Несколько случайных пуль жужжат между листвой деревьев. Очереди из пулеметов проносятся высоко над нами. Солнце уже клонится к закату, но тепло, воздух плотен и тяжел.
Я сажусь под деревом и осматриваюсь вокруг. Русская часть, которая здесь боролась, была маленькой, пожалуй, только одним батальоном. Она оказывала сопротивление до самого конца, она пожертвовала собой, чтобы прикрыть отход большей части войск. Батальон отчаянных, предоставленных своей судьбе. На поле боя никто больше не смог убрать. Здесь все еще так, как было полчаса назад. И потому я впервые могу «застать врасплох» внутреннюю, скрытую природу этой армии, наблюдать вблизи ее странный состав, изучить, так сказать, ее «химическую формулу», согласно которой были сплавлены друг с другом ее различные и контрастирующие политические, социальные, национальные, идеологические, военные, экономические составные части. Никто из этого подразделения не убежал, никто, кроме нескольких тяжелораненых, не попал в плен. Это была хорошая воинская часть. Офицеров держали в руках всех своих солдат. Они все остались на своем месте. И первым делом я попытался понять, на чем основывается дисциплина этой части, ее техническая мощь. Меня поразило взаимодействие военных и политических составных частей, это особенное равновесие таких различных социальных, политических, человеческих элементов, этот необычный союз дисциплинарного устава и устава Коммунистической партии, военного уголовного кодекса и справочника красного солдата.
Недалеко от меня стоит ящик, полный документов и списков. На ящике пишущая машинка, американская модель, но произведенная в России. Потом номер «Правды» от 24 июня, совсем помятый и грязный, газета в больших заголовках сообщает о начале войны, первых боях в Польше, в Галиции, в Бессарабии. На второй странице помещены три биографии «агитаторов»; первый проводит собрание на фабрике по теме, второй такое же во дворе колхоза, третий в полевом лагере. («Агитаторы» – это пропагандисты Коммунистической партии. Их задание во время войны воодушевлять народ к сопротивлению, объяснять причины борьбы, стимулировать массы рабочих и крестьян к улучшению трудовых результатов для потребностей обороны родины). У троих жесткие лица, выдающиеся вперед челюстные кости; и вокруг них привычные, строгие и внимательные лица рабочих, крестьян, солдат.
Я встаю и медленно иду по полю боя. При этом я наталкиваюсь ногой на электрическую батарею, сухую батарею. Обе проволоки связаны с лампой, которая висит на гвозде на боку обитого металлическим листом деревянного ящика. На ящике разбитая авторучка, записная книжка, полная заметок. В самом ящике находится толстый альбом в красном картонном переплете, на котором прописными буквами написано: «Третья сталинская пятилетка». Альбом иллюстрирует третью пятилетку, спланированную Сталиным (и все еще выполняющуюся), статистическими данными о строительстве новых фабрик, промышленную организацию и производство. Пока я перелистываю альбом, немецкий солдат указывает на что-то между ветвями дерева. Я смотрю вверх. Громкоговоритель. Вниз со ствола свисает электрическая проволока. Мы следуем за проволокой. На удалении нескольких метров от дерева мертвый советский солдат, склонившись ничком, сидит в яме, так что он закрывает верхней частью туловища большой металлический ящик – проигрыватель. Вокруг на траве разбросаны обломки пластинок. Я пытаюсь подобрать и сложить обломки и разобрать заголовки записей: «Интернационал», «Марш Буденного», «Марш Черноморского флота», «Марш кронштадтских матросов», «Марш красной военной авиации». Потом еще несколько пластинок для социального, политического, военного обучения.
На красном ярлыке пластинки я читаю следующие напечатанные черным цветом слова: «На подмогу агитатору – видання ЗКПП/6/У/№ 5-1941». Это что-то вроде фонографического катехизиса, что-то вроде инструкции превосходного «агитатора». Тезисы этого катехизиса постоянно повторялись глубоким властным голосом громкоговорителя, чтобы побуждать солдат выполнять их долг до последнего. На другой пластинке заголовок: «Пояснительный текст». Это, наверное, другой вид катехизиса, Vademecum, карманный справочник коммунистического солдата. На следующей пластинке я читаю: «Тече рiчка-невеличка». Это название «фабричной песни», одной из тех, которые большевики называют «заводскими песнями».
Однако самое интересное – это альбом с 24 пластинками, на крышке которого написано: «Доклад товарища Сталина на чрезвычайном VIII всесоюзном съезде советов 25 ноября 1936 года. О проекте конституции Союза ССР». На 48 сторонах этих 24 дисков записана длинная речь, которую Сталин произнес в 1936 году в московском Большом театре при провозглашении советской конституции. Немецкий солдат, который помог мне подбирать разбитые диски, рассматривает меня молчаливо. Потом он поднимает голову, рассматривает висящий на ветвях дерева громкоговоритель, смотрит на осевшего над металлическим корпусом своего передающего устройства мертвого русского. Лицо немецкого солдата серьезно, почти печально: та печаль, которая намекает на удивление и на непонимание у простых людей. Это крестьянин, этот немецкий солдат, не рабочий. Баварский крестьянин из окрестностей Аугсбурга. У него нет того, что я называю «рабочей моралью», он не понимает «рабочую мораль», не понимает ее методы, ее абстрактные качества, ее ожесточенный и фанатичный реализм.
Во время боя голос Сталина, чудовищно усиленный громкоговорителем, со всей мощью падает на стоящих на коленях в стрелковых ячейках за станками пулеметов мужчин, разносится в ушах растянувшихся в кустарнике солдат, страдающих на земле раненых. Голос становится из-за громкоговорителя хриплым, твердым, металлическим. Что-то дьявольское и в то же время страшно наивное есть в этих солдатах, которые борются – подбодренные речью Сталина о советской конституции, скандированием моральных, социальных, политических и военных инструкций «агитаторов» – до последнего, в этих солдатах, которые не сдаются, во всех этих лежащих вокруг меня мертвецах, в этих самых последних жестах выдержки, силы, одиночества, ужасного одиночества на поле сражения под грохотом громкоговорителя. Я смотрю на землю и обнаруживаю у моих ног на траве что-то похожее на маленькую тетрадь с кожаным переплетом. Это военный билет солдата Семена Столенко. Украинское имя. Возле номера билета стоит написанное красными чернилами слово «беспартийный», т.е. не член Коммунистической партии. Затем следуют несколько сведений, в которых я не разбираюсь. Дата рождения: 3 февраля 1909 года, родился в Немирове. Пулеметчик. Потом я читаю: Трактор. Он был крестьянином, работал, наверное, в колхозе водителем сельскохозяйственной машины. На третьей странице наверху стоит написанное от руки красными чернилами: «безбожник», т.е., дословно «без Бога». Этот украинский солдат, этот Семен Столенко, 32 лет, который заявляет о себе как о беспартийном и безбожнике, т.е. атеисте, этот крестьянин, который воюет, подстегиваемый повелительным голосом громкоговорителя, и не сдается, бьется до последнего, этот солдат... Но он мертв. Он боролся до конца. Он не сдался. Он погиб.
Ветер, который движет листву на деревьях и разорванные и изувеченные снарядами ветвям, заставляет шуметь высокую траву, в которой лежат мертвецы. Окровавленные предметы одежды, разбросанные по земле документы шевелятся на ветру. Постепенно возникает журчание, скользящее по траве, по листве. Лица мертвецов светлеют, как чудом. Это свет завершающегося дня оживляет эти бедные лица. Треск пулеметов с ветром проникает от деревни Шумы. Орудия там как таран бьют по зеленой стене леса. Жалобный гогот доносится вверх со дна долины. Несколько винтовочных выстрелов затихают между складками пурпурного вечера как между складками огромного красного знамени.
15. Черный бивак
Шумы, 9 августа
Ночью не сражаются. Люди, животные, оружие отдыхают. Ни один винтовочный выстрел не нарушает ночную тишину. Пушки тоже молчат. Как только солнце опустилось, и первые тени вечера заскользили по хлебным нивам, немецкие колонны стали готовиться к ночному покою. Это покой мира, отдыха. Молчание оружия. Что-то вроде перемирия. Обе соперничающие армии ложатся в зелени, чтобы спать.
Жесткие голоса офицеров, которые отдают приказ на отдых, расплываются в легком тумане, который поднимается из-за леса. Авангарды останавливаются, растягиваются подобно вееру, чтобы защищать походную колонну. Тяжелое наступательное оружие выдвигается вперед, концентрируется во главе колонны. В этой смешанной позиции, которая является одновременно оборонительной и наступательной, колонна на всю ночь превращается в толстый гвоздь, острие которого направлено в сторону врага. Эти немецкие колонны похожи на молот. Ночная позиция позволяет, даже приступая ко сну, нанести по врагу удар молотом, так сказать, с закрытыми глазами в первой неопределенности неожиданности и пробуждения загнать гвоздь в оборону противника.
Ночь тяжело и холодно опускается на свернувшихся в окопах людей в маленьких отдельных дырах, спешно и по необходимости выкопанных посреди зерновых полей рядом со штурмовыми батареями малого и среднего калибра, рядом с противотанковыми орудиями, рядом с зенитными станковыми пулеметами, минометами, со всем этим оружием, из которого и образован «молот». Затем поднимается ветер, и это влажный и холодный ветер, который загоняет в кости жесткую и ленивую усталость. Это ветер украинской равнины, благоухающий тысячами запахов трав и растений. В темноте над полями со всех сторон слышен треск подсолнухов, которых влажность ночи ослабляет на их высоких складчатых стеблях. Хлеб вокруг издает мягкий шум, почти как шелест шелкового платья. Широкое журчание стоит над темной землей, над которой длинным дуновением тянутся глубокие вдохи. Люди предаются сну, под защитой часовых и патрулей. Там перед нами, на колосящихся полях, между черной плотной материей, из которой состоят ночные леса, там, по ту сторону глубокой, гладкой и холодной складки долины, спит враг. Мы слышим его суровое дыхание, его сильный запах, его запах масла, бензина и пота.
Эти ночные передышки немецкие солдаты называют «черным биваком». Это не лихорадочная, нервная бдительность позиционной войны. Это глубокий сон, мирное спокойствие по обе стороны дороги, в нивах, в лесах, в немногих шагах от врага. Что-то вроде бивака; но это бивак без костров, без пения, без голосов, «черный бивак». Глубокое молчание нависает над отдыхающей колонной. Потом, на рассвете, бой вспыхнет снова, с ожесточенной силой. Но хотя солнце село уже довольно давно, хотя вечер уже легко и осторожно опускается с угасшего неба, приказ на отдых не хотел сегодня поступать. Мы уже достигли первых домов Качковки, и уже авангарды колонны снова поднимались вверх по другому склону долины в направлении Ольшанки, когда связной-мотоциклист доставил нам уведомление, согласно которому нам нужно было провести ночь в Шумах, деревне на полдороги между Качковкой и Ольшанкой. Еще примерно десять километров. Борьба там перед нами в направлении Ольшанки не хотела гаснуть, как пожар, который ветер постоянно раздувает снова и снова. Это было чередованием из пауз и внезапного, яростного возрождения. Мощные лавины темноты, которые падали с неба битвы, были не в состоянии задушить пожар. Было бы гораздо лучше остановиться в Качковке! Мы смертельно устали, деревня проливала тепловатый пар в холодный вечер, пар от печей и конюшен. «Да здравствует Первое мая!» было написано большими белыми буквами на широкой красной матерчатой ленте, которая была укреплена на фасаде здания колхоза у входа в деревню. Лошади чуяли близкую воду и влажную траву долины, они нетерпеливо ржали. Солдаты жадными глазами смотрели на белые дома (с соломенной крышей самые бедные, с зеленой или красной железной крышей дома тех, кто находился на более высоком уровне). Из деревни доносились озорные и болтливые звуки, какие издают домашние животных при наступлении ночи. Собаки радостно лаяли у деревянных украшенных подсолнухами заборов вокруг домов. Слышно было негромкое хрюканье свиней, глухое мычание коров в хлевах, глухой звон их бронзовых колокольчиков.
Деревня, кажется, не пострадала от боев несколькими часами раньше. Несколько снарядов среднего калибра взорвались недалеко от маленького каменного моста, не попав в него. «Универмаг» – во всех советских деревнях есть один или несколько магазинов «универмаг», торгового кооператива, который в значительной степени заменил свободную торговлю в СССР – очевидно, был разграблен. Перед открытой дверью магазина лежали разбросанные обрывки бумаги, разорванные картонные коробки, грампластинки, упаковочная солома, все эти жалкие внутренности, которые грабеж разбрасывает вокруг ограбленных домов. Но в общем и целом деревня была невредимой, со своими окрашенными в белый, зеленый, синий цвет домами, преимущественно окруженными чем-то вроде веранды, которую образует выдающаяся вперед крыша на маленьких искусно вырезанных и украшенных деревянных колоннах. Толпы детей прибегали со всех сторон, чтобы увидеть проходящую колонну. Из окон домов вдоль улицы тянулись немецкие раненые, которые устроились здесь до прибытия санитарных машин для отправки в тыл, с перевязанными головами, махали перевязанными толстыми белыми бинтами руками. Женщины и старики стояли молчаливо, несколько печально или, пожалуй, только смущенно у дверей их домов и хлевов, еще испуганные, еще неуверенные, еще боязливые. По ту сторону моста нужно снова поехать наверх по склону долины и потом после небольшого расстояния снова окажешься на равнине. Далекий теплый запах хлебных полей окружает нас, приятное дуновение в отличие от уже холодного дыхания теперь близкой ночи. И приказ на отдых все еще не поступил. Далеко ли до деревни Шумы? Вероятно, нам придется маршировать всю ночь. Я оставил свою машину в хвосте колонны, в группе машин, и марширую пешком посреди пехотного подразделения по дороге, которая ведет в Ольшанку.
Деревня Шумы лежит в пяти километрах отсюда, на дне маленькой долины. Все украинские деревни лежат скрытые в зеленых складках местности. Снова и снова опускается в нескольких местах полностью плоская, в других местах немного волнистая равнина во впадину и образует долину, на подошве которой на берегу серого водотока лежит деревня. Если смотреть с равнины, Украина кажется необитаемой; жизнь этой плодородной и густонаселенной области прячется в складках территории, стыдливо скрывается, в полном согласии с характером этих людей, их прекрасным ростом, их мягкими нравами, дружелюбной сущности, их восприимчивым благочестием.
После нескольких километров продвижение замедляется. Орудия молчат, треск пулеметов становится реже, слабее и дальше, как кваканье лягушек вдоль темных, грязных берегов горизонта. Пушка молчит, привал, пожалуй, близок. Тяжелый день, полный хлопот и борьбы: завтра снова вспыхнет бой перед Ольшанкой. – Стой! Стой! Стой! – призыв проносится по колонне, он исходит от мотоциклистов, которые едут с открытым ртом, как будто их крик усиливается у них во рту как в воронке. Мы на краю долины: там перед нами неясно светится в темноте маленькая деревня Шумы. Голова колонны уже видит первые дома Ольшанки. – Стой! Стой! Стой! Я как раз сел у обочины, как раз начал есть (как всегда несколько кусков жесткого хлеба, как всегда томатная паста), когда в темноте чей-то голос кричит: – Где итальянский офицер? – Что случилось? Я здесь.
– Buona sera, Signor capitano, – говорит веселый голос на превосходном итальянском языке, с легким акцентом, пожалуй, триестским. Немецкий унтер-офицер, фельдфебель, стоит передо мной, по стойке смирно. Он в одной рубашке, маленького роста. На нем очки, волосы растрепаны на низком лбу, рот показывает веселую улыбку. – Могу я пригласить вас на чашку чая? – Почему бы и нет! Спасибо.
– О, вы можете спокойно говорить по-итальянски, – говорит фельдфебель, – моя мать из Триеста. Если бы не было так темно, фельдфебель увидел бы, как я покраснел от радости.
Я следую за фельдфебелем. Вхожу за ним в низкий дом на краю улицы, почти вне деревни, у моста. В комнате с низким потолком кровать в одном углу, стол, странный большой железный контейнер и на скамье вдоль стены ряд буханок хлеба, банок с мясными консервами и банок с джемом. На столе полевой кипятильник, и на кипятильнике кастрюлька с горячим чаем. На стенах висят образа, вырезки из газет и иллюстрированных журналов, часы с маятником, советский календарь и неизбежная фотография Сталина. Фельдфебель подает мне чашку чая, рассказывает мне, что он родился в Александрии в Египте, его мать итальянка из Триеста, ему 42 года, он доброволец и служит в дорожной инспекции, полевой жандармерии. Он счастлив встретить итальянского офицера, офицера альпийских стрелков. Да, действительно, счастлив. Пока он говорит, входят несколько мотоциклистов дорожной инспекции. Они садятся вокруг стола, снимают большие резиновые перчатки, вытирают покрытое слоем пыли и пота лицо, пьют чашку чая, едят ломти хлеба, которые они тщательно намазали свиным жиром. Они смеются, рассказывают о событиях и приключениях дня, о падениях, безумной езде под обстрелом гнездящихся в нивах русских солдат. Они говорят со мной с той странной близостью, которая в немецкой армии существует между солдатами и офицерами, близости, о которой мне хотелось бы как-то рассказать более подробно, так как она, как мне кажется, является одной из самых странных характерных черт вермахта, так как причина этой близости более социальная, нежели политическая.
– Ах, теперь я подам вам стакан весьма особенного вина, – говорит мне фельдфебель и наполняет мой бокал из странной железной бутылки, которая стоит посреди комнаты, с чем-то вроде красного вина, цвет и вкус которого особенны. Это не вино. А что-то сладкое, ароматизированное. Малиновое вино? Смородиновое вино? – Мы нашли его в Ямполе, в колхозном погребе, – объясняет фельдфебель.
У всех нас начинают слегка блестеть глаза. Фельдфебель, родившийся в Египте, начинает запинаться и путать языки; он внезапно говорит по-арабски, потом на триестском диалекте, он забавным образом путает немецкий и итальянский с арабским языком, совсем как определенные восточные герои в старых провансальских романах.
Но уже поздно, я должен идти и найти местечко, где провести ночь.
– Я предложил бы вам лечь спать в соседней комнате, – говорит фельдфебель, – но мы уже пообещали это место капеллану. – Капеллану?
– Да, он зашел случайно, – объясняет фельдфебель, – он приехал сюда с санитарными машинами, но завтра утром снова вернется назад.
– Мне бы очень хотелось побеседовать с ним, – говорю я фельдфебелю.
– Вы точно найдете его возле санитарных машин, – говорит он и провожает меня к двери. Потом он прощается со своей мягкой триестской интонацией: – Arrivederci, signor capitano. – Arrivederci, arrivederci a presto.
Я отправляюсь на поиск санитарных машин. Немецкого капеллана там нет, он пошел на обход деревни, чтобы забрать раненых, тех, которые лежали в домах. Мне поэтому приходится отказаться от мысли увидеть его и поговорить с ним. Ни во время похода в Югославию, ни за эти оба первых военных месяца на русском фронте я ни разу не видел немецкого военного священника. Военные священники, как католические, так и протестантские, встречаются в немецкой армии очень редко. Одна из самых интересных характерных черт этой армии – это ее религиозный мирской характер. Это один из многих аспектов проблемы, которая слишком запутана, чтобы можно было обсуждать ее с первого беглого взгляда. В немецкой армии есть религиозное восприятие, оно даже очень сильное, в некотором отношении. Но оно поставлено на другие основы, основывается на других мотивах, нежели на обычных. Религия считается здесь частным, чисто личным делом, делом отдельного человека. И военные священники, очень немногие по количеству, выполняют задание, которое сильно удалено от обычного задания религиозного содействия. Они воплощают присутствие, они – свидетельство, ничего большего.
С этими мыслями я добираюсь до моей машины внизу в долине, прямо на берегу ручья. Я растягиваюсь на подушках, закутываюсь в мое одеяло. Холодно. Вокруг меня спит колонна, мужчины и животные спят с хриплым, свистящим дыханием. Звучание ручья рядом повышается и опускается в равномерном ритме. Война кажется далекой, почти далеким воспоминанием. Это пауза ночи, пауза оружия, это мир и спокойствие «черного бивака».
16. Бог возвращается домой
Ольшанка, 12 августа
Сегодня утром я видел, как Бог возвратился домой после двадцатилетней ссылки. Маленькое собрание старых крестьян открыло ему ворота склада масляных семечек и просто обратилось к нему: – Войди, Господи, это твоя церковь.
Сегодня утром мне выпала удача наблюдать необычный эпизод, который один окупил все заботы и все опасности, которые я уже два месяца взвалил на себя, чтобы испытать вблизи, увидеть своими глазами, временами слишком близко, этот поход в Россию. Мы достигли Ольшанки около десяти часов утра, после трудного двадцатикилометрового марша в удушливой красной пыли этих украинских дорог. И здесь в Ольшанке, на большом участке земли к югу от Киева, у дороги в Балту и в Одессу, мне впервые была продемонстрирована религиозная проблема в Советской России со всей ее сложностью и деликатностью. Я уже указывал на эту проблему в начале июля, когда я наблюдал за передвижением немецкой моторизированной колонны, продвигающейся к фронту у Могилева. Но тогда – мы находились в деревне Зэиканы, и я описывал дарохранительницу без распятия, церковь без икон, старых крестьян, которые крестились перед голым алтарем, который стал кафедрой для докладов о коммунистической аграрной системе колхозов – тогда я ограничился тем, чтобы лишь затронуть тему, не приближаясь к сути вопроса. Большой опыт благодаря вещам, которые я видел, эпизодам, смысл которых доходил до меня, благодаря более серьезной документации о людях, идеях, фактах, который я сам правдиво собирал на месте за два месяца непосредственного наблюдения, объективных расследований, личных свидетельств, позволяет мне сегодня вернуться к этой теме более детально. Религиозная проблема является, без сомнения, одной из самых тяжелых среди всех тех, которые война против России обнаруживает для культурной Европы; и она по многим причинам касается непосредственно всех народов Запада, в некоторой степени из-за значения и разнообразия ее отдельных аспектов, отчасти из-за последствий, которые антирелигиозная политика Советов неминуемо и на долгое время будет иметь в жизни русского народа.
После поездки по широкому плато, разделяющим деревню Качковка от Ольшанки, я заметил, как только мы стояли на краю зеленой впадины, которая образует широкую котловину с пологим спуском, в которой лежит местечко Ольшанка, немного левее над ней стоит церковь, на возвышенности. Белая церковь, с неопределенно барочными контурами, согнувшейся колокольней, которая выглядит вовсе не как колокольня, а как купол, крыша покрыта серебристой жестью. Церковь Ольшанки – в отличие от церквей многих других деревень Украины – не собственно православная, а униатская церковь, то есть, принадлежит к той особенной православной конфессии, которая признает авторитет Папы Римского. Униатские церкви – это остаток старого польского влияния на Украине и отличаются от других как своей архитектурой, так и семиконечным крестом на вершине колокольни. Может быть, что униатская церковь, которая особенно сильна в восточной Галиции, сможет в ближайшем будущем расширить свое влияние за счет русской православной церкви, во всей западной и южной Украине, особенно в так называемой области Заднестровья по ту сторону Днестра. Однако есть много важных причин, чтобы сомневаться в этом. В любом случае значение этой проблемы униатской церкви только ограниченное и частное в рамках куда более трудной комплексной проблемы «пустоты», которую создали враждебная к религии политика Советов и принимаемый очень всерьез, неизменный упадок православной церкви в сознании молодых поколений. Мы въезжаем в Ольшанку и останавливаемся посреди местечка, где дорога расширяется и образует что-то вроде наклонной площади, которая с возвышения, на котором стоит церковь, примыкает своей продольной стороной к длинной стене, окружающей большой колхоз. Немецкие авангарды, которые овладели деревней, прошли здесь всего полчаса назад. Воздух, так сказать, еще горячий от боя, который только что произошел. У входа в деревню несколько групп солдат собираются хоронить своих погибших при наступлении товарищей. Ниже местечка раскрывается зеленая впадина долины, в которой берет начало прозрачный и ледяной источник; это первый источник, который встретился нам после Ямполя. Вокруг источника группа раненых, которая промывает свои раны. Они сидят на больших камнях и ждут санитарные машины. Смеясь, они разматывают перевязочные пакеты и помогают друг другу перевязывать раны. Внезапно с возвышенности, где стоит церковь, слышится гул голосов. Я карабкаюсь вверх по тропинке и замечаю на поросшем травой церковном дворе – большая машина стоит в углу церковного двора, абсолютно целый культиватор – группу женщин, преимущественно пожилых, старше пятидесяти лет, и только немного, пять или шесть, которым всего от шестнадцати до двадцати лет. Все они заняты тем, что чистят тряпками несколько больших покрашенных серебристой краской деревянных канделябров и скоблят их ножами, освобождая от пятен гнили, очищают и полируют, некоторые из этих больших массивных канделябров, которые устанавливаются со стороны алтаря и на самом алтаре. Другие женщины стоят на коленях перед дверями и яростно выщипывают сорняк, который уже угрожает проникнуть в церковь, третьи мотыгами и лопатами очищают церковный двор от травы и кустов. Я приближаюсь к женщинам и обращаюсь к ним: – Эй, да вы действительно прекрасно обустроили ее, вашу церковь! Девушки со смехом поднимают на меня глаза, не прерывая усердные движения их крепких, округлых и загорелых рук в коротких рукавах их белых, окаймленных красной вышивкой рубашек. Одна из старух убирает руки от канделябра, трижды крестится, кланяется, называет меня «барин» («господин», по старому русскому обычаю, место этого обращения за прошедшее время заняло большевистское выражение «товарищ») и объясняет мне, что не их вина, что уже двадцать лет церковь Ольшанки служит складом масляных семечек, чем-то вроде силоса для семян сои и подсолнуха. – Это не наша вина, – повторяет она, – это были коммунисты, о, Святая Дева Мария, это не мы виноваты! И она начинает плакать, прижимая себе ладони к вискам. Девушки кричат: – Ха-ха, бабушка плачет!