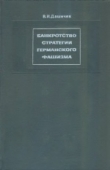Текст книги "Волга рождается в Европе (ЛП)"
Автор книги: Курцио Малапарте
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Мы через маленькую дверь попадаем в большое помещение, которое наполнено гигантской массой подсолнечных семечек.
– Вы должны были все это сдавать государству, все эти семечки? – спрашиваю я старика.
– Государству? Нет. Их нужно было привозить на сборный пункт для приема.
– Это одно и то же.
– Нет, не сдавали государству. Мы привозили их на пункт приема, – повторил старик.
– Вам за это платили?
– Конечно.
Старик рассказывает, что в этот год был прекрасный урожай подсолнечных семечек. И уборка урожая зерновых тоже хорошо началась. – Но с этой неразберихой, – говорит он, – с этой войной (сначала он говорит по-русски «война», потом добавляет по-румынски «razboiu») – для нас придет беда, если мы не сможем продавать урожай. Коммунисты покупали все у нас, – говорит он.
– Вы наверняка найдете покупателя как до сих пор, – говорю я.
– Как до сих пор? И кого же?
– Вы доставите масляные семечки и зерно на пункт приема, и они вам заплатят за них.
– На советский пункт приема?
– Нет, на немецкий.
– Ах, у вас тоже есть такие пункты приема?
– Естественно.
Старик смотрит вопросительно, вертит шапку в руках, он хотел бы спрашивать дальше, но по нему видно, что он не решается на это.
– Сколько у вас лошадей? – спрашиваю я его. Он отвечает, что у них в целом в хозяйстве было пятнадцать лошадей. Лучшие получили большевики. Девять остались ему. Мы пересекаем двор и вступаем в большую конюшню. В яслях стоят семь лошадей. В углу конюшни свален свежий корм: гора травы, зеленого зерна и клевера. Это худые маленькие лошади, растрепанные, с впалыми боками. Меня удивляет, что при таком изобилии кормов в этой местности все лошади здесь в таком плохом состоянии. – Это такая порода, она ни к чему не годится, – говорит старик. Мы идем назад через двор и входим в сарай с сельскохозяйственными машинами. Две молотилки, четыре или пять косилок, я думаю, и трактор. У стены поставлены в ряд канистры с керосином, бензином и машинным маслом. Прежде всего, косилки, как я замечаю, в плохом состоянии. – Да, – говорит мне старик, – отдать их в ремонт или хотя бы купить запчасти к мотору было тяжело и длилось долго. Мы должны были ждать, пока приедут механики из колхоза. Но в колхозе Шофрынканы никогда не было механика. Он должен был приезжать из Кишинева, иногда даже из Балты. Если приезжали в Шофрынканы, то нам говорили: завтра, приезжайте завтра, и вот так машины пришли в негодность. Он качает головой и чешет короткую жесткую белую бороду. – Машины принадлежат вам?
– Молотилки принадлежат колхозу. Мы получаем их только в аренду. Мы должны передавать их дальше в аренду другим дворам, когда жатва. Другие машины принадлежат двору.
Мы осматриваем другие хлева, сеновалы, склады для масляных семечек, два больших сарая для зерна. Довольно большое хозяйство и, как мне представляется, также хорошо оборудовано. Все же, в целом я насчитал только три коровы. Мне это кажется слишком мало для такого большого предприятия.
«Господский дом», то есть жилой дом прежнего владельца тоже относится к имуществу хозяйства. Это низкое строение, со стенами из соломы и глины, которые оштукатурены снаружи и внутри толстым слоем гипса. Вдоль передней стороны проходит веранда с маленькими деревянными колоннами. Вокруг дома лежит что-то вроде сада, полного отбросов, лохмотьев, гниющей соломы. Несколько кур копаются в мусоре.
Старик рассказывает мне, что прежний владелец был румынским евреем. Я останавливаюсь у двери и не могу не засмеяться. Владелец! Это слово, в этот момент, в этом месте, при этих обстоятельствах, кажется мне абсурдным, смешным, жалкое, поблекшее слово, совсем устаревшее слово. Я смеюсь. Слово из мертвого языка. По различным, без сомнения очень различным причинам это слово, как для меня, так и для старого крестьянина кажется обладающим очень странным звучанием, почти как будто у этого слова нет настоящего смысла. Но старик, похоже, вовсе не беспокоится из-за возможного возвращения прежнего владельца. (Мне представляется, что он говорит слово «еврей» с определенной горечью. Затем он продолжает: – И комиссары для реквизиций и на сборных пунктах для приема урожая все были евреями. Он крутит шапку в руках туда-сюда, и рассматривает меня. Я прекрасно понимаю, о чем он думает. Но я делаю вид, как будто я не понял). Для него гораздо важнее узнать, будет ли отошедшая колхозам земля возвращена прежним владельцам. Участок земли, который принадлежал имению Скуратово, тоже был передан колхозу Шофрынканы. Я этого не знаю. Все зависит от того, как закончится война.
Я сажусь на стул, в комнате, которая была, пожалуй, когда-то кабинетом «владельца». В комнате еще стоит кушетка. На большом стеллаже стоят и лежат без разбора несколько сотен книг. Большей частью французские издания, естественно; много томов Поля де Кока. Несколько томов Макса Нордау. В «господском доме» некоторое время жили двое советских служащих, два инспектора пункта сбора урожая, как я думаю.
– Вы устали? – спрашивает меня старик. Он советует мне, чтобы я улегся на кушетке. Спасибо, лучше не надо. – Если бы здесь был сборный пункт для приема клопов, – говорю я, – это был бы великолепный урожай. Старик смеется и чешет бороду.
– Нет ли у вас немного хлеба, немного сыра? – спрашиваю я его.
– Да, думаю, найдется, – замечает старик.
Мы покидаем господский дом. В другом конце двора мы видим девушку в красной косынке, которая наблюдает за работой трех пожилых мужчин, засыпающих семечки в мешок. Эта та самая девушка, которая только что помогала мужчине запрягать лошадей. Время от времени ее голос становится громким. Три крестьянина продолжают работу, ничего не отвечая. Старик обращается к девушке.
– Хлеб есть, сыра нет, – отвечает девушка сухо. Старик делает сожалеющее лицо.
– Могу я получить немного молока?
– Молока? Просто идите в хлев. Там стоит корова.
Тут я кладу свою ладонь ей на руку. Я говорю: – Domnisoara bolschevika, я не умею доить. Девушка смеется и говорит: – Извините, domnule, но вы видите...
– Я заплачу вам за молоко.
– Не поэтому... Вам не нужно за него платить.
Она идет в хлев, берет одно из ведер на стене, смотрит, чистое ли оно, идет вымыть его у колодца, возвращается, становится на колени рядом с коровой. Потом она встает, подает мне ведро, с молоком высотой в два пальца.
Старик приносит мне кусок белого хлеба. Немного жесткого, но хорошего.
Я макаю хлеб в молоко на дне ведра. Женщина смотрит, как я ем. Потом она уходит, не попрощавшись. Я думаю: «Она плохо ее воспитала». Тогда я улыбаюсь. Она, должно быть, очень толковая девушка. Она работает, она, собственно, и поддерживает здесь порядок. Она нравится мне, в принципе. Я думаю, что я очень хорошо смог бы доить корову, своими руками. – Прекрасное животное, – говорю я.
– Мы заплатили за нее триста рублей, – говорит старик.
– У кого вы ее купили?
– У колхоза.
– Вы сказали, триста рублей? Целых триста?
– Дорого, я знаю. Но это прекрасное животное. Немецкий солдат появляется в двери хлева. Он спрашивает старика, не продаст ли тот ему гуся. – Да, думаю, это можно. Оба выходят. Я вижу, как они идут через двор, исчезают за домом. Тогда я перехожу в помещение с семечками и ложусь на стопку мешков. Несколько часов спустя я просыпаюсь. Старик стоит передо мной, с девушкой. Он снимает шапку и подает мне клочок бумаги. – Сколько вы только что взяли с солдата за гуся? – спрашиваю я его.
– Пятьдесят лей, – отвечает старик. – Я знаю, пятьдесят лей это много, но сейчас все так дорого. 50 лей? Это ведь ровно столько же пфеннигов. Я бросаю взгляд на клочок бумаги. Это справка о реквизиции двух лошадей. Написанная по-немецки, с подписью немецкого офицера.
– У нас их только что конфисковали. Вы думаете, нам за них заплатят? – спрашивает меня девушка. – Естественно, – говорю я. – Документ полностью в порядке. Это немецкий талон.
– И вы полагаете, нам хорошо заплатят за этих двух лошадей?
– Уж наверняка лучше, чем за гуся, – говорю я со смехом. Девочка нерешительно смотрит на меня. Она слегка краснеет. – Видите ли, – говорит она, – вероятно, старик хотел слишком много за гуся. Пятьдесят лей слишком много, я это понимаю. Но вы должны извинить нас. Что мы вообще можем понимать все-таки в ценах? Большевики говорили нам: это стоит столько, а то столько. Вы тоже должны были делать так. И сначала вы должны были объяснить нам, сколько стоит лей в соотношении с рублем.
Она говорит серьезно и с убежденностью и морщит лоб. «Умная девочка», думаю я, «толковая девочка». – Я советую вам, чтобы вы прямо сейчас пошли к командованию, – говорю я, смеясь, – и попросили там, чтобы полковник установил цену за гусей, если вы не хотите, чтобы через пять минут сюда приехала вся колонна, чтобы скупать ваших гусей по пятьдесят лей за штуку. Девушка смеется и упирается руками в бедра. Потом ее лицо мрачнеет, она краснеет сначала легко, а потом сильнее, как будто она не решается высказать свою мысль, и спрашивает: – Вы думаете, старый владелец вернется? – Старый нет, так как он был евреем. Другой приедет.
– И они не оставят нам землю?
Я не знаю, что я должен отвечать ей. Мне так хотелось бы дать ей положительный ответ. Проведенная в Румынии премьер-министром Брэтиану аграрная реформа (самая смелая земельная реформа, которая когда-нибудь была проведена в Европе в мелкобуржуазном смысле) решила эту проблему, по крайней мере, в главном. Я думаю, что проблема возвращения к буржуазной экономической системе не будет такой трудной для Бессарабии, которая только год назад была присоединена к Советскому Союзу, чем это было бы, например, в Советской России. Потому что на Украине, во всей России, эта проблема, без сомнения, была бесконечно более запутанной, и решать ее следовало бы с самой большой осторожностью. – Вы увидите, что все будет хорошо, – говорю я девушке. – Сначала, само собой разумеется, будет некоторая неуверенность. Нелегко изменить все за один день.
Во дворе, перед нашей дверью, собралась группа людей: это старые мужчины (молодые все были призваны в армию), женщины, девушки, дети и несколько парней, которые были, пожалуй, слишком молоды, чтобы стать солдатами, или не прошли медицинскую комиссию. Они внимательно рассматривают меня, старики стоят с непокрытыми головами, молодые смотрят увереннее, в их поведении и виде нет ничего нерешительного. – Чего они все же хотят? – спрашиваю я девушку. – Они ждут, что кто-то скажет им, что они должны делать. – Они должны продолжать делать то, что они делали до сих пор, отвечаю я с некоторым смущением. – Я думаю, это лучше всего, по крайней мере, в эти первые дни.
Девушка морщит лоб и смотрит на меня, не говоря ни слова. «Умная девочка», думаю я, «толковая девочку. Она до сегодняшнего дня поддерживала здесь все в рабочем состоянии. Она сопротивлялась колхозным функционерам, инспекторам пунктов приема урожая, реквизиционным комиссарам. Дельная девочка», думаю я. Она предписывала, говорила крестьянам, что нужно было делать, она защитила хозяйство. Теперь она ничего больше не значит, теперь она больше не может командовать.
– Продолжайте делать то, что вы делали до сегодняшнего дня, – говорю я ей, – пока вам не скажут, что будет что-то новое, что что-то меняется.
Девушка улыбается, покраснев: – Мы защищали наши поля, мы не сделали ничего плохого. Это на самом деле так, как будто усадьба Скуратово, как будто деревни Кетрушика Стара и Кетрушика Нова, как будто Братушени, и Шофрынканы, и Зэиканы, как будто все эти крестьяне, эти деревни, эти поля, эти бесконечные нивы зерновых поставлены на тонкую грань между одним определенным экономическим, социальным и политическим порядком и другим, который противоположен первому, как будто они испытывали чувствительное и опасное мгновение своей метаморфозы, переживали критическое мгновение перехода от одного порядка к другому.
– Нет, конечно, вы не сделали ничего плохого, – говорю я. Спустя несколько часов, когда я выхожу из сенника, я иду через двор усадьбы. Я заснул на сеновале; когда я проснулся, то почувствовал, что мой рот полон пыли. Я хочу пить. Странная тишина нависает над имением. Старик сидит у двери в хлев; я прошу у него стакан воды. Он рассматривает меня угасшим взглядом и не отвечает. Я сам иду к колодцу. Внезапно я вижу на земле, у стены хлева, красную косынку, две голые ноги. Это девушка; ее лицо в крови. Я накрываю ее лицо моим носовым платком. – Нет, ты не сделала ничего плохого, говорю я тихо. (Последний абзац был в 1941 году вычеркнут цензурой и восстановлен здесь на основе оригинального текста).
8. Стальные кони
Корноленка, 14 июля
Еще не зарозовел рассвет, когда мы покидаем усадьбу в Скуратово. Моторы чихают. Мне вспоминается знаменитое чихание греческого гоплита Ксенофонта «chaire! chaire!» Небо на востоке серебристо-бледное. Хлеб легко шелестит, журчит как вода, расстилаясь между низкими берегами. На склонах холмов (которые постепенно становятся ниже, теперь они выглядят как груди, между широкими складками территории образуются легкие борозды: не долина, только лишь место тени, остановки, спокойствия) можно увидеть отряды разведчиков, скользящие вдоль борозд, они ясно выделяются на фоне очень бледного неба. Битва бушует перед нами. Русские наносят контрудар. Эти контратаки советских войск происходят не только на нашем фронте, но и дальше на юго-восток в направлении на Бельцы, на удерживаемом румынскими дивизиями участке фронта. Ударные группы легкой румынской кавалерии появляются и исчезают справа от нас. Они являются связью между нашей и смешанной немецко-румынской колонной, которая продвигается по диагонали к нашему направлению марша.
В равномерном рокоте артиллерии выделяются сухой треск противотанковой артиллерии, более глухой – маленьких противотанковых пушек. Наша колонна медленно движется вперед в ясном, прохладном воздухе; небо на востоке как бы сделано из слегка смятой шелковой бумаги. Рой жаворонков поднимается из нив. Дым из выхлопных труб образует легкий синий ореол вокруг машин. Потом внезапно, там где холм переходит в мягкий склон, поднимается красное облако пыли при нашем проезде, рассеченном скрежетом колес, визгом гусениц, высоким тоном жужжащих двигателей. Такая колонна похожа на бронепоезд. Я залез в машину старшего лейтенанта Шульца; я сел рядом с ним и в некоторой степени удобно устроился на ящике боеприпасов. Я спрашиваю его, прочитал ли он знаменитую книгу «Бронепоезд 1469» коммунистического писателя Леонова.
– Да, – говорит он, – вы правы, такая колонна на самом деле как бронепоезд. Горе тому, кто выйдет из поезда, горе тому, кто удалится от колонны. Территория вокруг нас полна коварства. Наш бронепоезд движется вперед по невидимым рельсам. Пули одиночных русских солдат, которые спрятались на полях (я едва не сказал, вдоль железнодорожной насыпи), ударяют о стальные стены наших машин. – Вы помните о нападении на поезд 1469? Только марш нашей колонны невозможно задержать, нельзя взорвать невидимые рельсы, по которым катится наш бронепоезд. Мы говорим о коммунистической литературе. Старший лейтенант Шульц (он доцент в университете, он занимается социальными вопросами, опубликовал несколько статей о Советской России, теперь он командует подразделением зенитной артиллерии нашей моторизированной колонны) говорит мне, что Россия, очень вероятно, после поражения еще раз переживет то время, которое в определенном смысле очень похоже на то, что описал Пильняк в «Голом годе». – С тем различием, – добавляет он, – что драма, описанная Пильняком, происходила, так сказать, в лаборатории. Россия испытает еще раз ту же самую драму, но во дворе фабрики, сталеплавильного комбината, в безнадежном климате подавленного выступления рабочих. Затем он смотрит на меня, улыбается робко и говорит: – Машины – это, с социальной точки зрения, очень интересные и опасные фигуры. Он признается мне, что эта проблема исключительно занимает его. Солдаты кричат с машин друг другу, делают друг другу знаки, бросают друг другу разные предметы: расчески, щетки, пачки сигарет, куски мыла, полотенца. Приказ к выдвижению пришел неожиданно, у многих даже не было времени умыться, побриться. Теперь они делают это, насколько у них получается: некоторые с широко расставленными ногами балансируют на платформе машины с зенитной пушкой, они умываются с голым торсом из чего-то вроде полотняных ведер, другие бреются, стоя на коленях перед кусочком зеркала, который они прижали к винтовочной стойке или повесили на треноге пулемета, другие чистят себе сапоги водой и мылом.
Солнце проламывает свою кожуру на горизонте, поднимается на небе, полностью покрытом зелеными полосами, робко отражается от брони машин. Легкий розовый пух появляется на серых стальных плитах. Во главе колонны тяжелые танки окрашиваются розовыми бликами, отражают нежные и живые проблески света. И внезапно, там далеко перед нами, глубоко на горизонте, в той бесконечной волне колосьев, которая скользит как золотая река, внезапно там, на склоне холма, беспокойный блеск стали, вспышки танков.
Вдоль колонны проносится крик: – Монголы! Монголы! Ведь за это время солдаты уже знают, как по манере ведения боя, по их тактическим приемам, отличить монгольские подразделения от других советских подразделений. Обычно танки с азиатскими экипажами сражаются не в боевом порядке, а в отдельности или в группах по два или самое большее по три танка. Это тактика, которая в какой-то мере напоминает тактику кавалерийских групп. «Бронированные кони» называют их немецкие солдаты. В них осталось что-то из старого духа, в этих татарских всадниках, из которых индустриализация Советов и военное стахановское движение сделали квалифицированных рабочих, механиков, водителей танков.
Несколько татарских пленных, которых привели вчера вечером и передали в усадьбу Скуратово, подтвердили, что советские войска, которым поручена оборона Украины (т.е. промышленного района и района горнодобывающей промышленности на Днепре и Доне, дорог, ведущих на Кавказ и к нефти Баку), большей частью являются азиатскими войсками: это татары из Крыма, остатки Золотой орды, это монголы с берегов Дона, Волги, Каспийского моря, из киргизских степей, из степей около Ташкента и Самарканда, это курды из Туркестана. Они – наилучшее, что произвел пятилетний план монгольских республик, они – отборные продукты индустриализации азиатской России, молодые рекруты военного стахановского движения.
Пленных, согнанных во дворе усадьбы, было примерно пятнадцать, с телосложением чуть выше среднего роста, худые, но с пропорциональными телами, подвижные и сильные. Они, кажется, были очень молоды на первый взгляд, однако, это была галлюцинация. Я сказал бы, им было между двадцатью пятью и тридцатью годами. На них была простая форма цвета хаки, без каких-либо знаков, даже без номера на воротнике курток. Над блестящими черными волосами пилотки тоже защитного цвета. На ногах сапоги с татарским фасоном, из серой, мягкой кожи, одинаково удобной и для того, чтобы скакать на коне, и чтобы сидеть, скорчившись, в узком пространстве танка. Глаза были узкие, раскосые, рот маленький. Вокруг глаз и над висками паутинка микроскопических, живых, чувствительных морщинок, которые дрожали как сплетение нервов на крыльях стрекоз. Они сидели на земле вдоль стены хлева, прислонившись к маслянистому пятну заходящего солнца. Они жевали подсолнечные семечки; внешне безразлично и, все же, очень внимательно. Недоверие скрывалось под этим хладнокровным и ровным безразличием. Солнечное пятно на стене сокращалось все больше, пока оно не стало, наконец, только лишь маленьким светлым светящимся местом на лице одного из пленных. Это желтая, интенсивно освещенная последними лучами заходящего солнца маска была тверда и неподвижна: тонкий рот закрыт, гладкий лоб непроницаем, лишенные тени глаза направлены прямо. Лишь обе паутинки морщин вокруг глаз дрожали, нежно и чувствительно. Лицо его было, я не знаю почему, как умирающая птица. Когда солнце исчезло, желтая птица сложила крылья лениво и сидела. Они были взяты в плен, когда они с двумя разведывательными броневиками пытались добраться к основным силам своей части. Танк, который защищал их, остался лежать подбитым в поле в нескольких километрах к востоку от Скуратово. Они яростно защитились от тяжелого немецкого танка, который отрезал им дорогу. Тщетная защита. Против танка пулеметный огонь абсолютно бесполезен. Часть их погибла, теперь оставшиеся в живых сидели здесь вдоль стены этого двора. Они жевали свои семечки, слегка прищурив маленькие, раскосые глаза.
Они, кажется, очнулись из своего оцепенения только тогда, когда во двор вкатился один из тех маленьких оснащенных гусеницами мотоциклов, за которым следовал маленький броневик, тоже на гусеницах. Они новшество в немецкой армии; они появлялись впервые в этом русском походе. Речь идет не о настоящем мотоцикле, к которому добавлены гусеницы; скорее это гусеничная машина, которой управляет и в то же время тянет что-то вроде мотоцикла, который высовывается из брони только одним защищенным цепями колесом. Водитель сидит верхом на мотоцикле, прислонившись спиной к гусеничной тележке. Когда эту машину видят в таком виде, ее считают вспомогательным транспортным средством, легким и с незначительной мощностью. Но немцы рассказывают о нем чудеса, из-за его прекрасной силы тяги и способности брать крутые подъема. Эта машинка может влезть повсюду. Ее конструктор спроектировал ее для горной войны. При первом применении на русских равнинах гусеничный мотоцикл поразил техников своими удивительными механическими и практическими качествами. Он служит большей частью для подвоза боеприпасов и канистр с бензином. В бою эти странные транспортные средства следуют непосредственно за боевыми порядками танков и носятся туда-сюда между отдельными танками. Некоторые используются для буксировки легких орудий противотанковой обороны. Они очень быстрые, и посреди нив почти невидимые.
Татарские пленники рассматривают эту странную машину с самым живым интересом. Я осматриваю их ладони. Они маленькие, короткие, замазанные машинным маслом, с мозолистым большим пальцем. Кожа между указательным и большим пальцами исполосована глубокими черными бороздами, как на руках людей, работающих на металлургическом заводе. Руки механиков. Как кажется, монголы будут отличными механиками. Не подсобными рабочими, а настоящими профессионалами. На русских металлургических заводах теперь работает очень много молодых монголов, особенно на предприятиях в районах вокруг Харькова. У них есть необычная страсть к машинам. Интерес к точной игре моторов, передаточных механизмов, манометров у молодежи ставшей советской Монголии занял место их древней страсти к лошадям. Они, по-видимому, рождены для этой максимально подвижной войны, для этой тактики наступательных бронированных ударов, похожих на глубокие прорывы кавалерийских частей в прежних войнах. Мне очень хотелось бы сказать, что они используют танк, как когда-то лошадь. С теми же приемами, по индивидуальному принципу, который представляет новинку в этой танковой войне, которую монголы ведут на равнинах Украины. Они приближаются не в массах, а в отдельности. Они передвигаются по нивам в широких спиралях, хотелось бы сказать, что они развертываются как на огромном манеже. Эта их наглая смелость напоминает о классической надменности кавалерии. – Монголы! Монголы! – кричат немецкие солдаты. Это три маленьких бронемашины, они быстро спускаются с легкого склона холма, на расстоянии не более трех километров перед нами. Два тяжелых танка отделяются от авангарда нашей колонны: мы видим, как они наискосок движутся через поле, один справа, другой слева, и постепенно увеличивают расстояние между собой, как будто хотят отрезать противнику путь с помощью охватывающего маневра. Три маленьких монгольских танка разъезжаются друг от друга, они начинают серию странных движений, как будто каждый описывает широкую спираль на волнистой местности, на которой они время от времени снова и снова скрываются. Можно было бы сказать, что они пытаются выиграть время, впутать немецкие танки во что-то вроде гимханы, чтобы дать возможность основным силам их части прийти им на помощь или отойти. Затем внезапно оба тяжелых немецких танка начинают стрелять из своих пушек.
Видно, как снаряды поднимают высокие земляные фонтаны вокруг маленьких советских машин. Бой продолжается только десять минут: так как они быстрее, чем танки, русские машины уклоняются от огня и исчезают за холмом. – Это тактика заманивания, – говорит мне старший лейтенант Шульц. – На этой войне подвижных колонн бронированные кони выполняют смелое и действительно опасное задание. Нужно быть начеку, чтобы не дать заманить себя этой коварной игрой соблазна на какую-нибудь заминированную территорию или в засаду сильных танковых подразделений, которые спрятались в укрытии за лесом или за холмом. Мы достигаем деревни Корноленка через несколько часов. Деревня цела, но покинута. Недалеко от деревни горит группа домов. Наша колонна получила приказ под защитой холма идти к позиции примерно в один километр по ту сторону Корноленки. Мы проводим вторую половину дня в утомляющем ожидании. Одно из наших средних орудий, которое поставили между домами деревни, время от времени стреляет. Каждые три минуты выстрел. Многочисленные батареи, которые развернулись на нашем правом фланге, стреляют беспрерывно.
К вечеру к нам приезжают около десяти немецких грузовиков, во главе колонны которых движется танк. Из одной машины выходят шестеро пленных: четыре монгола и двое русских.
В то время как после допроса пленных запирают в комнате одного из деревенских домов, старший лейтенант Шульц приходит ко мне и говорит: – Я предполагаю, что один из пленных – политический комиссар. Вы обратили внимание на его форму?
Уже темно, когда я замечаю странное хождение туда и сюда в доме, в котором стерегут пленных. Когда я подхожу к дому, я наталкиваюсь снова на Шульца. Он рассказывает мне, что «политический комиссар» был найден мертвым, удавившимся. И он показывает мне клочок бумаги, на котором карандашом по-русски что-то написано. Я разбираю следующие слова: «Я сам отдал приказ моим солдатам, чтобы они убили меня». Подпись отчетлива: «Василий Волынский, политический комиссар пятнадцатой танковой дивизии».
9. Там – Днестр
Сорока на Днестре, 4 августа
Там – Днестр. Да, там Днестр, в тесной глубокой долине с ее крутыми склонами из жесткой глины, изборожденными белыми морщинами и красными расщелинами. На краю украинского берега, в зелени кукурузы, в золоте пшеницы, между маленькими рощами акаций и в чаще полей подсолнуха и сои железный и бетонный лабиринт Линии Сталина.
Это сложная система бетонных убежищ, зигзагообразных траншей, бункеров со стальными куполами. Если смотреть оттуда, с высоты дамбы, круто поднимающейся над Сорокой, Линия Сталина представляется мне как ряд белых букв на грифельной доске берега. Почти невидимая «T» на соевом поле – позиция противотанковых пушек, «A», «C», перевернутая «D», «Z», «I» это маленькие укрепления, бункеры, траншеи, проходы, пулеметные гнезда. Это все почти одно зашифрованное письмо, закодированный язык, таинственное послание из сигналов, которое немецкие артиллеристы терпеливо расшифровывают с помощью визирных пластин, чтобы подготовить последний штурм. Уже прибывают осадные парки на поле битвы. Дребезг гусениц размалывает наполненный плотной пылью воздух. Кажется, как будто большие стальные зубы измельчают восторженный порядок этого летнего послеполуденного дня. Молот пушек бьет по стальным пластинам полуденной жары. Огромные замки белых облаков разбиваются на горизонте, над зеленью и золотом украинской равнины.
Там Днестр. Мы два дня назад покинули моторизированную дивизию, к которой мы были прикомандированы, и поехали к югу, чтобы добраться до колонны штурмовой пехоты. Война здесь коренным образом отличается от той, свидетелем которой мы были в течение прошедших дней. Это больше не механизированная война, не столкновение больших формирований тяжелых бронированных машин, а древняя война пехоты, батарей на конной тяге. Запах лошадиного навоза мне приятен после всех этих испарений смазочного масла и бензина. Голоса солдат звучат в моих ушах как голоса наконец-то найденной человечности.
От фронта у Могилева сюда к Сороке поездка была довольно затруднительной. По дорогам, которые были переполнены машинами, артиллерийскими обозами, колоннами пехоты, необозримыми колоннами грузовиков в ослепляющем, плотном облаке красной пыли. По сторонам дороги тут и там разодранные машины, обгоревшие грузовики, опрокинутые советские танки. Возле Бельцев следы борьбы видны чаще. Пленные группами работают над очисткой дороги. Они с очевидным любопытством смотрят, как я проезжаю мимо, рассматривают мою форму итальянских альпийских стрелков. Одно мгновение они стоят, опираясь на ручку лопаты, но тут же голоса немецких солдат, которые их охраняют, подгоняют их продолжать работу. Тут и там в группе пленных монгольское лицо образует круглое желтое пятно. Узкие раскосые глаза, маленький рот, выбритый череп. В нескольких километрах перед Власешти появляются первые русские могилы, возле нескольких уничтоженных русских танков. Это простые могильные холмы без крестов, без имени, без какого-либо знака: только советская каска на свежераскопанной земле, или фуражка с кожаным козырьком, или разорванная гимнастерка защитного цвета. На другой стороне дороги в рядах кресты немецких кладбищ: могилы покрыты цветами, и на каждом кресте, под каской, которой накрыт крест, имя, звание, возраст погибшего. На могиле летчика («Мессершмитт» лежит на ниве, сожженные крылья, фюзеляж с вмятинами) намотана пулеметная лента вокруг креста. Похоже на змею, символ вечности, который рисовали древние на стенах домов и на стенах могил.
Также в роскошности ландшафта, в богатстве зрелого хлеба, в великолепии белых облаков над тугой грудью холмов лежит предчувствие смерти, знак гибели. Это тайное значение лета. Люди умирают, как времена года. Это богатая смерть, в самое богатое время года. Затем приходит осень с ее сладкими пурпурными плодами.
Издалека показываются Бельцы, жестоко пострадавшие от боев, которые целыми днями бушевали вокруг города. Я был севернее, в Скуратово, когда Бельцы попали в руки немцев. Перед усадьбой под Скуратово справа от нас, немного назад, пламя пожаров окрашивают небо в пурпурный свет. Прошлой ночью во время боев я не смыкал глаз, настолько близко казался грохот орудий.