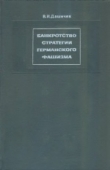Текст книги "Волга рождается в Европе (ЛП)"
Автор книги: Курцио Малапарте
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Мы достигаем Зэиканы в первые часы после полудня. Русские войска покинули это место всего несколько часов назад. Я брожу между домами и садами. В пруду за прекрасной белой церковью со светлыми металлическими куполами сотни уток лениво резвятся между высокой осокой. Лошади пасутся на лугах, куры шумят за изгородями, на склоне коровы образуют белые пятна на зеленом фоне. Прибегают группы детей, чтобы поглазеть на немецкие машины, женщины со смехом выглядывают из-за забора, старики сидят у входной двери, надвинув низко на лоб свои высокие шапки из овечьей шерсти. Это обыкновенная картина, обычная абсурдная картина этих мирных и несколько испуганных деревень, оказавшихся в бороздах на полях сражений.
Я останавливаюсь перед дарохранительницей, одной из тех грубых деревенских дарохранительниц, какие можно увидеть, например, в альпийских деревнях вдоль дорог. Но не хватает креста, не хватает вырезанного из дерева Христа. Дарохранительница выглядит как только что отлакированная, ухоженная благочестивым усердием жителей; но Христос отсутствует, крест отсутствует. Старый крестьянин приближается ко мне, снимает меховую шапку, «katschjula», и крестится. – Большевики не хотели никаких икон и распятий, – говорит он мне; – они не хотели этого, – и он смеется, как будто над коммунистическим безбожием можно только смеяться. Немецкий офицер говорит мне позже, что молодые люди в деревнях, по-видимому, не думают так, как старики. Их, похоже, это совсем не интересует. Я вхожу в церковь. Все аккуратно, все чисто, стены выглядят только что окрашенными; но нет никаких икон, крестов, ничего, что напоминало бы о христианском культе. Также кресты наверху на куполах церквей исчезли. Несколько женщин рассказывают мне: – Большевики сверху сбросили кресты. Они не хотели ничего знать об этом, – и они смеются, как будто также и они считают такое безбожие смешным. Но в то же время они крестятся, тремя собранными вместе пальцами, и целуют кончики пальцев.
Штаб нашей колонны разместился в деревенской школе. Мы остановились в Зэиканах всего несколько часов назад, но уже функционирует телефонная станция, уже писари сидят за своими машинками. Главный зал школы чист, стены только что побелены известью. Скамьи новые, но уже запачканные чернилами, и дети уже вырезали на них что-то перочинными ножиками. На одной стене висит доска с расписанием уроков по-русски. Для деревенской школы довольно сложное расписание уроков. Много часов в неделю выделены «пролетарскому мировоззрению». Когда я возвращаюсь к своей колонне, батареи зенитных пушек начинают яростно лаять. Группа из двадцати трех советских бомбардировщиков летит высоко над нашими головами, на высоте примерно полутора тысяч метров. Отчетливо можно узнать очертания контуров бомбардировщиков «Мартин», четко выделяющиеся на синем и белом небе. Снаряды зенитных пушек взрываются рядом с самолетами, хвост эскадрильи отделяется и потом снова включается в боевой порядок. Они летят в восточном направлении, возвращаются назад с какой-то операции над нашими линиями снабжения.
Через несколько секунд два немецких истребителя с быстротой стрелы рассекают небо, преследуя вражескую эскадрилью, которая исчезает за огромным парящим на горизонте облаком.
– Русская военная авиация очень активна в этих дни, – говорит мне офицер нашего штаба, капитан Целлер, – они бомбят мосты через Прут и атакуют колонны на наших тыловых позициях. Они хоть и мешают, но причиняют только небольшой ущерб.
Он говорит о сопротивлении советских войск и делает это как военный, без преувеличений, объективно, не выражая никаких политических оценок, не пользуясь никакими аргументами, помимо аргументов технического рода. – Мы смогли захватить совсем немного пленных, так как они борются до последнего. Они не сдаются. Их техника не выдерживает сравнения с нашей; но они умеют ею пользоваться. Он подтверждает, что на этом фронте русские подразделения состоят преимущественно из представителей азиатских народностей. Только подразделения специалистов состоят из русских. Мы отправляемся посетить двух пленных офицеров, летчика и лейтенанта-танкиста.
– Они очень примитивны, – замечает капитан Целлер. Это единственная оценка нетехнического рода, которую я слышу от него. И это, по-моему, ошибочная оценка; «буржуазное» суждение.
Лейтенант авиации осторожно курит и глядит на нас пристально и бодро. Он с заметным любопытством рассматривает мою форму итальянских альпийских стрелков. Но он не говорит. Из них двоих, говорят мне, он более упрямый молчун. Он отказался давать какие-нибудь показания. Он выглядит как мужчина из народа, вероятно, он происходит из крестьянской семьи. Лицо прямоугольное, гладко выбритое, нос немного широкий. Он выпрыгнул с парашютом из горящей машины. Если русским летчикам приходится приземляться на немецких позициях, они большей частью защищаются с помощью пистолета. Здесь он был безоружен. Во время его прыжка с парашютом пистолет выскользнул у него из кармана. Он с равнодушием позволил себя задержать. Лейтенант-танкист – человек сильного, коренастого телосложения, с жестким лицом с грубыми чертами. Он происходит, пожалуй, из рабочего слоя. Он белокурый, со светлыми глазами, довольно большими ушами. Он сидит и курит, улыбаясь. Он глядит на меня. Я обращаюсь к нему по-русски. Он говорит мне, что сожалеет, что попал в плен. – Вы хотели бы продолжать сражаться?
Он не дает ответа. Потом говорит, что это была не его вина. Он исполнял свой долг и ему не в чем себя упрекать. – Вы коммунист? Он не отвечает. Тогда он говорит мне, что он несколько лет был рабочим на шарикоподшипниковом заводе, в Горьком, который раньше назывался Нижний Новгород. Он смотрит на нескольких солдат, которые разбирают цилиндры двигателя. Видно, что ему тоже очень хотелось бы поработать с двигателем. Он выбрасывает сигарету, снимает шапку, чешет голову. Он производит впечатление безработного.
К вечеру наша колонна снова продолжает марш. Аддьо, Зэиканы. Колеса транспортных средств до осей погружаются в глубокую грязь. Их приходится буквально толкать вперед. Мы обгоняем длинную артиллерийскую часть; каждое орудие, каждый груз боеприпасов тянут шесть, восемь пар лошадей. Эскадрон кавалерии выделяется на гребне холма, на фоне бело-облачного неба, которое заходящее солнце простреливает мрачными кроваво-красными штрихами. Через несколько километров, в зеленой котловине, нам открывается деревня Шофрынканы. Возвышенности вокруг еще лежат в свете, но впадина долины с населенным пунктом наполнена плотной влажной тенью. Внезапно жужжание самолета доносится из сплетения облаков; первая бомба падает на дома Шофрынканы; затем еще одна, и потом еще больше. Красные огни взрывов расщепляют тень там внизу, перед нами. Красная колонна поднимается на краю деревни, треск и грохот разрастаются над цепями гор. Это могут быть только два или три бомбардировщика, не больше. Затем два немецких истребителя разрывают пурпурное вечернее небо и бросаются на русские машины. Один «Мартин», пылая, падает за лесом, в направлении Братушени. Вскоре после этого мотоциклист сообщает, что мост у Шофрынканы разрушен, и еще одна бомба упала на две машины с боеприпасами. Много погибших. Нашей колонне придется устроить лагерь здесь на высоте, и ждать, пока мост не отремонтируют. Наверное, нужно будет остаться здесь надолго. Несколько домов Шофрынканы горят. Справа от нас, на довольно незначительном удалении, беспрерывно стреляют тяжелые гаубицы, вдали слышен грохот попаданий и взрывов. Тут и там, светлой ночью, разносятся винтовочные выстрелы рассеянных русских солдат. Бледная торжественная луна медленно поднимается из нив.
6. Хорошенько рассмотрите их, этих мертвецов
Братушени, 7 июля
Уже полночь, когда колонна снова приступает к маршу. Холодный ветер косо разрезает тонко-отточенное стекло воздуха. Это прозрачный воздух, с бликами, как вода в лунном свете. Мы спускаемся в Шофрынканы. Дом на краю деревни еще горит. Шофрынканы – это не столько деревня, сколько большое сельское местечко с рынком, с белыми домами между грецкими орехами, ясенями и липами. У нас приказ расположиться на противоположной высоте края долины, чтобы прикрыть левый фланг колонны, которая ввязалась в тяжелый бой вблизи Братушени справа от нас. Нам нужно поторопиться. Слишком много времени уже потеряно перед разрушенным мостом у Шофрынканы. Машины глубоко погружаются в болото. Дорога, если можно так назвать эту протоптанную дорожку, покрыта толстым слоем неосязаемой пыли, которая при каждом порыве ветра, каждом самом тихом дыхании ветра, поднимается вверх плотными красными облаками; но всюду, где глинистый грунт удерживает дождевую воду или где какой-либо водоток пересекает путь, вязкая тина засасывает колеса и гусеницы, и машины медленно тонут в «буне», как в речном песке.
Солдаты двигают машины вперед мышечной силой. В яростном тарахтении моторов хриплое дыхание людей приобретает нечто кошачье. Между тем луна зашла, в ставшей теперь темной ночью нас обстреливают спрятавшиеся в лесах и нивах русские солдаты. Пули свистят высоко над нашими головами. Никто не реагирует, как будто не замечает этого. Уже нужно что-то иное, чтобы отвлечь этих рабочих-солдат от их работы. Связного старшего лейтенанта Вайля обстреляли из пулемета, когда он доставлял приказ в Зэиканы. Это не настоящие партизаны, а отставшие от своих частей советские солдаты. Они стреляют в отдельных солдат, обстреливают фланг и арьергард колонн. Так мы входим в Шофрынканы, едем по деревянному мосту, который саперы соорудили за несколько часов; стволы деревьев, положенные над грубо сколоченными балками, качаются и охают, сгибаются под весом машин. Жители местечка убежали в леса, чтобы спрятаться от советских воздушных налетов. Только собаки остались, они лают за заборами опустевших домов. Нам понадобится более часа, чтобы проехать деревню. Нам приходится толкать и тащить машины. Жидкая грязь течет вниз по мне, наполняет мне сапоги. Я хочу есть. У меня еще есть несколько ломтей хлеба и немного сыра.
Там перед нами взрывы снарядов раскалывают ночь с красным сверканием. Треск тяжелых снарядов заглушает шум моторов. Офицер кричит, его голос металлический, жесткий и резкий. Однажды наша машина сваливает в дыру с жидкой грязью. Двадцать солдат прибегают к нам на помощь, пытаясь снова поставить машину на ее четыре колеса. Это не удается. Нам приходится ждать, пока гусеничная машина не возьмет нас на буксир и с силой не вырвет нас из липких эластичных клещей «буны». Мой фотоаппарат остался в грязной дыре. Мне особенно жаль кадры на уже экспонированной пленке. Я утешаюсь мыслью, что со мной могло произойти что-то куда более плохое. Мы проезжаем мимо последних домов Шофрынканы и поднимаемся по склону высоты за деревней. Дорога становится непроходимой, машины противятся подъему вверх, снова и снова скользят назад. Лучше ехать наискось напрямик через поле сои. Колеса находят упор на широких листьях, на длинных крепких стеблях.
Один из наших пулеметов начинает прочесывать огнем огромную волнистую поверхность полей слева от нас, чтобы заставить замолчать русское гнездо сопротивления, спрятавшееся между высоких хлебов. Утро уже брезжит, когда наша колонна, наконец, достигает высоты. Там перед нами, на гребне легкого, безлесного, пшенично-желтого холма ясно выделяется на фоне светлого неба советский танк. Он медленно приближается к нам, стреляя. Он останавливается и стреляет из пушки в носовой части. Потом он катится дальше, отчетливо можно различить скрип гусениц; как будто он вынюхивает след, который невидимо проходит через борозды.
Внезапно он начинает стрелять из пулеметов, но без поспешности, так, как если бы он хотел только проверить оружие. Затем он быстро спускается со склона, к нам, снова поворачивает широкой дугой и стреляет из пушки. Можно было бы сказать, что он кого-то ищет, кого-то зовет. До тех пор пока, наконец, из хлеба не появляются несколько солдат, бегут прямо, появляются еще следующие, тут и там, их в целом может быть примерно сто. Наверное, это арьергард или, вероятно, отрезанное от своей части подразделение. Солдаты, кажется, медлят. Они ищут выход. – Бедные парни, – говорит рядом со мной старший лейтенант Вайль. И тут солдаты приходят в движение в нашу сторону и стреляют. Внезапно они исчезли. Видимо, на склоне холма есть какая-то траншея, углубление или складка местности в том месте. Вокруг танка можно увидеть, как брызжут вверх комья земли при попаданиях наших минометов. Тарахтение пулеметов продолжает тянуться вдоль фланга колонны, как огромная молния. Затем видны несколько немецких солдат, справа от нас, которые, нагибаясь, рассыпаются в стрелковую цепь, стреляя из легких пулеметов. Противотанковая пушка выпускает несколько снарядов по русскому танку. И теперь два немецких танка стоят с резким силуэтом на гребне высоты, точно сзади над русским. Наша колонна получает приказ тоже продвигаться вперед, для поддержки передовой группы. Красные медленно удаляются, но огонь не прекращают.
Мы спускаемся с холма, поднимаемся вверх по противоположному склону. Немецкий солдат, который был ранен в ногу, сидит на земле. Он смеется, проводя тыльной стороной ладони по запачканному засохшей грязью лицу. Санитар со смехом подходит к нему, становится рядом с ним на колени и начинает чистить рану. Русские медленно отходят, они идут прямо по высоким колосьям и стреляют. Советский танк, развороченный попаданием, лежит на боку.
Внезапно гигантский голос громкоговорителя гремит «Внимание, внимание!» И потом звуки танго, смешанные с металлическим треском, ревут из глотки большой воронки, которая установлена на крыше подвижной звуковещательной станции роты пропаганды. Солдаты в диком восторге. Гремящая музыка сопровождает шум моторов, тарахтение пулеметов, скрежет шестерен в гусеничных цепях.
«Я люблю тебя, смуглая Мадонна…», поет грубоватый голос в громкоговорителе. Колонна останавливается; яростные пулеметные очереди тянутся высоко над нами. Я подхожу к лейтенанту, который командует взводом роты пропаганды, которая присоединяется к нашей колонне. Когда я предлагаю ему сигарету, я вижу, как он как слепой протягивают наощупь руку к сигарете. Он потерял свои очки. Он смеется, проводит двумя пальцами над веком, поясняя: – Во второй раз с начала войны я теперь потерял очки. Вот таким, ощупывающим вслепую, я вступал в Париж.
Колонна снова приступает к движению, вскоре после этого мы проходим мимо расстрелянного русского танка. Несколько мертвых советских солдат лежат вокруг него среди колосьев. Двое лежат на спине с расставленными врозь ногами; другие съежившись на боку. Им примерно по двадцать лет. Почти все монголы. Только двое, по-видимому, русские. Санитар переходит из колонны к погибшим, ощупывает их, исследует одного за другим. Колонна остановилась, солдаты нагибаются из своих машин, рассматривая мертвецов. – Тут уже ничего не поделаешь, – говорит санитар. Форма некоторых из погибших сшита из темно-серого сукна, с синим или красноватым оттенками, у других защитного цвета. Все в сапогах. На головах у них шапки, а не каски. У двух из них, один из них монгол, на голове есть что-то вроде кожаного шлема, похожего на шлем летчика. Наверное, они принадлежали к экипажу танка. Странно, мертвецы этой войны. Они лежат на пшеничной ниве как случайное явление. Так абсолютно непричастно, также на этом огромном, слегка опирающемся на гребень высоты небе. Дыхание хлебного поля распределяется в воздухе с зелеными и желтыми тонами. Ветер как волна проносится над полями, волна колосьев наталкивается на горизонт, слышится это длинный, таинственный шум готового к жатве урожая. Мертвецы – как будто выброшенные штормом на берег жертвы кораблекрушения. Прибитые к берегу мягкой волной хлебной нивы.
Солнце ясно стоит в холодном воздухе утра. Из деревни Братушени недалеко за нами слышны хриплые голоса петухов, рев коров. Крестьяне группами появляются у заборов вокруг их домов, другие выползают из огромных куч соломы. Женщины и дети заползали на ночь в солому, чтобы спать. Странная война. Серая сталь бронированных колонн задевает деревни, задевает мягкие волны нив, задевает дряхлые дома из соломы и глины: она задевает их, не касаясь их. Это кажется чудом, и все же это только результат доведенной до совершенства техники, научного метода ведения войны.
Танковая колонна – настоящий точный инструмент. Кажется, будто только машины уязвимы, будто эта необычная война должна уважать человеческую жизнь. Это причина, по которой мертвые на этих полях сражения выглядят такими случайными, вне логичных последствий этой войны. В них есть что-то противоречивое, они будят даже в солдатах чувство неожиданности, непонимания. Они – реальность вне всякого правила, вне всякого закона, неожиданный результат неудачного эксперимента, ошибки в этом военном механизме. То, что придает вид реальности этим мертвецам, что снова приобщает их к логике природы, это факт нерационального, абсурдности ее смерти.
Только что во время этого короткого боя у меня на некоторое время возникло впечатление, что машины действовали как живые тела, почти как существа с собственной волей, с собственным интеллектом. И те люди, которые бежали по ниве и стреляли по жесткой стальной броне танков, казались мне не принадлежащими к этому процессу, к этому страшному столкновению машин. Я подхожу к мертвецам, я рассматриваю их одного за другим. Почти все они монголы. Они уже не сражаются, как раньше, только с винтовкой или с длинной пикой, сидя на крупах своих худых степных лошадей, а воюют машинами, впрыскивая масло в коробку передач, внимательно прислушиваясь к ритму двигателей. Они борются, склоняясь уже не к гриве лошади, а к панели приборов с множеством инструментов. «Стахановцы» армии Сталина, «ударники», настоящие продукты «пятилеток», пятилетних планов, результаты знаменитой ленинской формулы (советы + электрификация = большевизм), доказывают, что они способны выдержать страшное кровавое противостояние с рабочими-солдатами немецкой армии. Моторизация армий пользуется не только «специальным образованием» фабричных коллективов, но и технической тренировкой масс как последствием индустриализации сельского хозяйства. Именно здесь кроется значение этой войны, смысл этой конфронтации Германии и России. Это конфронтация не только людей, но и машин, техники, методов индустриализации. Не инженеров Геринга и Стаханова, а организационной работы национал-социалистов и советских пятилеток. Конфронтация двух народов, которые с помощью индустриализации или скорее «моторизации сельского хозяйства» приобрели для себя не только технику, но и «мораль» рабочего, которая необходима, чтобы суметь сражаться на этой войне. То, что противостоит друг другу в этом русском походе, как на немецкой, так и на советской стороне, это две армии, нерв которых преимущественно состоит из специализированных рабочих и «индустриализируемых» крестьян. По той манере, как воюет русский солдат, становится ясно, что «мужик» 1941 года борется также как современный рабочий, больше не как просто «мужик». Это первый раз в военной истории, когда друг другу противостоят две армии, в которых военный дух объединяется с рабочим духом, с «рабочей моралью», и в которых военная дисциплина сливается, сплавляется с технической дисциплиной труда, коллектива квалифицированных рабочих. Также с социальной точки зрения это обстоятельство, без сомнения, весьма интересно. Я думаю об ошибке всех тех, которые в момент начала похода в Россию надеялись, что при первом столкновении в Москве произойдет революция. Они ожидали, другими словами, что крушение системы будет предшествовать крушению армии. И они тем самым доказали, что они не поняли дух советского общества. Больше, чем колхозы, большие сельскохозяйственные коллективные предприятия, больше, чем мощные заводы, которые создали русские, больше, чем их тяжелая промышленность, самое важное промышленное творение коммунизма – это армия.
Все в ней, от оружия до духа этой армии, – результат двадцати лет промышленной организации, технического воспитания квалифицированных коллективов. Настоящий организм советского общества – армия. Не по устаревшему милитаристскому понятию; а потому, что по армии можно понять уровень развития и промышленного прогресса, который был достигнут коммунистическим обществом. (Так же, как и на другой стороне немецкая армия является мерилом и суммой технического промышленного прогресса в современной Германии). Сами русские тоже всегда считали так. Вполне справедливо, что это подтверждает непредвзятый, объективный свидетель, свидетель характера того, как реагирует и сопротивляется коммунистическая армия при столкновении с немецкой армией, свидетель того поведения, как сражаются индустриализируемые крестьяне, специализированные рабочие, большая масса стахановцев советской революции.
Среди этих мертвецов, говорил я, лежат двое русских. Больших, сильных, с длинными руками. Их светлые, ясные глаза широко раскрыты. Это два специалиста, два рабочих-стахановца. Несколько немецких солдат молча рассматривают их. Один из них осматривается в поисках цветов; в ниве есть только несколько красных цветов, что-то вроде мака. Солдат медлит перед этими цветами; потом он вырывает пучок колосьев и прикрывает им лица обоих погибших. Другие солдаты смотрят молчаливо, они грызут кусок хлеба.
(Хорошенько рассмотрите их, этих мертвецов, этих мертвых татар, этих мертвых русских. Это новые трупы, совершенно «новые». Только что поставленные большой фабрикой пятилетки. Посмотрите на их глаза, какие они светлые и ясные. Узкий лоб, рот с сильными губами. Крестьяне? Рабочие? Это трудящиеся, специалисты, ударники. Из какого-то из тысяч и тысяч колхозов, из какого-то из тысяч и тысяч заводов Советского Союза. Посмотрите внимательно на их лоб: узкий, жестко решительный. Все они такие. Серийно произведенные. Они все похожи друг на друга. Это новая раса, жесткая раса. Трупы рабочих, которые пострадали в результате несчастного случая на своем рабочем месте). Подвижная звуковещательная станция снова начинает хрипеть: «Я люблю тебя так сильно...» Солдаты смеются. Они сидят на крыльях грузовиков, на спине танков, их ноги свисают вниз в люки. Они едят. В этих колоннах нет определенного часа для трапез. Тут едят, когда есть время. У каждого солдата есть при себе солдатский хлеб, свой джем, свой термос с чаем. Время от времени, даже во время боя, солдат достает из своего вещмешка ломоть хлеба, намазывает его джемом, подносит ко рту одной рукой, пока другая держит штурвал или сжимает приклад пулемета. Офицеры едят с солдатами, как солдаты. «Я люблю тебя так сильно...», каркает подвижная звуковещательная станция.
Воздух мягок. Хлебные колосья колышутся на ветру. Соевые поля шумят как шелестящий шелк; леса подсолнухов медленно поворачиваются на своих высоких стеблях вслед за солнцем, медленно открывают свой большой желтый глаз. Величественные белые облака перекатываются по небу. Русские солдаты спят, вытянувшись в бороздах, с лицами, накрытыми колосьями хлеба.
На холме напротив вздымаются высокие фонтаны земли под русскими снарядами. Один из отставших от своих русских, скрывшись в ниве, делает несколько скудных выстрелов из винтовки. Пули с тихим визжанием хлещут над нашими головами. Солдаты смеются, едят и смеются. Двигатели грохочут. Лица солдат, их руки, выглядят более красными, полными жизни, более нежными в контрасте со всей этой бронированной сталью.
7. Красная ферма
Скуратово, 8 июля
Мы останемся на целый день в этой усадьбе. Наконец, несколько часов отдыха. Мы находимся примерно в десяти километрах к северо-востоку от Братушени, между деревнями Кетрушика Нова и Кетрушика Стара. Место, где находится усадьба, называется Скуратово, вероятно, усадьба как раз и дала имя этому месту. Издали Скуратово представляется взгляду как роща или, пожалуй, лучше как парк виллы под Венецией. Только парк окружен не стеной, как в Венеции, а забором из штакетника. Дома, конюшни, другие здания имения не видны издалека, настолько они низкие, согнувшиеся под тяжелым зеленым грузом листвы деревьев. Все же, если приблизиться (это было сегодня в половине четвертого утра, когда наша колонна, оставив слева Кетрушику Нову, достигла окрестностей Скуратово), постепенно между деревьями замечаешь, как появляются крыши, светятся стены домов, конюшен, сараев. Вокруг бесконечно простирается земля, волнистая как море хлеба: чудесный, исключительно женственный ландшафт в гармоничности своих форм, из-за плодородия своего лона, из-за материнского, того готового к материнству, что содержат в себе нивы, когда предстоит жатва. Мы въехали на двор. Никого. Хозяйство казалось покинутым. Пестрая семья уток, кур, кошек исчезла при нашем появлении. Собака с тремя маленькими щенками, которых она как раз кормила грудью, смотрела на нас, не двигаясь. Она лежала на небольшой кучке соломы у стены конюшни; поднимающееся солнце постепенно распространялось на стене как масляное пятно. Но воздух был холоден. Теперь ветер, утихомирившийся в середине ночи, медленно просыпался с длительной дрожью. Пока мы шли через двор, пожилой мужчина появился в дверях конюшни. И за углом сенника обнаружились женщины и дети, и, наконец, мужчина примерно сорока лет, который вел на поводе впряженную в телегу лошадь. Они, как было заметно, были смертельно усталыми, они, кажется, возвращались домой после долгой и тяжелой работы. Лица бледные от переутомления, покрытые засохшей глиной, в волосах солома. Я подумал, что они, конечно, убежали в поля, два или три дня прятались в страхе среди колосьев, когда фронт продвигался от Шофрынкан к Братушени, а оттуда к Скуратово. Теперь они вернулись и нашли свое имущество целым, дома, конюшни, сараи для запасов нетронутыми.
Меня удивляло, даже почти обижало их равнодушие. Они вовсе не казались ошеломленными, они даже, кажется, не радовались. Они также не говорили нам «Доброе утро». Старик снял свою высокую шапку из овечьей шерсти, другие смотрели на нас; потом все отвернулись, дети убежали через двор, девушки исчезали за зданием, мужчина выпряг лошадь и пошел к конюшне. Старик приблизился ко мне, перекрестился, сказал мне по-русски «доброе утро» и сразу потом добавил еще по-румынски «sanatate».
Это советская ферма, подумал я. Только несколько часов назад большевики покинули это место, всего несколько часов эта область уже не подчиняется советским законам; всего несколько часов. Эти деревни, эта усадьба больше не принадлежат к экономической, политической и социальной системе Советского Союза. Структура, организация коммунистического господства еще исправна; еще не было времени, чтобы искоренить советский след, стереть линии коммунистической архитектуры. Эта ферма представляется мне в этот момент, на немного мгновений, думал я, так, как на немного мгновений тела Атридов представились глазам Генриха Шлимана, когда он вошел в царские могилы в Микенах, прежде чем они рассыпались в пыль. Я хочу хорошо рассмотреть их, как только возможно подробно. Потому что эта усадьба – это ячейка экономического и общественного советского организма, нетронутый, совершенный микрокосм коммунистического общества, сельского хозяйства Советского Союза. Неожиданная удача досталась мне, можно сказать, испытать передачу этой ячейки от социального, политического и экономического советского механизма к другому; наблюдать эту метаморфозу в ее критическом мгновении. Это было неповторимое мгновение, которое я переживал теперь: исторически неповторимый опыт. Из коммунистического общества я мог воспринимать в этой «ячейке» только сумму подробностей. Но как раз из подробностей (о которых я хотел бы сообщать объективно, без полемического намерения; полемическая позиция была бы здесь абсолютно неуместной), как раз из наблюдаемых вблизи деталей, даже из самых незначительных, можно извлечь смысл такой метаморфозы, гораздо лучше, чем из далекой и широкой перспективы.
В то время как колонна устраивает позицию для отдыха (даже позиция для отдыха является боевым порядком), и солдаты маскируют свои серо-стальные машины вязанками колосьев пшеницы и ржи, связками подсолнухов и стеблей сои, и устраивают тут и там в полях маленькие противотанковые пушки и зенитные пулеметы (машины штаба устраивают себе стоянку на большом дворе за главным корпусом под защитой нескольких рядов деревьев), я совершаю прогулку по усадьбе и наблюдаю за тем, что происходит вокруг меня.
Слева при входе во двор есть здание, конюшня. Я останавливаюсь у двери. Перед кормовым корытом, полным сена, корова, спокойно жуя, поднимает на меня взгляд. Конюшня в беспорядке. Сено вразброс валяется на земле, вилы, опрокинутые ведра тут и там. Я снова выхожу и оказываюсь перед стариком, которого я заметил еще раньше. Мужчина и девушка на другом конце двора запрягают в телегу двух худых лошадок с длинными гривами. Мужчине около сорока лет, его движения медленны. У девушки жесткое лицо, энергичное, умное, она движется резко, почти гневно. Она даже не смотрит в мою сторону. Женщина появляется у двери дома, она не причесана, лицо запачкано глиной, глаза покрасневшие и распухшие. Она пристально смотрит на меня, потом поворачивается и закрывает за собой дверь. Я спрашиваю старика о том, где сеновал. – Здесь, – говорит он, – но он пуст. – У вас больше нет сена? Действительно нет? – Нет, господин.
Собственно, он говорит не «нет, господин», а «нет, товарищ». Однако он немедленно добавляет по-румынски: «Nu domnule». Потом он бормочет несколько слов по-немецки, которые я не понимаю.
– Русские солдаты забрали сено, – говорит он.
– Здесь была большевистская кавалерия?
– Здесь нет, но в Кетрушике Нове. У них было много лошадей. Они собрали все сено из всех усадьб и дворов в окрестности. И мое тоже.
– Они вам за него заплатили?
– Конечно.
– Они заплатили справкой о реквизиции или деньгами?
– Они дали мне талон.
– И как вам его оплатят?
– В Шофрынканы, в сборном пункте приема.
– В Шофрынканы теперь немцы. Коммунисты ушли. Вы этого не знаете?
– Да, я знаю. Вы думаете, пункт приема урожая тоже исчез?
– Прежний да. Но мы быстро устроим новый.
– Тот же пункт приема?
– Не тот же, но другой.
Старик рассматривает меня. Он говорит по-русски: – Да, да, я понимаю. Потом он добавляет по-румынски: «Eh, intzeleg», я понимаю. Видно, что он размышляет, что он старается понять. Но, кажется, он не очень озабочен своим талоном, которым он не сможет воспользоваться. У меня возникает впечатление, что он думает о чем-то другом, о чем-то менее определенном, но более серьезном, более срочном. Рядом с конюшней находится большое помещение, что-то вроде зернохранилища. Почти все помещение покрыто горой маленьких круглых темно-серых семечек. Я спрашиваю старика, как они называют эти семена, для чего они употребляются. – Это масляные семечки, – отвечает он. Это, должно быть, соевые семена. К одной стене прислоняется высокая стопка пустых мешков; на противоположной стене стоит ряд полных мешков. – Мы как раз собирались наполнять мешки, – поясняет старик, – но нам пришлось прервать работу. Мы должны были уйти отсюда.