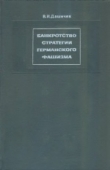Текст книги "Волга рождается в Европе (ЛП)"
Автор книги: Курцио Малапарте
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Солдат спокойно обратился ко мне, улыбаясь, на своем наивном и полном непонятных финских слов немецком языке. Он рассказал мне, что искусственные острова, если смотреть вблизи, действительно похожи на морских черепах: при самом тихом шуме они поднимают голову над ледовой коркой, осматриваются вокруг яркими глазами прожекторов и начинают подметать ледяную равнину яростными пулеметными очередями. Он говорил мне, что русские матросы смелы, но слишком сильно направлены на технику. (Он хотел этим сказать, что их техническая специализация им мешает. Этот финский солдат был рабочим, для его внимания факты технического вида как раз представлялись помехой, которая возникает для рабочего из его специализации, если он вынужден делать работу, специалистом в которой он не является). Они так передвигаются на льду, по этой бесконечной ледяной равнине, как если бы они находились на палубе броненосного крейсера. Как будто они озабочены тем, чтобы не препятствовать движениям пушек, аппаратов и оружия на борту корабля. Они слишком сильно связаны со своим кораблем, чтобы они могли бы вести войну разведывательно-поисковых групп на поверхности моря, которая является свободной войной, войной не только максимальной подвижности, максимальной свободой маневра, но одновременно также «командной» войной. (Он, естественно, понимал команду как рабочий, как заводскую группу рабочих, не в военном смысле). Солдат, с которым я говорил, был молодым человеком примерно тридцати лет; он работал до войны на целлюлозной фабрике в Хямеэнлинне во внутренней части Финляндии. Я заметил в его словах, в его жестах, в его спокойном и серьезном выражении лица, в его прямом и открытом взгляде общую черту всех этих финнов, любого класса: черту однозначной традиции самоуправления, социальной организации и технического прогресса. В его словах звучало что-то вроде горького обвинения по отношению к рабочим и солдатам СССР. Он как будто упрекал противника за то, что те называют себя коммунистами, ссылаются на Маркса и Ленина, и демонстрируют при этом абсолютное непонимание той разнообразной пользы, которую получил финский народ от своей социальной организации. – Финляндия, – говорил он, – не народ капиталистов; это народ рабочих. Как всегда, как для каждого финского рабочего, эта проблема для него была проблемой совести, социальной совести. И я впервые, когда разговаривал с этим солдатом в «Лоттоле» у Терийоки, почувствовал, что стоит за этой войной финнов против Советского Союза: сознание бороться не только, чтобы защитить территорию государства, но и за свои социальные достижения, свою честь и свободу рабочих.
Позже мы вышли наружу, мы шли вдоль берега моря. В нескольких сотнях метров за заграждениями из колючей проволоки позавчера произошел бой между разведывательными группами. Мы дошли до места этого боя, ощупью осторожно искали дорогу между деревянными колышками, которые отграничивают минные поля. Лед был засеян оружием, шапками, пальто и меховыми рукавицами, расколотыми лыжами: всем, что осталось от поисковой группы из двадцати кронштадтских матросов, которые, вероятно, заблудились в пурге, вероятно, надеялись застать финские посты врасплох. Я поднял шапку русского матроса, сзади с которой еще свисали две темно-синие ленты. Лента с именем корабля была снята, вероятно, самим матросом, прежде чем он отправился в рейд. Как печальны эти скудные остатки на застывшей ледяной поверхности моря. Как остатки кораблекрушения экспедиции к Ледовитому океану, которые затвердевшее море спустя много лет выталкивает на поверхность пакового льда: неожиданные, трагические свидетельства. Когда мы возвращаемся, начинает идти снег. Ландшафт окутывает себя. В мягком отблеске снега я вижу предметы, трещины во льду, самые маленькие детали как будто увеличенные линзой, с чрезвычайной резкостью. Одинокий ботинок, расколотая лыжа, спичечный коробок с серпом и молотом на этикетке, след валенка, комок черных от крови бинтов в сплетении проволочного заграждения, и на берегу, рядом с его оружием, пулеметчик, который спокойно, с полузакрытыми глазами, сморщенным, морщинистым ртом курит свою сигарету. На дороге мимо нас скользят группы стрелков-лыжников, «Sissit», и приветствуют нас улыбками. Голос тяжелых орудий Кронштадта глухо звучит над морем, ритм взрывов постепенно становится более оживленным, попадания тут и там в лесу Терийоки приближаются. Воздух дрожит, как будто огненные глотки пушек Кронштадта произносят тайные, таинственные слова, полные робкой, стеснительной, стыдливой силы.
25. Рабочая кровь
Белоостров, апрель
Из Терийоки я поздно вечером возвратился в Александровку, и я спал в «корсу» командования участка, когда глухой грохот сильного обстрела тяжелых орудий поднялся над Ленинградом. Было два часа ночи. Я выпрыгнул из своей кровати и выбежал наружу. Погода снова была ясная. Блеск луны золотил огромную площадь лесов Карелии, лежал над светящейся белизной снега. Небо над юго-западными пригородами было сплошным заревом пожара. Канонада была сильна в районе Урицка, в месте нахождения металлургического Путиловского завода, Кировского завода, металлургического завода имени 25 октября, доменных печей завода имени Ворошилова. Из траншей перед Александровкой берег Терийоки, напротив Кронштадта и справа от нас (отсюда по прямой всего несколько километров до Терийоки), не виден, он скрыт от взгляда легким возвышением местности, на которой и стоит сама Александровка. Все же, небо и в направлении Кронштадта было медно-красным, рассеченным длинными вертикальными черными полосами, наверное, столбами дыма.
Дальнобойная артиллерия флота Кронштадта (в могущественном хоре отчетливо слышались голоса тяжелых орудий обоих больших советских броненосных крейсеров «Марат» и «Октябрьская революция») отвечала на огонь немецких мортир сильным ответным огнем, который с каждой минутой становился яростнее и плотнее. Купол церкви Александровки выделялся жестким и острым контуром на фоне раскалено красного неба. Это был внушительный спектакль, сцена дикой, голой и насильственной красоты, с которой странно контрастировало глубокое молчание, которое нависло над финскими траншеями. Солдаты передвигались вокруг меня без шума, они тихо говорили друг с другом. Слышно было только легкое скольжение лыж по снегу, сопение лошадей из загона в лесу, сухой треск замков орудий, которые артиллеристы готовили на случай заградительного огня при возможном нападении противника. Но и советские позиции, в паре сотен метров перед нами, тоже лежали в самом глубоком молчании. Ни голоса, ни выстрела. Даже не было неразличимых шумов, последовательности коротких, металлических звуков (удар винтовочного приклада по кухонной посуде, по брустверу траншеи, по ящику с боеприпасами), которые сообщают о тревоге, беспокойстве, неуверенном, боязливом ожидании последней подготовки. Без сомнения, русские пехотинцы тоже поднимали в этот момент взгляд над низкой обратной стеной котлованов, в сторону города, чтобы рассмотреть сцену артобстрела. Иногда облака красных искр поднимались над районом Урицка, похожие на огромные рои светлячков: внезапно сильные деревья дыма поднялись вверх и сразу рухнули, как мощные гейзеры.
Артобстрел города из-за его ужасных воздействий даже отдаленно не напоминает обстрел траншейной позиции. Даже если бы дома могли состоять из мертвой, инертной материи, то все равно это выглядит так, как будто обстрел вдыхает в них судорожную жизнь, передает им могущественную жизненную силу. Грохот взрывов между стенами домов и дворцов, между кулисами зданий, на опустошенных улицах и местах, звучит как хриплый, беспрерывный, ужасающий вой. Дома будто сами ревели от страха, вскакивая, изгибаясь в огне, ломаясь в вихре или взрывах. В примечательных высказываниях Каструччо Кастракани, синьора Лукки, о которых рассказывает Макиавелли на последних страницах своей «Vita di Castruccio» («Жизнь Каструччо»), есть описание, которое потом присвоил себе Пиранделло. Это картина «домов, которые хотели бы убежать из их собственных дверей, когда они чувствуют приближение землетрясения». Перед моим еще заспанным духом, проникнутым ужасом этого вида, стояла картина домов и заводов Урицка, которые, полные ужаса, убегают из собственных дверей (полуголые дома, с развевающимися волосами в вихре дыма и искр, с широко раскрытыми глазами, прижимающие руки к вискам, с раскрытыми ртами, так они с криком вырывались из своих собственных дверей, в трескающиеся взрывы, в пурпурном отблеске пожаров), это накладывалось тут на не менее внушительную картину неподвижно сидящих в траншеях перед нами солдат, которые поворачивали взгляд назад на лежащий в агонии город.
Для нас, которые не заключены во вражескую клетку осады, для тех, кто, как мы, следим за трагедией издали, агония Ленинграда теперь больше не может быть ничем другим, как ужасным спектаклем. Спектаклем, и ничем иным. Трагедия этого города так велика, имеет такие сверхчеловеческие пропорции, что участвовать в ней можно только зрительно. Не существует христианского ощущения, сострадания, сочувствия, которое было бы так велико, так глубоко, что оно могло бы осознать такую трагедию и сочувствовать ей. Ее природа – как природа некоторых сцен у Эсхила и у Шекспира: дух зрителя как бы побежден такой большой, такой громадной силой, стоит как бы перед нечеловеческим спектаклем, вне природы и человеческого существа, даже вне истории человеческих фактов. И есть что-то необычайное в том, что коммунисты могут тоже взирать на такую трагедию, что они могут испытывать ее как человеческое происшествие, как человеческий факт, как элемент их учения, их логики, их жизни. Потому что из объяснений всех пленных и всех перебежчиков (включая около двадцати испанских коммунистов, которые после крушения Красной Испании убежали в Россию и несколько дней назад попали в плен здесь на фронте) следует однозначный, бесспорный факт: трагедия Ленинграда – это для коммунистического менталитета лишь естественный и логичный эпизод в классовой борьбе, которую основные действующие лица переживают с твердой волей и даже без тени ужаса. Я всегда очень интересовался тем экземпляром человека, которого создал коммунизм. Что удивило меня в России больше всего, были не только социальные и технические достижения, внешние контуры коллективного общества, но куда больше его внутренние, сердцевинные элементы, еще больше экземпляр человек, «машина человек», созданный за двадцать лет марксистской дисциплины, стахановского движения, бескомпромиссности ленинизма. Меня удивляла моральная сила коммунистов, их абстрактность, их безразличие к боли и смерти.
Я говорю, само собой разумеется, о чистых коммунистах, верных коммунистах, не о том необозримом классе функционеров партии и профсоюзных организаций, служащих государства и промышленных и сельскохозяйственных трестов, которые в России под новым именем и в новых формах увековечивают слабости, эгоизм и жалкие компромиссы прежней мелкой буржуазии, одним словом, которые увековечивают характерную обломовщину русской мелкой буржуазии.
«Заданием моей жизни является преодолевать Обломова», так писал Ленин. Обломов – это герой знаменитого романа Гончарова, который воплощает лень, инертность, фатализм русской буржуазии, все то, из-за чего слово «обломовщина» вошло в поговорку. Коммунисты, которые защищают Ленинград, созданы из совсем другого материала, чем эти бесчисленные обломовы в партии и государстве. Эти экстремисты, фанатики, «жесткие». В Европе только очень смутно представляют, на что способна идея, безжалостный фанатизм «жестких» коммунистов.
Рабочие и матросы штурмовых бригад истекают кровью в последние несколько дней во время яростных атак против немецкого фронта осады, от Шлиссельбурга до Петергофа. Артобстрел, который докрасна раскалил небо над городом, это не что иное, как немецкий заградительный огонь в тылу наступающих бригад. Борьба в высшей степени трудна, потери русских ужасны. Штурмовые бригады пытаются проломать кольцо осады, или они надеются, что, по крайней мере, помешают немецким исходным позициям, что оттянут этим весеннее наступление. Большая часть наступающей пехоты состоит из частей регулярной армии, Красной армии; но ядро штурмовых подразделений было образованно из рабочих и матросов. Это бойня профессиональных рабочих, стахановцев, техников: цвета советского промышленного рабочего класса.
Если задуматься над усилиями, учебой, жертвами, заботами, годами и годами технического отбора, которые требуются, чтобы из простого крестьянина, простого подсобного рабочего, простого сельскохозяйственного рабочего, любого фабричного рабочего сделать квалифицированного профессионального рабочего, «техника» в настоящем, в современном смысле этого слова, тогда можно оцепенеть при мысли об этой гекатомбе рабочих, лучших рабочих Советского Союза. Столица революции, советская «Гора», интернациональная «коммуна» – это Ленинград, не Москва. И как раз здесь, в Ленинграде (больше чем в любой другой части бесконечного русского фронта), рабочие борются и умирают за защиту революции.
26. Так бродят мертвецы по пустым домам
Куоккала, напротив Кронштадта, апрель
В прошлом году во время югославского похода я провел Пасху у турок на острове Адакале на Дунае, чтобы своими глазами увидеть прорыв Железных Ворот. Немецкие штурмовые отряды перешли реку и неожиданно овладели сербским берегом; я остался на острове и ждал лодку, которая должна была привезти меня на румынский берег. Это было умеренно теплое и ясное воскресенье. Я огорченно бродил среди этих усердных турок, в жирном аромате рахат-лукума в витринах сотен маленьких кондитерских лавок и в превосходном аромате того белого табака, который в восточных странах называют бородой султана. В эти военные дни в Адакале нечего было есть, и я должен был довольствоваться двумя коробками рахат-лукума и несколькими маленькими чашками кофе. В этом году я провел счастливую Пасху в траншеях Терийоки, Келломяки и Куоккалы, на фронте Кронштадта, с финскими солдатами. И впервые, с тех пор как я нахожусь на фронте осады Ленинграда, небо было ясным и чистым, безоблачным, без малейшего следа тумана. Я провел ночь на вилле, занятой командованием участка Келломяки, которая до революции принадлежала одной аристократической петербургской семье. Дом был построен не из березы и полярной сосны, как большинство вилл на этом самом элегантном пляже царской резиденции, а из камня и кирпичей. Внутренняя часть обставлена в том забавном плохом вкусе, роскошном, странном, фривольном, который характерен для русских домов второй половины прошлого века. Вкус, который, в отличие от итальянского, французского или немецкого, не изменился существенно в начале двадцатого столетия, а остался неизменным, остановился на пороге нашего века и склонился только лишь перед грацией и кокетством начинающегося модерна. Стены из фальшивого мрамора, колонны из штукатурки с позолоченными капителями, большие, очень высокие печи из белого кафеля, с классическими барельефами (минервы в золотых шлемах, двуглавые орлы, странные монограммы, вплетенные между дворянскими коронами, зеленовато-синие эмалированные гербы, голые ангелы, такие, которых я бы по-русски назвала «беспартийными»), предоставили мне самый спокойный сон, который был у меня с конца февраля.
Я смертельно устал после трудного дня на фронте Александровки, куда я сопровождал моего друга графа Фоксу, испанского посланника в Хельсинки, который прибыл туда, чтобы допросить некоторых из плененных финнами красных испанцев. Нам приготовили временную постель на зеленом ковре огромного бильярдного стола с гигантскими точеными ножками, которые выглядели как купола храма Василия Блаженного на Красной Площади в Москве; лежа сбоку от посланника Испании, я думал об этих минервах, этих орлах, этих гербах, позолоченных капителях, и о счастливой и трагической жизни дворянства царской России.
Вилла командования участка Келломяки лежит всего в двухстах метрах от самого переднего края: всю ночь пулеметы пели хор лягушек Аристофана; советские разведгруппы тут и там тщетно пытались грызть финские позиции; пушки острова Тотлебен с интервалами обстреливали дорогу на Куоккалу: все же, ни тарахтение пулеметов, ни грохот пушек среднего калибра не могли вырвать нас из сна. Около семи часов утра нас разбудил радостный крик «hyvää Pääsiäistä», веселой Пасхи, который финские офицеры на командном пункте кричали друг другу. Майор Л. (которого все здесь называют его прозвищем Виппа) пришел передать нам поздравления и принес два больших бокала, полных коньяка. У нас кружилась голова, когда мы с капитаном Леппо, лейтенантом Свардстрёмом и лейтенантом Курьенсаари отправились в путь в Куоккалу, чтобы пожелать веселой Пасхи «старику Репину». Граф Фокса – поэт с самым тонким современным вкусом, человек культуры; он точно знал, что я хотел сказать своей фразой «пожелать старику Репину веселой Пасхи».
Так мы шагали вдоль моря, по краю траншей. Перед выкопанными в снегу «корсу» брились солдаты, с голым торсом, перед ними повешенные на стволах деревьев или поставленные на лафетах противотанковых пушек маленькие зеркала. Когда мы проходили, они с намыленными щеками смотрели на нас и любезно говорили «hyvää Pääsiäistä!» Стаи собак с растрепанной серой шкуркой, собаки «Sissit» и артиллеристов, бежали по льду вдоль проволочных заграждений и лаяли; из печей столовых «Лоттала» уже поднимались коринфские колонны светлого дыма и объявляли солдатам, что чай готов. Это была Пасха, Пасха с изобилием солнца, счастливый день. И радостное настроение было у всех, солнце блестело на ледяном панцире, который покрывал море, на медных оболочках снарядов противотанковых пушек, на стволах пулеметов. Далекое жужжание спускалось с чистого синего неба, белые снежинки противовоздушной обороны изображали путь трех советских машин с серебристыми крыльями в блеске солнца. Любое чувство опасности, чувство войны, таяло в свежем тепле этого весеннего солнца.
После полутора часов пути мы достигли Куоккалу, любимый пляж русских деятелей искусства поколения Тургенева, Чайковского, Чехова, Андреева. Мне говорили, что в Куоккале, в парке своей виллы, похоронен Репин, самый великий русский художник. Капитан Леппо, который еще знал Репина, обещал мне, что проведет меня, чтобы «пожелать счастливой Пасхи» доброму старому Илье Ефимовичу. Время от времени хорошо открывать окно в гладкой и плотной стене войны; и рассматривать оттуда тайный ландшафт, который каждый из нас несет в себе, чистый и ясный мир. Даже если окно выходит на могилу, открывается на мир мертвецов. На этой жестокой, немилосердной социальной войне один час с Репиным, с великим стариком в его могиле, под огнем пушек Кронштадта, казался мне моим долгом, не только перед Репиным, но и перед самим собой.
В немногих шагах в стороне от морского берега посреди плотного парка черных елей, сосен медного цвета и белых берез лежит вилла Репина: деревянная постройка, в той странной русской архитектуре первых лет этого столетия, которая уже напоминает о декорациях Бакста для балетов Дягилева; большой дом, с выдающимися вперед и отступающими назад частями, с изгибами и кантами, с широкими подковообразными окнами, с выдолбленными из блока здания террасами, и наверху на крыше, вместо обычного купола, высокая пирамида из стволов деревьев. «Православная» архитектура, хотел бы я сказать, в том смысле, который русские вкладывают в слово «православная». Это дом странного и своенравного духа, дом художника: но, все же, русского художника, который тесно связан с его временем и с судьбой его поколения. На фасаде большевики во время короткого оккупации Куоккалы в 1940-41 годах установили деревянную памятную доску, с выжженной надгробной надписью: «В этом доме жил Илья Ефимович Репин, великий русский художник, родился в 1844, умер в 1930 году».
Мы входим. И уже в вестибюле нас встречает странный ландшафт, который разворачивает свои тайные перспективы, грацию своих капризных и милых интерьеров, резных деревянных рам вокруг окна и дверей, большой белой изразцовой печи. Из вестибюля мы входим в освещенную широкими окнами комнату, где нас торжественно и печально, под латунным подсвечником с раскрашенным фарфоровым колоколом, встречает стол с огромными резными ножками в форме когтистых львиных лап. На окнах еще висят занавески из поблекшего и изношенного полотна, на земле лежат пыльные остатки растрепанных и бесцветных персидских ковров. В углу комнаты спит кресло с круглыми ножками, которые перетекают в изящные человеческие ноги, они напоминают ноги женщины. Странное впечатление производит эта своеобразная мебель на меня, которая уже так близка к сюрреалистической мебели Сальвадора Дали, так близка к скульптурам Джакометти, пластичным машинам Архипенко, столам и стульям с женскими ногами, спинками с резными девичьими грудями, креслами, похожими на сидящих девушек, которые населяют, а не меблируют интерьеры Юго для «Орфея» Кокто, пейзажи художников-сюрреалистов, фотографии Макса Эрнста. То, что сюрреализм перенял из вкуса Fin de siècle Европы последних лет правления королевы Виктории, из вкуса напыщенного буржуазного века Фальера, Д'Аннунцио, Жана Лоррена, наследие, которое не может отрицать даже Сальвадор Дали; особенное обаяние есть в том, чтобы здесь, в доме Репина, под гром пушек Кронштадта, в этом пригороде Ленинграда, обнаружить предков, непосредственных предков очень явно выраженной магической и фрейдистской сюрреалистической мебели. Илья Ефимович Репин это, без сомнения, до сегодняшнего дня самый выдающийся русский художник. В сравнении с живописью Запада искусство Репина обладает, несомненно, более культурно-исторической, чем художественной ценностью: но все-таки это искусство современников Толстого, Достоевского, Мусоргского, и оно обладает тайным смыслом этого времени, фоном горькой и жестокой печали (даже в его самых парижских тонах, в его акцентах Гойи из вторых рук, в его светской элегантности).
Я вспоминаю, как я в Москве и Ленинграде стоял перед его картинами, пораженный и почти опечаленный его полной близостью с его временем, с судьбой его поколения, с судьбой его народа. Мне показалось, будто я понял, что в нем заранее была решена русская трагедия. То, что он в своей живописи, вероятно, со слишком большой легкостью, решил самые многослойные и самые драматические проблемы его времени и будущего. Что-то вроде Кейзерлинга живописи, так сказать, что-то вроде Бердяева.
Может быть, что его величие, самый чистый звук его природы и его искусства, состоит как раз в этой его очевидной моральной легкости. И, все же, коммунистическая революция октября 1917 года, и крушение царской империи, и большое бедствие его народа были также для него, как и для столь многих других, как даже для Леонида Андреева, мучительной неожиданностью, внезапным пробуждением; кажется, что до тех пор Репин ничего не постиг из судьбы своего поколения. Он убежал из Петербурга, приехал сюда в Куоккалу на финской земле, на удалении всего двух или трех километров от новой русской границы, куда двумя месяцами раньше убежал Ленин, чтобы ускользнуть от полиции Керенского. Репин не захотел больше вернуться назад к своему народу, но не сумел и отделиться от него. Здесь он умер, здесь в своем деревянном доме; и теперь он спит в тени деревьев его парка, под огнем русских батарей острова Тотлебен. Мы вступаем в большой зал, мы стоим перед высоким мутным зеркалом. Ничто не впечатляет больше, чем это мертвое невредимое зеркало в большом ледяном помещении. На покрытой налетом и морщинистой от старости стеклянной поверхности собственной рукой Репина нарисовано несколько нежных бледных цветов в розовых, желтых, зеленых, фиолетовых тонах. У этих призраков цветов – естественно, я думаю о «призраке розы» – в этот час, в этом месте, при этих обстоятельствах есть чрезвычайная сила магического заклинания. Кто садится рядом с зеркалом на широкую кушетку без спинки и подлокотников, которая стоит под зеркалом возле лестницы, тот увидит в помутневшем стекле косо за блеклыми, призрачными цветами картину комнаты, ее ромбовидные перспективы, свисающую с потолка керосиновую лампу, большую изразцовую печь с зелеными и синими дисками эмали, придуманный и изготовленный Репиным стол для закусок (круглый стол, с колесом в центре, который начинает вращаться при самом тихом толчке), мебель с капризными цветочными волютами, поблекшими и потрепанными обоями, и снаружи перед окнами деревья парка, желтые пятна солнца на яркой белой снежной поверхности, бледное небо из синеватой бумаги, и сзади в комнате, на лежащей в полумраке стене, он медленно заметит как бы выходящую из синей пыли древней ночи голову Эзопа, которую рисовал Веласкес, и которая хранится в музее Прадо в Мадриде. Потом мы поднимаемся по деревянной лестнице на верхний этаж и вступаем в мастерскую Репина: в ясном холодном свете зенита, спускающемся с окон на потолке, мне представляются две висящие на стене посмертные маски из гипса; в одной я узнаю маску Петра Великого, его бычьи глазницы, его надменные усы, его тяжелые губы, его вульгарный нос, жесткий упрямый лоб. Кого представляет другая маска, я не знаю; я, пожалуй, ошибся бы, сказав, что это маска Гоголя. За массивной изразцовой печью стоит, зажатый между печью и стеной и наполовину скрытый, гипсовый бюст. Это изображение девушки, работа Павла Трубецкого. В рукавах фонариком, в высокой прическе, в жесте прислоненной к щеке руки, в движении плеч, на приветливом, чуть сморщенном лбу лежит вся грация раннего миланского Трубецкого. Это магическое женское присутствие в опустошенном доме здесь на крутом обрыве войны, как бы парящего на подоконнике, особенно волнует меня. Это тайное присутствие, скульптура женщины с таинственным и непроизносимым именем.
Я на несколько минут остаюсь один в ателье художника. В ясном и холодном свете я медленными шагами вперед-назад, как будто у меня завязаны глаза. Война стучит мягкими пальцами в стекла, Это глухой рокот, эхо далекого грохота. Спокойный порядок, точная гармоничность еще живет между этими голыми стенами; это картина, которая отражает дух большого художника, неизгладимый след на предметах, в ландшафте человеческих вещей. Время от времени звук, голос, скрип придают этой мертвой тишине акцент живого. По прошествии некоторого времени эта странная тишина запутывает и огорчает меня. Это молчание в засаде, почти угрожающее. Я прислоняю лоб к стеклу, смотрю через окно на берег Кронштадта, который лежит там, высокий и белый, как утесы Дувра, большой зеленый купол собора, нефтяные баки, дым, поднимающийся над арсеналом. Там Тотлебен, совсем близко, немного слева от меня, с отвесными, пробитыми амбразурами казематов флангами. Иногда короткий свист, острый, как лезвие бритвы, вытесняет блики солнца на ледяном панцире моря. Треск взрыва в глубине леса, за Куоккалой, мягко, как волна, скользит над стволами деревьев. На улице скользят мимо нас санные поезда и группы стрелков-лыжников. Кусок штукатурки отделяется от карниза белой изразцовой печи. С глухим звуком он падает на дощатый пол. Дом Репина умирает, часть за частью, постепенно. Я покидаю мастерскую почти в бегстве, выхожу на террасу, на которой спал Репин. Она – спальня художника: открытая веранда, окруженная балюстрадой с маленькими резными деревянными колоннами. Репин за всю свою жизнь, за все свои восемьдесят шесть лет, никогда не спал в комнате. Даже в путешествиях, в Париже, в Берлине, в Вене он вытягивал кровать на балкон. Самой глубокой русской зимой, с ее морозом в тридцать, сорок градусов ниже нуля, Репин растягивался под открытым небом на своей постели: это была не настоящая кровать, а что-то вроде кушетки без спинки. Он спал, так сказать, растянувшись на краю горизонта. У него был ужас перед закрытым помещением, страх перед тюрьмой. Типично русский ужас. Русский народ как птица, которая поглотила свою собственную клетку. Типичное стремление к побегу, ужас перед закрытым – это не что иное, как обратная сторона его любви к тюрьме: стремление взломать тюрьму, которую он носит в себе, но не стремление вырваться из нее. Это то противоречие, из которого состоит русская душа, «широкая натура» русских.
Голос граф Фокса зовет меня из парка. – Пойдем посетить могилу Репина, – зовет он меня. Мы бредем между деревьями и по колено проваливаемся в снег. Могила должна быть где-то там, над ней должен возвышаться большой голый крест. Мы напрасно бродим вокруг, ищем в путанице парка. Наконец, на поляне, сзади нас, я, кажется, обнаруживаю что-то похожее на холм. Это и есть могила. Креста на ней больше нет. Большевики убрали крест и соорудили на холме, по своему обычаю, деревянную стелу, на которой выжжено имя Репина, его год рождения – 1844, и год смерти – 1930. Это так, как будто бы он мертв уже сто лет. Как далек этот мир, как далеко в прошлом осталось это время. Он был современником великих русских гениев девятнадцатого века, он пережил Толстого, Достоевского, Тургенева, Мусоргского. Он пережил также смерть Репина, он пережил себя самого. Он умер в эмиграции, но больше в эмиграции от своего времени, своего мира, чем от своего народа. Настоящая его могила не здесь, между деревьями парка, под сооруженной большевиками деревянной стелой: Репин похоронен в зеркале, в том магическом ослепшем от возраста и морщинистом зеркале, под бледной, призрачной тенью цветов, которые он рисовал в свои молодые годы, под духами этих юных цветов.
Мы склоняем голову перед этим покрытым снегом холмом, и я вслух говорю Репину традиционное пасхальное приветствие русских: – Христос воскрес! Де Фокса тихо отвечает тоже по-русски: – Воистину воскрес. Канонада звучит с той стороны деревьев, пулемет тихо гогочет за последними домами Куоккалы. И, все же, нет человеческого звука, который мог бы сломать тишину этой могилы.
Мы возвращаемся, и я еще раз вхожу в покинутый дом. Я поднимаюсь на меандры лестниц, открываю десять, двадцать дверей, останавливаюсь в голом лабиринте комнат и коридоров. Все безумие, вся неизвестность, все беспокойство русского духа есть в этом доме, который построен как «Boîte à Surprises“, шкатулка с секретами. Всякий раз, когда я распахиваю дверь, мне кажется, будто какая-то секретная пружина пустила в ход мелодию музыкальной шкатулки. Это дом, который был построен, как кажется, специально для магических заклинаний, для невидимых присутствий, для призраков вещей.